Текст книги "Записки сенатора"
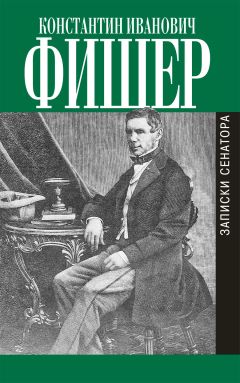
Автор книги: Константин Фишер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава VII
Мой плохой почерк является препятствием к поездке с князем Меншиковым за границу – Усердное занятие чистописанием устраняет это препятствие – Неосторожное слово и его последствия – Путешествие и рассказы князя Меншикова – Подробности смерти Моро – Пребывание в Карлсбаде – Князь Меттерних – Графиня Разумовская – Оригинальный разговор ее с Меншиковым – Объяснение ее с князем Рейс – Киселева – Ее выходка
В 1833 году государь, собираясь в Мюнхенгрец и желая видеть там князя Меншикова, позволил ему взять с собой чиновника, который мог бы быть и писарем. Князь, предупредив меня о том еще в марте, изъявил сожаление, что не может взять меня оттого, что у меня дурной почерк (он был едва разборчив). Каково было мое положение? Путешествие за границу, идеал недосягаемый, лежит передо мной, и я не могу завладеть им; я испытывал участь Тантала, но как боги на меня не гневались, то и окончилась она скорее, чем для Тантала. Я принялся писать, чистописать, часа по четыре в день. Когда мне казалось, что почерк мой чист, я воспользовался поручением написать указ капитулу, переписал его сам и подал с прочими докладами князю. Он никогда не любил почерка кантонистов; увидя указ, он с любопытством спросил:
– Кто это переписывал?
– Находите, ваше сиятельство, что нехорошо переписано?
– Напротив, прекрасно.
– Это я писал.
– Давно ли за вами такая добродетель? – спросил меня князь.
– Началась с тех пор, – отвечал я, – как вы сказали, что почерк мой препятствует мне быть с вами за границею.
– Поедемте, поедемте! – кончил князь.
И поехали. О, восторг!
Но в Мюнхенгрец я все-таки не попал! По особому глупому случаю. Князь поехал прежде в Карлсбад, через Дрезден (где мы останавливались). Там, гуляя с графом Фелпедичем, с которым я сблизился, я употребил в разговоре имя государя, который путешествовал инкогнито. Едва я выговорил слово l'empereur, обратился ко мне с испугом один из гулявших перед нами – это был князь Меншиков. Дома он не мог скрыть некоторой принужденности и, когда пришлось ему ехать в Мюнхенгрец, он оставил меня в Дрездене и потом велел мне ехать в Штеттин ожидать его, и в Мюнхенгрец поехал один. Я убежден, что князь Меншиков опять струсил, чтоб я не проговорился, «не наделал коммеражей» (любимое его выражение).
К моему великому счастью, во время первой поездки за границу железных дорог еще не было. Князь ехал в дормезе, один или со мною, шестериком, а за ним коляска парою, с его сыном 16 лет, со мной, или, когда я садился с князем, с камердинером; мы ехали по шоссе и по пескам; едали на станциях порядочно или довольствовались дурным супом, наслаждались видом местностей и скучали от медленной езды по однообразным равнинам Пруссии или подымаясь на горы в Богемии; словом, мы ощущали, мы были путешественниками, а не поклажею.
Проезжая через Саксонию, театр последних битв с Наполеоном, князь рассказывал мне подробности на местах, и как рассказывал! Это чистейший классицизм: ни одного отборного слова, ни одной гиперболы, ни восклицания. Речь лилась спокойно, просто, даже лениво, а между тем она отпечатывала во мне образы так глубоко, так отчетливо, что я в состоянии был подумать, что знаю не рассказанное, а виденное.
Тут в первый раз узнал я, что рассказ, будто Моро сказал государю: «Отодвиньтесь, в вас метят», а когда государь отодвинулся, то Моро был ранен ядром, – есть вымысел. Меншиков был в свите государя, как и Моро.
Государь, осмотрев позиции, повернулся и поскакал галопом со всею свитою; отъехав сажен сто, он заметил, что Моро нет, и послал Меншикова узнать, отчего он отстал. Меншиков нашел его лежащим без ног (или без ноги – не помню), поскакал доложить государю, который воротился и от Моро услышал, что ядро его ранило в то время, когда он поехал за государем, посмотрев еще с минуту на неприятеля.
В Дрездене и Карлсбаде мы были на самой короткой ноге; строго запрещено мне было титуловать князя; переезжая через Эльбу, мы садились в гондолу, как «обыкновенные смертные», сидели и ждали, пока подойдут другие пассажиры, и платили, как и все, по два или три гроша; в загородном кафе я острил с прислужницами, нисколько не церемонясь, что со мною мой министр, и князь хохотал беспрестанно. В Карлсбаде общество резко разделялось на два класса. Аристократия собиралась в Саксонском зале, а мещанство – в Богемском зале. На вечера или на балы первого дамы приезжали в низких платьях, кавалеры в башмаках и черных чулках (под длинными панталонами), с орденскими ленточками или цепочками в петлице. Князь Меншиков продевал цепочку, тянувшуюся от одной петли в другую и состоявшую из двенадцати звезд.
Здесь я видел князя Меттерниха, чистенького старичка небольшого роста, с серебристыми седыми волосами, между которыми было еще, может быть, пятая часть не поседевших. Может быть, при близком исследовании лица я открыл бы в нем черты гениальности и изящную дипломатическую отделку, но, сколько я мог разглядеть его мимоходом или когда он сидел за карточным столом, в его физиономии не видно было ни того ни другого: тщательная прическа, острая бритва и хитрые глаза; и в поступи не было ничего замечательного. Если бы я не знал никого из присутствовавших и мне предоставили бы отгадать, который из них Меттерних, я, не задумавшись, указал бы на князя Меншикова.
Видел тучного короля вюртембергского, который, подходя к дамам, выделывал ногами па, как в менуэте. Из русских дам были тогда в Карлсбаде Разумовская и Киселева.
Разумовская озадачивала меня несколько раз. В первый раз я увидел ее окруженною кавалерами, верхом на пылком вороном жеребце. Амазонка обращена была ко мне спиною, рослая, стройная, в черном платье, грациозно и смело сдерживающая коня, который не хотел стоять спокойно и грыз удила с лихорадочным нетерпением; другие всадники держались подле, ожидая чего-то, чтобы тронуться. Мне пришло неодолимое желание видеть лицо амазонки; я зашел почти бегом вперед, и далеко вперед, чтобы иметь более времени насладиться зрением лица, прекрасного, как я себя уверил; но каково было мое удивление, когда я увидел старуху за 60 лет, с огромным носом и с лицом грязно-желтого цвета, как старая незолоченая бронза. В другой раз князь Меншиков, гуляя со мной и с сыном, встретился с нею. Разумовская остановила князя и пригласила его представить ей сына.
– Скажите ему, что я его бабушка.
Князь сказал сыну:
– Графиня была супругою вашего двоюродного деда, который продал ее за 25 тысяч рублей…
– Неправда, негодяй уступил меня за 60 тысяч рублей.
И князь выговорил эту скандализировавшую меня фразу, как самое обыкновенное приветствие; графиня, выслушав ее как нечто тривиальное, отвечала спокойно и серьезно, глядя на мальчика так, как если бы она говорила ему, что в Дрездене не 25, а 60 тысяч жителей.
На бале Разумовская была дуэньей дам и вела себя прекрасно. В то время была там молоденькая красавица-княжна Абамелик (теперь Барятинская), с которою очень любезничал князь Рейс, сорок который – не помню. По прошествии трех или четырех недель Разумовская подозвала его к себе на бале и стала поздравлять с прекрасным выбором. Долговязый Рейс смутился и пробормотал, что он никакого выбора не делал.
– В таком случае, – сказала ему графиня, – ваше поведение невеликодушно; прелестная, милая девушка, прекрасной фамилии, могла бы сделать здесь хорошую партию, но молодые люди, видя перед собою такого соперника, как вы, князь, конечно, не решатся вступить в состязание.
Если же вы любезны с княжною со скуки, то я обязана предупредить вас, что эта девушка – выше орудия препровождения времени.
Князь Рейс на другой день уехал.
Не так вела себя Киселева. Она влюбилась в графа А. Г. Строганова (о вкусах спорить нельзя) и, когда он собирался ехать, она просила его остаться для нее. Получив отказ на бале, она отправилась топиться в речку Тепле, в которую фиакры въезжали для того, чтобы обмыть колеса. Страстная Киселева могла, стало быть, замочить только фалбалы на своем платье, что она и сделала. Я видел ее на обратном пути ночью в платье, которое билось с всплеском около ног и оставляло за собою мокрый след. На другое утро весь город видел окна ее завешанными турецкими шалями – красною, белою, черною и т. д. – по числу окошек. В знойные дни она раздевалась донага и прохаживалась по комнатам, – и тогда окна не завешивались. Впрочем, она жила во втором этаже на Alte Wiese, следовательно, без vis-a-vis, но с другой набережной, Neue Wiese, можно было видеть ее в зрительную трубу.
Глава VIII
Поездка с князем Меншиковым в Стокгольм – Король шведский Карл XIV, его семья и двор – Состав нашего посольства – Граф Сухтелен – Бодиско – Свита князя Меншикова – Глазенап и его курьезное объяснение с королем – Представление наше королевской фамилии – Мой разговор с королевой и объяснение с князем Меншиковым – Вечер при дворе – Веселого – Влияние на меня князя Меншикова – Холера – Государь на Сенной площади – Болезнь князя – Заботы о нем государя – Письмо государя к князю – Мое новое служебное назначение
В 1835 году князь послан был в Стокгольм благодарить короля Карла XIV за присылку чрезвычайного посла графа Левенгиельна к открытию Александровской колонны.
Карл XIV (Бернадот) был еще бодрый старик, сухощавый, довольно высокого роста, тонкой, хитрой физиономии с саркастическою улыбкою – принадлежностью всех очень узких губ – и очень просто одетый: в темно-синем мундире без шитья, с маленькими золотыми пуговицами и в высоких узких сапогах. Орлиный нос, курчавые, с проседью, стального цвета волосы и романский выговор представляли в нем чистый тип гасконца. Королева – толстая, полнокровная марселька, простых приемов и тип добродушия. Наследный принц Оскар – хорош собою, тоже чистый гасконец, с большим, чем у отца, выражением шарлатанства; вообще, по наружности он довольно близко подходил под тип Ивана Матвеевича Толстого или французского парикмахера. Супруга его, принцесса Лейхтенбергская, – прекрасная ростом и лицом, привлекательная всеми своими движениями, тон речи скромный, почти застенчивый.
Двор великолепный; разумеется, великолепие не в золоченых карнизах, а в осанке, приемах и наружности придворных. Первое место между ними занимал граф Браге, начальник штаба, смуглый, но чистый лицом, как по-блекнувший каррарский мрамор, рослый и стройный, лет за 50, рыцарской наружности, в голубом мундире с золотым шитьем по белому воротнику, в белых, с широким золотым лампасом, панталонах; на сапогах огромные золотые шпоры; на треугольной шляпе широкая золотая кокардная петля и трехцветный, сине-желто-белый, султан из страусовых перьев. Дам не было, – кроме двух-трех из свиты королевы и принцессы. Кроме нескольких голубых мундиров (генерал-адъютантских), державшихся у самого подножия тронного возвышения, на первой ступени которого стал король, стояла чуть далее группа кавалеров в синих фраках с форменными пуговицами и золотым кантом по бархатному отложному воротнику; это были полковники, вместе с тем камергеры. Браге отличался от всех не только важностью и рельефностью своей фигуры, но и золотою тростью, эмблемою штаба.
Нашу миссию представляли: граф Сухтелен, очень маленький и дряхлый старичок, бесцеремонный, безэтикетный, как будто выживший из ума. Он опоздал; король и королева были уже в тронной, когда прибыл Сухтелен; он подошел к королеве почти сзади, так, что она не заметила его приближения, взял ее руку и стал целовать ее скоро-скоро; поцеловал раз пять или шесть. Королева, обернувшись к нему, приветствовала его: «А, дорогой граф!» – таким тоном, каким приветствуют маленьких детей. Бодиско, советник посольства, – говорили, умный человек, – весьма невзрачного лица, но довольно видный ростом, воткнувший свою шею в огромный, тугой галстук до самых ушей. Был там еще другой Бодиско, полковник артиллерии, состоявший при нашей миссии, – какой-то шут краснощекий и молодящийся. Он сочинил себе мундир по своему вкусу; носил панталоны и шляпу, как шведские генерал-адъютанты, только с другими цветами перьев, и, застигнутый врасплох чрезвычайным посольством, явился в этом фантастическом костюме, к величайшему негодованию советника, его двоюродного брата или дяди. Он хотел, кажется, похвастать дипломатичностью своего тона, начав какую-то речь с графом Сухтеленом, в которой слово excellence составляло четыре пятых. Сухтелен, однако, прервал его словами: «Убирайтесь к черту с вашими сиятельствами, повеса!..» – и тот отступил, сконфуженный.
Мы выстроились в ряд, но не в иерархическом порядке. При князе были в свите капитан 1-го ранга Веселаго, толстый, необразованный, русский купчина по манерам, адъютанты Глазенап (теперь главный командир Черноморского флота) и Веригин; чиновник министерства иностранных дел, молоденький, хорошенький Кудрявский и я. Пароходом командовал Тверинов, хороший моряк, но необразованный, как мужик, и с тоном речи хуже, – у мужика что-то скромное, мягкое, у Тверинова – угрюмо-дерзкое и ничего не уважающее. Бодиско, взятый на пароход за его фамилию; Окулов, лейтенант, сын русского плац-майора, женившегося на финляндке, которая воспроизвела свой тип на сыне: широкое мещански-румяное лицо, огромные, широкие зубы, большие, очень светло-голубые глаза с белыми ресницами и бровями; в тоне что-то наивно-нахальное, – и Краббе (нынешний управляющий морским министерством), исправлявший должность шута.
Князь Меншиков называл королю каждого. Король остановился перед Глазенапом, у которого вся грудь завешана была крестами русскими: Станислава, Анны, Владимира и Георгия.
– Поздравляю вас, – сказал ему король, – вы так молоды и уже пожалованы многими орденами.
Глазенап был очень наивен, он стал объяснять королю, за что он получил каждую декорацию.
– Георгиевский крест, ваше величество, дан мне за 25 кампаний, но я их не сделал; я сделал два раза кругосветное плавание, и это считается за 24 кампании, потому что их было 12; этот мне дан, потому что я сопровождал принца N.N. в Мемель, а тот, потому что я провожал принца N.N. в Штеттин, – и так далее в этом роде.
Князь стоял как на угольях, судороги корчили его лицо, а король выставлял более и более сарказма на уста свои, по мере своего назидания речью Глазенапа, который так углубился в номенклатуру своих подвигов, что не замечал ни высочайшей улыбки, ни светлейших гримас. Когда он кончил, король, проходя к следующему, сказал, сохраняя ту же улыбку: «Заслуга и доблесть не ждут числа лет», – чем Глазенап был очень доволен и с сладкою улыбкою отвесил низкий поклон.
После того представляли нас королеве, наследному принцу и принцессе; пока одни представлялись одной особе, другие – другой. Принцесса пошла с «хазового конца», но тут-то и напала на Веселаго и Тверинова; в недоумении она пошла далее, пропустив нескольких, и остановилась перед Окуловым, заключив, вероятно, из смело устремленных на нее огромных бело-голубых глаз, что он по-французски собаку съел. Она с ним заговорила, а этот во все горло прокомандовал ей: «Jag talar icke franska, jad talar pa svenska». Так как Стокгольм открыто изъявлял свои претензии за то, что кронпринцесса не говорит по-шведски, то она от такого ответа совсем переконфузилась. Между тем в свите был Веригин, образованный и очень остроумный; случилось, что с ним никто не заговорил.
Не знаю, отчего выбор королевы пал на меня, безъэполетного, в невзрачном адмиралтейском мундире. Она спросила меня, был ли я в Марселе? Я отвечал, что не был, но что воображение мое так занято прелестями южной Франции… и т. п. Королева вошла в экстаз, и разговор наш заставил короля ждать, потому что прием кончился. Взор мой встретился с князем; я видел на лице его беспокойство. Когда я воротился домой, князь прибежал ко мне.
– Любезный, как вы могли задерживать вашею болтливостью весь двор и о чем могли вы так долго говорить королеве?
Мне стало досадно, я отвечал ему: «Мне было бы довольно трудно назначить королеве предел ее разговора; что касается предмета разговора, то, не имея столько орденов, как Глазенап, я не имел случая говорить о политике и говорил только о саксонской Швейцарии».
Князь обрадовался, что не было говорено «о политике», – и после полуночи вошел в нашу комнату, где мы, четверо свиты его, ужинали. Князь пресерьезно сказал мне:
– Константин Иванович! Одевайтесь скорее! Королева прислала за вами ездового.
За приемом нам подавали чай; чашки китайского фарфора были расставлены на золоченой пирамиде, вроде старинных плато для конфет. Веригин советовал мне не брать чашки, предостерегая меня от локтей моих ловких товарищей; я последовал этому совету, и мы двое не пили чаю. На другой день был бал. Князь Меншиков уговаривал храброго Тверинова держаться подальше, – но моряку этому море было по колено. Он пригласил фрейлину на мазурку и танцевал с нею, как медведь в зимних сапогах. После бала собрались все в нашей «свитской» комнате. Князь пенял Тверинову.
– Ничего, ваша светлость, ведь я недурно «откалывал» мазурку и по-французски говорил, да, говорил! Je marie, и дети есть, да, quatre! – при этом он поднял руку, прижал большой палец к ладони, а остальные четыре пальца растопырил.
– Ну, полно, братец, – сказал князь, совершенно растерявшийся.
– Ничего, ваша светлость, фрейлина прехорошенькая; я ее смешил.
Через два дня был приглашен к обеду Веселаго. Король извинялся, что не может приглашать всю свиту, потому что этикет не допускал к королевской трапезе лиц чином ниже полковника. Вечером Веселаго рассказывал:
– А я сидел между камергерами, да по-французски так и катал, так и катал! – хвастал он, сопровождая свои слова движением руки, как бы играя на контрабасе.
Князь страдал мученическими муками, а я думал себе: ништо, поделом. Затем прислали нам ложу в оперу, и мы обедали у Сухтелена и у Браге. Вежливость шведских придворных того времени была замечательной тонкости и изящества; женщины – все красавицы, даже и служанки: темно-синие глаза, черные брови и темные волосы, при белизне лица ослепительной. Притом очень впечатлительны и, как бы сказать, без предрассудков. Дегалет, которого я было забыл, сделал эффект своею греческою красотою, и красавица, в полном смысле слова, графиня Гюльденстольпе (кажется) удостоила его своей благосклонности до самых крайних пределов, подарив ему при прощании перстень с бирюзою, рублей в десять.
Так, мало-помалу, приобретал я политическую опытность и самостоятельный круг деятельности. Будучи простым орудием чужой воли, я старался трудом приобрести способность годного орудия. Рассуждения и прения с князем, в которых я был настолько тверд, чтобы не уступать своих убеждений воле начальства, а начальник – столь благороден, чтобы не требовать от подчиненного дисциплины убеждений, укрепили мои силы. Пользуясь светом ума и опорой благородства этого начальника, я твердел в убеждениях, и мои душевные влечения приобретали больший простор. Во мне рождалась полная самостоятельность; к 30 годам я был еще только темным спутником большой планеты, но мои духовные движения избавились уже от господствующего влияния планетной силы.
1831-й год посвятил меня в некоторые таинства царского сердца. Когда государь получил известие о бунте на Сенной площади, он забыл холеру, опасность и кордоны, сел в коляску с Меншиковым и Казарским и поскакал в Петербург, где по громкому слову государя: «На колени!» – бунтующая пятитысячная толпа опустилась на колени, как одна сплошная масса. По возвращении в Петергоф, уже около одиннадцати часов вечера, государь прямо из коляски вошел в Монплезир в хлоровую ванну, чтобы не занести заразы в семейство, и его спутники сделали то же.
У Меншикова в этот день начинал развиваться припадок подагры, это сопровождалось сильным жаром, и Арендт объявил государю, что Меншиков находится на крайней степени опасности. Государь обнаружил величайшую тревожность, приезжал иногда два раза в день справляться, спрашивал Дегалета и меня, при встречах на улице, о здоровье князя, и когда князю стало получше, он приезжал к нему, садился у его постели, вынимал из кармана донесения о ходе усмирения польского мятежа и читал их вслух.
Кто бы думал, что государь был так сильно озабочен – после той уверенности, какую он чувствовал еще за год до того. В 1830 году молния ударила в павильон Адмиралтейства. Князь Меншиков писал ему: «Флагшток разгромлен вдребезги, но флаг Вашего Императорского Величества остался невредим». Это обстоятельство было весьма естественно. Флаг бывает или шелковый, или шерстяной; в том и другом случае – не из проводников электричества, но государь принял это в другом смысле. Он написал на записке князя: «Слава Богу, слава нам, это знак Божий!»
Теперь, год спустя, тот же государь изливал перед Меншиковым, со всею живостью своей души, заботы и огорчения.
– Дай Бог, дай Бог, – говорил он с жаром, – чтобы это бедствие скорее прекратилось; только об этом молю Его.
Эти слова я слышал из соседней комнаты. В эту же эпоху его силы, когда генерал-фельдмаршал повергал к стопам его Варшаву, когда кабинеты великих держав несмело заявляли свои требования относительно прав усмиренной Польши, родился у него младший сын. Вот что написал государь на поздравительной записке князя Меншикова:
«Благодарю тебя, любезный князь. Еще одного слугу поставляю на службу России. Дай Бог, чтобы он был счастливее своего измученного отца!»
Показывая мне записку, князь Меншиков сказал:
– Посмотрите, это исторические слова.
Узнает ли история об этом выражении скорби государя, окруженного наружным величием?
С 1835 года поручена мне канцелярия комитета образования флота, преобразованная потом в канцелярию свода морских постановлений, и особенная канцелярия финляндского генерал-губернатора. Кроме того, за мной остались по морскому ведомству редакции всеподданнейших отчетов и мнений в Государственный совет и переписка, в которой неуместна была канцелярская стилистика.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































