Текст книги "Адам, Ева и Рязань. Записки о русском пространстве"
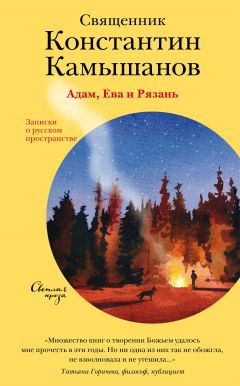
Автор книги: Константин Камышанов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Трудная Троица
Троица этого года выдалась странная. Церковь ликует и предвкушает торжество нового Завета Бога и человека. Ждет Духов день – день Любви. Земля-именинница цветами устремилась к небу, а небо дождями и радугами тянется к земле. И все бы хорошо, да беда в храме.
Отец настоятель попал в аварию и весь переломанный лежит в больнице. А его сын за два дня до Троицы разбился на мотоцикле насмерть. А отец не знает. Смерть сына произошла в день смерти матушки, которая умерла несколько лет назад. Народ в страхе говорит: «мать забрала».
Служба идет, а люди стоят скорбные и как бы пеняют Богу:
– За что? Если таких людей Ты, Господи, казнишь, то кто спасется? Где правда? В чем Суд Твой, Господи, скажи нам?!
Служба на Троицу длинная: после литургии – девятый час, за ним – длинная вечерня, да еще с молитвой на коленках. Молитвы такие длинные, и слова в них такие бесконечно высокие, а когда на сердце тяжело, стоять еще труднее. Чтец читает слова нараспев, как диктант в первом классе. Служба идет вязко, и я прихожу в волнение – надо оживить народ. Вот прочли Апостол и Евангелие, а после Евангелия священник имеет право сказать поучение. Выхожу и говорю:
– Все вы знаете, как наш любимый отец настоятель любит Троицу. Беседами о Троице он собрал большую часть из вас. И он просил меня передать вам привет и его благословение из больницы (а все ахают – он про сына-то не знает). И он сказал, что любовь Бога ничего не делает нам плохого. Все, что от Бога, – благо. Но не все мы можем понять Его замысел о нас. Любовь Бога та же самая и на этом свете, и на том. И весь мир стоит на бесконечной любви, которая, как сладкое вино Писания, веселит сердце, и от нее ликует душа. И в конце службы вы, может быть, тоже узнаете, как ликует сердце от этой бесконечной любви и как из него течет река живой воды. Потерпите. Если можете, то внимательно слушайте службу.
Народ вздохнул. И в этом вздохе было: как можно связать смерть и жизнь? Разве может отец не плакать и все доверить Богу?
Служу. В ектеньях делаю упор на блаженную кончину. Как подошло возглашение: «Иже херувимы тайно образующе», делаю интонацией и волнением акцент на всех таинственных местах, и чувствую – народ внимает.
Дошло дело до Пресуществления хлеба и вина в Кровь и Тело. Выделяю слова: «Сие есть Тело яже за вы ломимое…», «Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многие изливаемая…». И в конце службы стараюсь дать понять, что в словах «Святая святым» святые – они, и святая – им.
Причастились. Пошли к запивке. Разговорились. Стали сдержанно улыбаться.
* * *
Как быть? С одной стороны – радость неутолимая, а с другой – спорят, где у храма могилу семнадцатилетнему парню копать…
Перед тем как начать вечерню, вышел с крестом на амвон. По храму стоят роскошные пионы в трехлитровых банках, благоухают. Вода в этих зеленых сосудах светится и мерцает. И кажется, что в храме пионы и вода стали какими-то другими. Будто в них новая тайна. Будто они стали иконой земли. Говорю народу:
– Посмотрите на цветы в храме. Они светятся. Посмотрите друг на друга. На многих из вас свет упал – и вы светитесь, как цветы. У нас горе. Но что-то такое есть в воздухе, в духе церкви, что не пускает горе в сердце. Мы с трудом засовываем в сердце печаль, а она не лезет туда. Что это в нас? Черствость? Или наоборот, Бог пытается сказать нам что-то такое, что больше жизни и смерти? Не входит мрак в сердце. Выталкивается, как пробка из воды. Почему? Потому что нет ни нашей смерти, ни нашей жизни. Все – одна божественная жизнь. И ради этого пришел Христос. Ради этого и служба служится. В конце вечерни я должен благословить вас святой водой – но нет возможности терпеть, и я благословлю вас малым окроплением воды уже сейчас. Пусть наши души проснутся!
И запулил в народ воду пращой кропила. Вода сверкнула на солнце и упала на лица, а я продолжил:
– Вот, некоторые из ребят и мужиков стоят без цветов в руках. Боковые двери храма открыты, цветов у стен храма пропасть. Давайте, ребята, бегите на улицу, рвите букеты, а мы пока начнем. Бог всех нас утешает – верой, надеждой и любовью, как эту землю цветами. Берите в руки цветы, как память об утешении.
Мужики и дети пошли за цветами, нарвали мигом и снова встали в строй.
Перед коленопреклоненными молитвами говорю им:
– Мы, люди, себя сами знаем. Перед судьей на колени не встанем, ради денег на колени не встанем – а перед матерью или перед любимым можем. Бога мы все любим. Ему эти цветы, и Ему – честь и хвала от нашего коленопреклонения. Как встанете, так гляньте на сердце – и увидите благодать взаимной любви.
Сам я взял охапку белых пионов и приложил к трехсвечнику. В одной руке роскошные тяжелые цветы, в другой – свечи. Стою на коленях в царских вратах. Жара. Я взмок, сердце стучит, в голове шум, и где-то в глубине души боюсь, как бы не стукнул повторный инсульт. Слепень лезет под очки и целит в глаз. Алтарник меня защищает – проводит по лицу ладонью, прогоняя муху.
Встали с колен – и как гора с плеч. Тело от усталости исчезло, а дух ликует. Нет, инсульт в храме еще надо заслужить…
Вышел на амвон для проповеди. Народ устал, нельзя его томить, но в воздухе висит вопрос: «Как можно нам радоваться сейчас, когда парень погиб? Как понять Троицу в таком состоянии?»
– Все мы устали. Полдень, а мы еще в храме. Но вы все работные люди. Тело немощно, а что на сердце? Не будем спешить. На несколько секунд замолчим и глянем, что там.
Помолчали. Сердце тихо трепещет, сдержанно ликует. В нем нет ни одной тучки, оно сияет от радости. Что это?
– Это благодать. Это в нем сейчас Бог. Никто из храма не уходит такой, какой пришел. И мы трудились не зря. Такое состояние сердца не купишь. Так не наешься, и так не наспишься, и так не накупаешься, даже в море.
Похоже, как – мать обнимет.
Похоже, как – ребенок поцелует.
Похоже, как – друг в глаза глянет.
Только в тысячу раз лучше.
И благодать говорит, что смерть мальчика здесь – это его день рождения Там. Мы тут плачем и оглушены. А он в новой жизни будет торжествовать в этот день с Богом и ангелами. Часто наши чувства фальшивы. Что мы оплакиваем? То, что парня Бог обнимает? То, что смерти нет и нам умереть не удастся? Плачет наше сердце, которое не видит Бога. Вот сейчас я буду вас кропить – остановите мгновение, дайте сердцу волю и послушайте, что оно скажет.
И снова солнечные брызги взлетели вверх, там смешались с видом нарисованных звезд и рухнули вниз под взорами святых. Солнечные капли упали на народ – и он как всколыхнется! Заговорили, засмеялись. Дети закричали и пошли бегать по храму.
– Вот точно так же, как и мы, ликовали апостолы при сошествии Святого Духа. И мы как пьяные от радости. И ничего нет сильней этого вина Святого Духа. И так же апостолы, как и мы, не могли сдержать радости и шумели, каждый о своем. И мы шумим Божьей радостью.
Народ еще вздохнул.
* * *
Побежали ко мне дети – одни закрываются ладошками, другие тянут лицо. И все смеются. Остаток воды вылил на высокую бабушку, стоявшую в столпе света.
– Мать, ты вся светишься снаружи. Так светись еще и изнутри. Пусть всем будет твое почтение и милость.
Внучка обняла ей коленки и замерла в восторге:
– Ба!!!
– Вот, вы испытали сегодня то, что испытали апостолы. Держите благодать всегда на сердце. В ней сила. В ней радость. В ней жизнь. С ней нет смерти. Что ни будет случаться с вами, поворачивайте сердцем не туда, где горечь, а туда, где то, что сегодня вы узнали, – свет сердца. Наш батюшка весь истерзан и изломан. Наш дорогой мальчик завтра ляжет вот тут у храма. Но теперь мы точно знаем – все в надежных руках. И нас Бог любит. И ничего от Бога нет плохого. Даже смерть – когда-нибудь мы все узнаем и поймем, что и она была благом. Помоги нам, Господи, больше доверять Тебе.
Как кончил говорить, в храм хлынули комары и слепни. Народ на комаров рассердился. Вдруг от входной двери крикнули:
– Гадюка! Гадюка к храму приползла!
Народ повалил смотреть змею. Гадюка всех обрадовала.
– Зверь, а святость знает. День такой. Все свято. Говорят, что в Греции на Божий день гадюки к иконе Божией Матери приползают со всех сторон.
Вот змея, умная, как в Греции. Это малая благодать нашего села.
Гадюку бережно взяли палками, засунули в ведро и понесли в лес.
Я зашел в алтарь и подошел к алтарнику, который держал в руках кувшин с водой. Умылся. Приложил к лицу толстое махровое полотенце, взъерошил им волосы. И наступила прохлада…
* * *
Болящий мой собрат просил утешить народ. Кажется, утешил. Пошли домой веселые, разошлись в мгновение ока. Устали. В алтаре тихо. Густая тишина святого места. На жертвеннике стоит Чаша. На подоконнике в стеклянной колбе мерцает рубиновый кагор. Рядом с Чашей белеют две влажные просфорки. Солнце играет в огромных срубленных березах, расставленных по всему храму. У престола вздыхают пионы.
Над сонным и безлюдным селом разлился густой запах соснового леса. Жара все обездвижила. Исчезли люди. Заснули кошки и собаки. Одни неутомимые оводья и стрижи звенят и носятся в душном золотистом воздухе безмолвного села.
И где эта смерть? Где этот вечный страх будущего? Слава Богу, в голове нет ни одной мысли. Зачем? Ведь сердце само умеет думать. И оно знает: все меняется – к лучшему.
Горизонт
На море нельзя долго смотреть. Вина тому – полоска горизонта. Она абсолютно иррациональна. Море текучее и мягкое. Горы округлые и беспорядочно нагромождены над морем. По горам стоят лохматые сосны. По небу плывут перистые облака. Ни в чем нет правильной геометрии, живое и мертвое – это обузданный хаос. Вольница форм. И только математика, геометрия и философия дают нам жесткие иррациональные линии.
Самые авангардные церкви построены не на современном Западе, самые фантастические формы – у русских церквей классицизма. Куб. На кубе полусфера. На полусфере гайка. На гайке цилиндр. На цилиндре шарик. На шарике Крест. И все это – модель Космоса. Космос правильных форм фантастичен и запределен. Правильные формы мира – это нечто потустороннее.
Современная западная архитектура – это хаос поломанных форм, как зеркало надломленной божественной иерархии. Как взгляд на небо из тюрьмы хаоса, где царит разброд и шатание. Так рыбы видят солнце – в виде зеленой яичницы.
Западная архитектура ломает и соединяет формы в кажущемся абсурде, в то время как настоящий божественный «абсурд» – в иерархической гармонии.
Арифметика сфер – самое простое божественное основание Вселенной, которое мы хоть как-то можем видеть. Божественная алгебра или интегральное исчисление третьего неба нам непонятны в принципе. Геометрия сфер – это основание Престола Бога.
Так и полоса горизонта. Топорщится от ветра синяя чешуя. Месяц встал и падает обратно в волны. Спит чайка на камне у берега. Шумит ветер и треплет головы сосен. В руке мягкий хлеб и груша, каплевидная форма которой – апофеоз текучести. Все – живой джаз. И вдруг – фантастическая линия, до которой нельзя дойти, – горизонт.
Если долго смотреть на него, то такое впечатление, что ангел проколол сердце серебряной иглой. Пришли на сердце внезапный холод и беспричинная тревога.
Ну и ладно. Крутятся над нами аристотелевские хрустальные сферы небес, как вселенские шарниры. Перемалываются галактики, и пропадают в небытии звезды. Что сделаешь? Ничего.
Можно забыть о странной полосе над морем. Не думать о потусторонней арифметике форм храма. Но нет – они манят. С ними неуютно, а без них тоскливо.
* * *
Были на море неделю. Нашли такое место, где справа и слева на несколько километров никого нет. Ты и море. Ты и ветер. Ты и месяц.
Каждый вечер раскладывали костры у самой волны. Лежали на теплой гальке и смотрели, как падают звезды. Одни падали с хвостами в полнеба. Другие вспыхивали и умирали сразу. Мы молчим, и молчит небо. И без этого молчания нам никак нельзя.
То же молчание, когда стоишь в храме перед иконостасом. Идет служба, поет хор, и ему отвечает священник. А душа тиха и внимательна, и ей хорошо в этом молчании. В молчании и тихом веянии ветра лучше слышна речь Бога.
И Бог так устроил мир, что, куда ни глянь, везде косвенное упоминание о Нем. Эти горизонты и звезды прокалывают, как игла, пленку, которой покрыт наш видимый мир, и что-то запредельно правильное и красивое струится в этот прокол. То, без чего нам жить нельзя.
Здравствуй, Рим! Я вернулся
– Куесто бас ва але катакомбы ли Присцилла? – спросил я у водителя римского автобуса.
– Си.
Я сел на переднее сиденье.
Больше всего я хотел видеть в Риме Колизей и катакомбы. Есть два места в мире, два магнитных полюса земли – Рим и Соловки. Там пролилось столько крови христиан, что сама земля стала святыней… На Соловках я был и примерно представлял, как можно умереть летней белой ночью на берегу Белого моря. Там небо, море и земля как изнанка жемчужной раковины. Там наступает очарованность голосом неба и мерцанием моря, и ты забываешь прошлую жизнь.
Не знаю, как умирать в Риме. Возможно, на миру и смерть красна. Когда ревет стадион, хорошо «сделать» его и сказать:
– Велик и славен христианский Бог!
И упиться ревом трибун как твоей и Христовой победой.
Я думал, что когда приду в Колизей, то увижу там в центре арены крест, подойду к нему, упаду на землю крестом, поцелую землю и скажу Христу:
– Не умею пролить кровь. Прими слезу вместо крови.
Но оказалось, что арена разрыта, и вместо песчаного поля там руины, уходящие на три этажа в землю. И встать там никак нельзя.
Зато крест есть при входе – большой, деревянный, а на нем прибита медная дощечка с «ласточкиными хвостами». Это римский знак раба-отпущенника.
Толпа напирает. Лечь некуда и неудобно. Я встал на колени. Жена и дочь застеснялись и отошли, и сделали вид, что не со мной пришли. Стою на коленях и пою пасхальное – а спина словно дымится. Думаю, мне в спину дышат и удивляются как варвару.
Напирает толпа, толкаются. Я оборачиваюсь… За мной стоит на коленях человек десять.
Я встал. И они встали и говорят:
– Данке!
Больше ничего интересного в Колизее не было.
* * *
Еду в катакомбы и думаю – может, там увижу подсказку, как люди из смерти умели извлечь радость. Вдруг в передние двери входит старик. Настоящий итальянский старик: длинное черное пальто, красный шарф, черный берет, из-под берета длинные серебряные волосы, а в руках огромная трость-зонт. Чисто персонаж Феллини!
Я уступаю место. Старик благосклонно наклоняет голову и манерно спрашивает:
– Инглиз?
– Но. Русо.
– Русо!!!!
На моей голове тоже черный берет. Парусиновая куртка и красный шарф. Как еще должен одеваться русский?
А старик как закричит на весь автобус:
– Синьори, ест русо!
Синьоры и синьориты глянули. Я растерялся.
Старик вскочил и взмахнул руками:
– Русия – мон амор!
Синьори улыбнулись, и я подумал, что переход из статуса инглиза в статус русо в два раза повысил мою котировку.
– Си дове? Вы куда едет?
– Катакомбы.
– Синьори!!! Квесто русо – христиано! Меракле!
Он вскочил и обнял меня. А что? Наша вера – единственная конвертируемая валюта.
– Я воевать Сталинград. Меня брал плен. На Урал. Ваши женщина христиане кормить нас. Они давал мне картошка. И я плакал. Они настоящие матроны. Они спасал нас. Они святые. Я молился. И они молился. Вы их внук. Я хочу вас целовать. Синьори! Русо христиано – гранде христиано!
Он говорил что-то минут пятнадцать, и я радовался. Христос обнимал нас сразу всех: и уральских баб, и итальянца, и меня.
* * *
Катакомбы – это те же Киевские пещеры, но по бокам не только святые, а и могилы обычных граждан Рима. Экскурсовод что-то говорит по-английски, которого я почти не знаю, говорит как в театре, прижимая руки к сердцу и обмирая. Вышли в огромную пещеру, а в ней крест. Спрашиваю даму:
– Можно помолиться?
– Ес.
Я встал на колени:
– Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!
Оборачиваюсь, а пожилая пара немцев тоже стоит на коленях и поет. Я им:
– Кристо резурекси!
Они:
– Веро резурекси!
И мы засмеялись. И стал Рим как родной. Это всегда так: как постоял на службе в чужом городе, так он и стал родным.
* * *
Пошел на то место, где стоит базилика, в которой хранятся вериги апостола Петра. Вечер. Тихо плещет вода в фонтане. Умылся, попил, глянул на небо в барашках, и что-то подкатило к сердцу. Попытался понять словами, а оно само прорвалось:
– Здравствуй, Рим! Я вернулся.
Рим не мать. Рим не отец. Он как дед. Умный. Сильный. Настоящий.
Но Москва – не Третий Рим. Вообще ни разу не Рим.
Первый Рим – закон и честь человека на земле. Второй Рим – честь человека перед Богом. Третий Рим – это принцип, соединяющий честь человека и Бога на земле.
В Москве нет ни земной римской чести гражданина, ни небесной устремленности Константинополя. Москва – это сумбур, 1000 лет своеволия дворян, не слышавших ни о каком римском праве, схвативших Церковь за горло. Никакой Симфонии граждан, власти и Церкви. Только очаги святости, возникшие не «потому что», а «вопреки». В России свободными от дворянской власти варварских нобилей были только казаки, поморы и евреи. Как Рим может быть в рабстве? Наши нобили угробили страну тем, что позиционировали ее как христианскую державу, а правили как сатрапией. Народу говорили о Христе, а правили как стадом. И народ этого не простил. Наши патриции провалили миссию Третьего Рима. Но свой Колизей у нас есть – Соловки – место святой крови.
* * *
Забрел в Ботанический сад. Снег, бамбук, и в бамбуке – зеленый попугай.
А под огромным кактусом в бочке увидел брата – русского голубого кота. Стал ему мять ушки, чесать скулу, и вдруг – еще две руки и слова:
– Русский голубой. Это наш кот. Мы из Аргентины.
– Я сам русский.
– Коммунист?
– Христианин.
Они посмотрели на меня, и мы обнялись. И я стал что-то подозревать.
Италия – страна, где живут христиане. Такой пейзаж, такую Венецию и галерею Уффици может создать только народ, который любит Христа. Мы – один христианский народ.
На самом деле у нас давно уже нет границ. Наши границы – это границы денег и власти. Мы – один народ Европы. Мы – братья.
Мужество, сила, ясный дух, юмор и великодушие – это то, на чем стоят русские, немцы, итальянцы и все народы Божии.
Я шел по Трастевере – древнему кварталу Рима. Пил кофе на каменных приступках, смотрел на снег на мандаринах и думал: «А что? Рим – просто окраина Рязани».
Те же люди. Тот же кофе. Тот же Христос. Те же глаза людей. Женщины у нас красивее, а их мужчины фасонистей наших. А в целом мы – братья.
Италия вдохнула в меня надежду. Колизей и Рим обветшали, но в них стоит новый, свежесработанный крест со знаком вольноотпущенника. И Россия имеет свой крест. Он на нашей груди.
Если реку запрудить песком, то рано или поздно она промоет песок. Эту дамбу сначала промоют деньги – деньгам не нужны границы. Потом ее промоет наше братство. Нас гнули и убивали в Колизее и на Соловках. Но нет – не взяли.
У нас в Рязани полно неузнанных римлян. Они живут честно и ходят перед Богом правдой и силой. Мы все – последние ромеи.
Третий Рим непременно будет. А куда он денется?
Да пожалей же Ты меня, Господи!
Я не желаю быть оракулом. Не хочу также быть жрецом, прорицателем и предсказателем, волшебником или лидером секты, собравшейся на чудеса, фокусы и предсказания вокруг своего лидера. Я хочу быть священником – другом Христа и другом людей во Христе, без всяких шоу и гаданий.
Священнику не обязательны чудеса. Ему обязательна дружба с Богом, которой он может и должен научить народ.
Про чудеса святой Антоний сказал:
– Не имею чудес и не желаю.
И теперь я понимаю почему. Чудеса – это просто нормальные отношения с Богом, просто обычная жизнь в Боге.
Пришла дама и говорит:
– Меня врачи зарезать хотят. Научите, батюшка, премудрости Божией и как против них молиться.
– Слушай, клянусь, я не знаю молитвы против врачей. Я сам – больной человек. Я люблю врачей и преклоняюсь перед их терпением. Врачи – чисто священники. Они дарят нам счастье в телесном виде. Слова не скажу против этих избранников Божиих.
– Ну, это ясно, что провались я пропадом, ни один врач не заплачет. Но мне смерть пришла. Болит бок так, что умру я или от страха, или от боли.
– Где болит?
– Где почки.
– Я не доктор, но скажу тебе. Как схватил меня камень, я тоже думал, что смерть пришла. Камень пугает смертью, а сам из себя – ничто и баловство.
– Так научи молитве.
– А нет такого чина молитвенного о страждущем в дневном стационаре городской больницы. Молись сама как знаешь.
– Нет. Сама не могу. Хочу по-церковному.
– Ну, так езжай к старцам и старицам. Они тебе операции предскажут. А я ничего не знаю. Я гадать по Богу не умею и не хочу. Мне как дал Бог страсти больничные, так я и хвалю Его. Не знаю за что, а хвалю. Он умней меня.
– Мне страшно. Научите, как сами молились.
– Как сам… Ну, про себя скажу. Когда схватил меня почечный камень, тогда я прошел три страсти.
Первая страсть – насмешная. Лежу я себе в палате, на работу ходить не надо. Непривычно и жалко время тратить на эту больницу. Приходят ко мне вежливые мужчины-врачи и прекрасные дамы-доктора. Спрашивают здоровье. Искренне улыбаются. За руку берут. Сердце слушают и на крест на груди смотрят. Полдники всякие дают, а родня бананы и йогурты носит. Красота, но скучно и тоскливо.
Первую страсть тоски я борол акафистами. Лежишь и молишься, и уходит тоска, а день идет сладко. А акафисты такие: один – Иисусу Сладчайшему. Как читаешь: «Иисусе, каменю драгий, осияй мя», так сердце и сияет. Другой акафист – Богородице. Как прочтешь, так никакой профессор не страшен.
Вторая страсть – от страха. Начнут врачи находить в тебе всякие ужасы, начнут душу томить ожиданием, что зарежут. И чем дальше, тем хуже. Сидишь в коридорах с тусклой лампой. Коридоры крашены туалетной краской. Запах в них гнилостный и лекарственный. И душа боится. Тут не до акафистов. Тут проще. Молишься кратко. Я знаю, что Бог – Царь и Судья. Царь тот велик, кто благ и щедр. Плохих царей всегда легко узнать по приверженности к справедливости. Великий царь не только силен, но и всегда великодушен. Такому царю благость выше справедливости. Судья тот велик, кто не столько справедлив, сколько мудр и милостив. Ну, я так и молюсь, обращаюсь то к Царю, то к Судье. Судье припоминаю милость, а царю – щедроты: «Господи, Царю сильный, буди ми щедр. Господи, Судия строгий, буди ми милостив».
Третья страсть – боль и казни медицинские. Это когда режут и мучают в сознании и когда мука после ножа. Боль несносная. Режут и казнят без милости. Тут молиться нет сил. А надо. Без молитвы кроме тела еще и душа болит.
Первая моя молитва третьей казни детская. Я ее услышал от деревенского ребенка. Пятилетняя девочка Юляшка молилась так: «Ангел мой, будь со мной!»
Вторую молитву муки я узнал от Жанны д’Арк. Ее жгли, но умереть от костра она сразу не могла. Летописец пишет, что, пока она кричала, пешеход мог бы пройти Карлов мост в Праге туда и обратно. А это около сорока минут. Она молилась так:
– Иисус! Иисус! Иисус!
Мать, поверь, когда режут, нет сил на большее. И я так вздыхаю:
– Христос! Иисус!
Дышишь от боли часто. Даже задыхаешься. Озноб бьет. Холодный пот градом. А как скажешь, так солнце и прокатывается по душе, и боль отступает на миг. Так часами и потеешь, и страдаешь, в муке и силе.
Но я человек упрямый и казак. Сила меня гнет, но не ломает. Меня гнет Бог, а я Ему говорю:
– Гни! Бей! Казни по справедливости! Я заслужил. Ты прав. Но я знаю Твое слабое место. Ты терпеть не можешь силы любви. Сотри меня в порошок. Не заплачу. Казни меня всеми ножа ми. Не заплачу. Но если помилуешь и Другом будешь – не выдержу. Слезами умоюсь от Твоего великодушия.
Как так скажешь в муке, так и муке конец. Сначала душа перестает болеть. А потом и по телу разливается покойное тепло.
Но затем приходит испытание еще более тяжелое – душа изнемогает и уже не может молиться. Ни отчаяние. Ни надежда. А так – становишься как мертвый и просто уже ничего себе не просишь.
И вот лежишь в палате умученный. Уже душа отожжена молитвой. Уже вера держится только одним умом. Уже вере конец, а тут и скажешь:
– Да ПОЖАЛЕЙ ЖЕ Ты меня, Господи!
Может быть, это дерзко, но чувствую, как Бог слышит меня.
Мать, это не по Уставу. Это от моей муки, слез, крови, пота и отчаяния. Сам прошел и принял милость Бога, когда уже не ждал от Него ничего. Не ждал и сказал сам в себе:
– Молчишь, Боже? Молчи. Убей и сотри в порошок меня. А я все равно люблю Тебя, хотя бы и умом. Хотя бы и одной надеждой, которой уже и быть не должно.
Вот надежда умерла раз, и два, и десять раз. А я умом говорю Тебе:
– Верю, как Другу.
И то, что приходит за отчаянием, за пустотой после отчаяния, напоминает Книгу Иова: «Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. […] И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал… Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле»[2]2
См. Иов 38–42.
[Закрыть].
Мать! Как я скажу тебе слова эти и как ты их поймешь? Кто свою веру подарит другому?
Три муки я знаю. Смерть знаю наполовину. Чина страждущего в отделении горбольницы не ведаю. Что знал, то сказал. Добавлю только, что теперь скажу Богу:
– Ты умнее меня. Ты добрее меня. Ты сильнее меня.
Ты Сам Себя знаешь. Хочешь, убей меня. Я Тебе верю. Хочешь, казни меня. Положи на больничный матрас в вони и грязи. Я верю Тебе.
Хочешь, предай меня муке и страсти. Я верю Тебе.
Душа моя уже однажды отожглась до зела. Душа уже однажды отчаялась. Дух однажды уже угас. Только ум держал Тебя за руку. Я в муке нашел главное слово:
– Я верю Тебе.
Мать, я не знаю, как тебе все это благословить. Но, поверь, Бог нас любит. Сильно любит. Очень сильно любит. А ты – доченька Божия. Ничего не бойся и молись:
– Господи, да пожалей же Ты меня!
Он непременно улыбнется.
Но, мать, но не знаю, что тебе сказать по Уставу. Ехала бы ты к старцам. А я что? Просто рязанский поп. Там академия, а я только фельдшерский пункт. Там благодать, а у меня зеленка.
Не болей!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































