Текст книги "Адам, Ева и Рязань. Записки о русском пространстве"
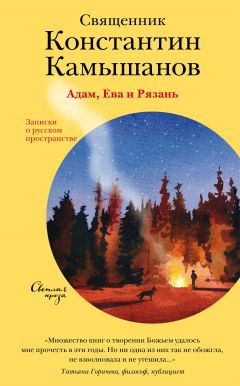
Автор книги: Константин Камышанов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Священник Камышанов Константин
Адам, Ева и Рязань.
Записки о русском пространстве
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р19-913-0501
© Камышанов К. Е., 2020
© ООО ТД «Никея», 2020
* * *
Время сирени
У нас нет праздника Картошки – нашего русского провинциального карнавала. Нет праздника Сирени, Спелых яблок, Первого снега, Капели и Мартовского света. Люди ходят по городу и задыхаются без братства праздника.
…Зашли в ночной автобус. Таджик уступил место моей жене. Я сказал ему: «спасибо». Он кивнул и отвернулся в ночь первого теплого дня этого года.
Пожилой мужчина уступил место даме средних лет. Парень уступил место девушке… В автобусе повис смех и легкая болтовня. А в воздухе города парило ожидание Всего Хорошего.
Вышли и пошли под липами, под огромными зелеными шарами лип. Под цветущими каштанами. В клубах запаха сирени. Этот запах забираешь полной грудью, он будит и тревожит ту часть души, которая всегда молодая. И хочется, чтобы время замерло.
А над сиренью, тюльпанами и моей головой нависло бархатное черное небо и предощущение счастья.
Такая мелочь – первый погожий день – внушил людям мысль о хорошем в себе. Если бы Богу было угодно нытье, то и мир бы лежал в сером дождливом мраке. Но природа говорит об обратном. Ее лучшие дни – это торжество света.
А бывает, зло висит в воздухе – и все это остро переживают. А когда таких дней много, вместо праздника люди принимают войну. Какие-то глубинные волны накатывают на всех нас, и мы, как щепки, поднимаемся и опускаемся по волне.
Что это за волны? Все их чувствуют, но никто не знает, откуда они приходят и куда уходят. Что-то есть такое большое, что качает всех нас, как ветер деревья.
Можно махнуть на это рукой, а можно быть просто внимательней ко Времени сирени. Бог нам как маяк, а волны – это волны жизни, о которой мы почти ничего не знаем.
Как нас видит Бог?
Как нас видит Бог и Его святые? Камеру за иконой не установишь. Зато есть глаза священника. Несколько раз в году бывают службы, как в древности – это когда священник служит посреди народа. Самая продолжительная из них – соборование. Примерно полтора часа мы смотрим друг другу в глаза и находимся лицом к лицу.
Когда я был мирским, то любил смотреть на лица людей у причастной Чаши. Одни люди подходят со слезами умиления. Другие со строгими и суровыми лицами. По третьим вообще ничего не поймешь. И редкие люди идут как на праздник.
В нашем городском соборе одна молодая мама подходила к Чаше с таким сияющим, спокойным и приветливым лицом, как может подходить настоящая принцесса к руке своего Отца. С радостной почтительностью и уверенностью в отеческом великодушии и любви.
Наши отношения с Богом выбирает не Бог. Мы их предлагаем Ему сами. Хотим быть любимыми? Он согласен. Хотим иметь строгого и сурового Отца? Он, вздохнув, соглашается. Хотим рыдать у Него на груди? Он принимает и наши слезы.
Но тогда я наблюдал за людьми со стороны, а теперь вижу эти лица близко – и они открыты.
* * *
Первое соборование ошеломило. Таких лиц никогда не бывает в миру. Ни в музее. Ни в кафе. Ни на свадьбе. Ни на море. Ни днем, ни ночью. Нигде.
Тогда, во время соборования, люди смотрели на меня – и не видели меня. Я был для них тень Бога, Его аватар. Это Ему они адресуют умилительные вздохи усталой души. Ему улыбаются и радуются. Ему плачут. Находясь в роли свидетеля при таинстве, я принимаю их исповедание веры через эмоции. Они говорят взглядами без слов. Высказываются взором.
И я понимаю, что этот взгляд – на Бога. Такими нас видит Бог. Эти вздохи, улыбки и слезы – не для людей. Эти лица не видят ни родные, ни друзья. Эти лица так откровенны только с Тем, Кому они могут доверить сердечную тайну и лучший цвет души.
И этот личный взгляд, устремленный на Бога, останавливается на мне как на друге Христа, которому Он доверил принять тайну, чтобы потом, в тишине, священник мог рассказать Ему о любви людей. Имея это в виду, люди просят:
– Батюшка, помолись обо мне!
Я хожу с елеем среди народа, стоящего в храме рядами. Они, как дети, закрывают глаза. Как дети, вздрагивают устами, когда к ним прикасается кисточка. Умилительно протягивают ладони для благословения. Окончив помазание, я слегка кланяюсь и отхожу к следующему. А они вводят ПИН-код верности:
– Спаси вас, Господи!
Сотни людей. Разные лица. Разные глаза. Разные ладони.
Широкие мощные натруженные ладони простых мужчин. Пухлые полупрозрачные ладони стариков. Восковые, как на иконах, длани детей.
Люди отодвигают ворот и подставляют под помазание грудь, тем самым как бы доверяют Богу и мне всю свою душу. И мое сердце вздрагивает от такого доверия.
* * *
Многие люди уверены, что они не красивы. Это неправда. Когда я, как священник и как художник, касаюсь их лиц кисточкой с елеем, я понимаю, как им рисовал лица Бог. Становится ясна гармония каждого лица. И, проходясь по этим линиям, словно заново входишь в дизайн-проект Бога о каждом из нас.
Однажды мне пришлось копировать икону Владимирской Божией Матери, и в какой-то момент я вдруг почувствовал, что руке очень хорошо скользить по этим плавным линиям. Баланс и скорость линий индуцировали во мне незнакомое ранее чувство гармонии чужого замысла. Я словно медленно разучивал слова новой молитвы или песни.
Через линию, цвет и форму неизвестный художник сообщил мне о своем чувстве и своем видении замысла Господа о Божией Матери.
Так и здесь. Мне привычна кисточка, она долго была моим инструментом. И я никак не ожидал, что благодаря этому инструменту я прикоснусь к рисунку Бога. Пробегаясь по чертам лиц христиан, я, словно ученик, скользил по рисунку Маэстро.
В конце соборования народ, словно овечки, устремились к Евангелию. Приклонили головы и слились в одно целое со священниками и Богом. Наступила кульминация, которую никто не может видеть, кроме Него. И если мне, простому священнику, было в радость видеть эту веру и надежду, то, я уверен, и Богу приятно видеть этот поток любви к Себе.
Мне пришлось оказаться среди силовых полей веры, надежды и любви. Встав между людьми и Богом, я узнал, как они смотрят друг на Друга. Я подсмотрел эту святость христиан, которую они берегут – и показывают одному только Богу.
Брат Собака
Я теперь знаю, зачем наши деревенские собаки сидят иногда у леса. Потому что одна собака, без человека, боится идти в лес гулять.
У меня нет выходных, а сил не хватает работать без отдыха. Пять дней архитектура, суббота и воскресенье – служба в храме. Не успеваю даже выспаться. Спасение – лес. После службы стараюсь не ложиться, а сразу за руль – и в Мещеру.
Сейчас в лесу «чернотроп». Черные, синие и бронзовые листья выстилают все лесные тропинки. Все лесные ходы видно – бобровые засаленные дороги от реки и едва видные натоптыши незнамо кого. Но часто встречаются и кабаньи покопы. А в прошлом году, говорят, в Деулино волки напали на мужика с ребенком. Мужик успел дитя поднять на крышу остановки, а сам погиб.
Я хожу в лес и ни разу не встретил крупного зверя. Так, лисы и по мелочи – бояться некого. Но в ночном лесу и в самом деле иногда страшновато. Лес после дневного оцепенения оживает в темноте – ночью в лесу шумно. Река звонко смеется и болтает многими переливистыми голосами. Сосны громко общаются между собой, уже не стесняясь человека. Иная жизнь явно чувствуется обнаженной душой – и тревожит ее.
Потом привыкаешь. И лес тогда начинает казаться не просто домом для птиц, зверей и деревьев. Наоборот, птицы, звери и растения видятся как часть его большого существа. Лес – как океан Солярис. Он молчаливый, вековечный, терпит от человека раны просек, язвы вырубок, пожары и битое стекло, замасленную воду, но не сдается. Деревни и хутора, брошенные людьми, затягиваются молодыми березками и иван-чаем. Лес не спешит. Он полон сил. Его приоткрытые веки всё видят. Он любит, когда с ним говорят. Местные грибники знают это – сорвав первый гриб, они целуют его и кланяются Лесу на четыре стороны.
* * *
Собаки иногда садятся на опушке при дороге и ждут попутчика. Я не знал этого, и мне показалось странным, что ухоженная собака увязалась за мной. Они ведь все ищут Хозяина. Мне не хотелось приваживать пса, и я несколько раз на него шумнул. Он очень удивился моей грубости, отошел подальше и продолжил идти по моему следу на разумном расстоянии.
– Хорошо, ладно, будь товарищем. Иди, угощу.
Он еще больше удивился.
Интересный пес. Маленький, ладный и очень вежливый. Сам себя знает. Собаки, они тоже разные. Этот – такой серьезный трезвый американец. Живой, стройный, мускулистый, с замечательными подвижными бровями, только не улыбчивый. Внимательный и предупредительный, он сразу обозначил, что идет со мной не потому что голоден или хочет, чтобы ему почесали за ухом. Он пошел ради важного Дела, требующего серьезности от нас двоих. Ему нужен товарищ.
Он прилежно нюхал следы, разгребал бобровую нору, скакал в высокой траве за мышью и поглядывал – вижу ли я, какого умного молодца взял с собой? Мы с ним еще пару раз ходили в лес. Но в деревне он делал вид, что не узнает меня.
* * *
Однажды выпали государственные праздники, и я в одиночестве зашел в лес особенно далеко. Забрел в дальний уголок речных палат реки Пры. Уже наступила ночь, когда я решил впервые перекусить. Сел на землю на промерзлом берегу, под огромной сосной, достал еду. Дул пронзительный черный ветер, и я укрылся за большим шершавым сосновым стволом, чтобы, не щурясь, посмотреть на Млечный Путь. Выпил чаю из солдатской кружки и лег на локоть. Стал слушать Лес и Реку.
Вдруг меня толкнули. Я обернулся. Огромный пес без звука еще раз толкнул меня плечом в плечо. Собака так себя не ведет. Но и волк тоже. Я не боюсь собак, я с ними как человек с человеком. Могу и извиниться, если что.
Но эта ведет себя как хулиган на улице, который толкает и задирается. Хулигана можно и стукнуть, но собаку – нет. Стыдно. Поэтому я в ответ просто толкнул пса в плечо и засмеялся:
– Ну ты, фулюган!
Собака отшатнулась и неожиданно вместо веселого задора и продолжения игры опустила голову. Как странно. Огромная псина стояла почти невидимая. И молчала. Мне стало сначала страшно, потом стыдно. Ведь этот пес – мой брат перед Богом. Нет у него ни денег, ни страховки, ни доктора, ни инструментов, а еду при пустых лапах найти надо. Это ведь в самом деле трудно. Все звери всю жизнь живут в стрессе от голода и страха. Голод и страх травмируют их. Вся жизнь – мука. Почему же не поделиться?
Дал ему половину еды. Пес опустил голову и стал водить мордой около сыра и колбасы. Он тыкался мимо, рядом, в мерзлую землю, в спутанную колючую траву. Он не мог найти еду, которая лежала у него перед носом. Он слепой!
Я отдал всю еду. Лег на землю, пригреб собаку, и мы обнялись. Оба согрелись. Оба молчали. Я понял, что пес пришел умирать, и, как мог, приголубил его пред концом. Он так и не издал ни одного звука. На его морде не дрогнула ни одна черта.
Я смотрел на звезды. Псина лежала головой у меня на груди с прикрытыми глазами и редко дышала. Мне некуда было ее брать, но я хотел бы довести ее хотя бы до деревни. Только она не пошла. Так стоя и растворилась в темноте, пока я выходил на тропу.
Стожар[1]1
Стожар – народное название некоторых созвездий, чаще всего так называли звездное скопление Плеяды.
[Закрыть] смотрелся в черную живую сталь реки. Светящееся синее стекло ночного неба дышало колючим холодом. Вздыхала река. Я вошел в лес со светлого берега в темноту, и макушки сосен сомкнули надо мной свои черные крылья. Гулко зашумел лес, встревоженный ветром. Стало абсолютно темно. И что-то странное бродило в душе.
Собака разделила со мной жизнь. А я разделил с ней смерть. У нас со зверями одна земля, и вместе мы не так одиноки…
Дура бабонька
У нас есть в лесопарке кафе, хозяйка там – мягкая, приветливая и по-русски сильная Мария Ивановна. Все решает по-доброму. Решила сделать пристройку и спрашивает меня как архитектора то да се. Поговорили, стали пить чай и беседовать про радость. Я ей говорю:
– Милость украшает жизнь чисто цветы. Помог человеку – и душа несколько дней именинница.
– Знаешь, отец Константин, а я уже год хожу и радуюсь. Однажды стою на остановке, и подходит ко мне мужчина, очень приличный, подходит и рассказывает, что лежал в госпитале, поиздержался. А теперь ему надо ехать в Сибирь, и не хватает на билет тысячи рублей. И все в сторону смотрит. Но вежливый такой. Я подумала и дала ему эту тысячу.
– Не догадалась, что на бутылку?
– Нет, не догадалась. Он благодарит, а я думаю: как же он без постели-то поедет? Дала денег на постель. И он пошел. А я тут сообразила – а чай-то как? Погналась за ним и даю денег на чай с питанием. А он до этого-то все время улыбался и в глаза не смотрел. А тут вдруг как упадет на колени: «Господи! Бабонька, откуда ж ты такая ДУРА!!! На таких, как ты, дурах, земля держится»… И землю поцеловал. И мне вот уже год смешно, что я дура, а на сердце хорошо.
И я ее благословил.
О доброй драме
Настоящее искусство – это искусство драмы. То, что снимает Голливуд, – это не драма, это продажа снов-монпансье. Драму делали греки. Драматургична вся их философия и вера. И мы, русские, приняли драму как наследие греков. Драма – наш национальный образ жизни. У нас нет философии. Но у нас есть нечто большее – драма поступка как идеал. Смерть ради любви и веры – наш максимум. Смерть ради красоты и правды желанна, и любезна, и красна.
Драма – вершина пирамиды. Актуализация любви, свободы и веры.
Слушал песни Визбора и думал о том, что он тоскует, страдает и мечтает о жизни-драме. Раб Божий Юрий Визбор тоскует о настоящей жизни и еще больше о настоящей смерти. Мы все об этом тоскуем. Мы, русские, поцелованы Древней Грецией. Нам нужна смерть красна. Я понимаю, не всем. Кому-то мила смерть в памперсе. Но главное русло нашей культуры духа – смерть ради чего-то высокого, что выше тебя.
* * *
Я родился и вырос на Кавказе. Как-то в пионерском лагере чеченец Иса – наш пионервожатый – пришел к нам в палату и тихо среди ночи стал с упоением рассказывать о том, как должен настоящий мужчина хранить честь и как прекрасна смерть ради чести. Я все это понял через 30 лет.
Древние народы знали, что такое смерть, а мы забыли и смысл смерти, и смысл античной драмы, подводящий не к физической смерти, а к смерти в себе несовершенного прежнего человека.
Драма – спутница жизни даже святых людей. Нет, точнее так: драма – спутница святых в наибольшей мере. Читая Иоанна Лествичника, плотской человек подумает о мазохизме монахов, которым доставляло удовольствие быть униженными, оскорбленными и голодными. И они правы. С мирской точки зрения все так и есть. Но эти люди не знакомы с основой греческой драмы – катарсисом. Катарсис есть возвышение над грехом и болью. Это добрая драма. Она не сокрушает личность, а возвышает.
* * *
Говорят, что Бог создал этот мир специально для нас. Нет. Он его создал для Себя. И нас Он создал для Себя. И создал Он нас такими, что наши составляющие части личности не могут обходиться друг без друга. Какой бы высокий и мощный ум ни был, он страдает без любви. Любовь пуста без жертвы, а жертва без ума и без любви – грех и потворство злу. Жертва – это реализация ума и любви в Боге. А все это вместе есть драма – гармоническое равновесие между зарождением и воплощением в нас Божественного начала воли.
Страдание не есть свойство одного зла или беды. Драма в Боге – это выход за пределы себя прежнего и несовершенного. Страдает математик в поисках формулы. Страдает художник. Страдает мать. И страдает даже зверь. Но выше всех страданий – страдания святых.
Вся жизнь святых – драма. Нет святых без драмы. Даже жизнелюбивый и радостный Серафим обрел Бога в драме. А Франциск Ассизский, несмотря на кажущуюся беспечность, всю жизнь шел к драме самораспятия.
Люди любят создавать кокон покоя. В детстве это называлось «Я в домике». Люди ненавидят драму. Но домик всегда будет разрушен. Изнутри – беспокойством, вложенным в нас Богом. Снаружи – Самим Богом. Он нас не оставит в покое. Потому что любит и желает нам быть крылатыми. А для этого требуется труд.
* * *
Драма не значит слезы. Когда все части личности отрегулированы, то вместо слез приходит удовлетворенность паломника, добравшегося до еще одной гостиницы на пути к святыне. Болят ноги. Потрачены деньги. А на душе радость, и легкость, и предвкушение Встречи. Так и вся наша жизнь. Рабочая, домашняя, личная – путь пилигрима.
Чтобы труба пела, через нее должен проходить звук. Чтобы пела душа, человек должен быть открыт миру и пропускать через себя звук слов Бога.
Не пустим свои дары в божественный оборот – и высокая греческая драма обернется дешевым спектаклем одного актера захудалого театра.
Юрий Визбор прав – душе без драмы душно и нудно.
* * *
Рождество – начало этой драмы, Пасха – максимум, а Вознесение и есть финал и катарсис.
Рождество как раз об этом – о радости Божественной драмы. Этот праздник поэтому всегда радостен и светел, несмотря на холод пещеры, зимний ветер пустыни и грязный хлев.
Сам Бог принял на Себя драму воплощения. Не остался в «домике». И никто из нас не останется в «домике». В конце концов, Бог хочет – и самим нам желанна эта перемена! – сменить наш домик на Свой. И сменит.
Одинокий тюльпан
Русская деревня расцвела пластиковой красотой. Избы обили виниловым сайдингом. В огороды запустили гипсовых гусей и гномов. Деревня превратилась из живописной картины перемежающихся палисадников и разноцветных фасадов в желоб дороги, проложенной среди металлических заборов.
Для деревенского жителя пространство улицы было продолжением космоса жилья, лужайки – одной большой комнатой, где крестьяне встречались, беседовали и размышляли. Там играли дети, там росла сирень и гуляли козы. Этот народный майдан окружали, как рама картину, палисадники. Мир дома не замыкался в себе, наоборот, раскрывался навстречу общему пространству космоса.
* * *
«Москвичи» – это нарицательный образ мажорного дачника, задавшего новый тон русской деревни. «Москвичи», купившие дома в деревне, не любят вести бесед с деревенскими неудачниками. Для них деревня – это не событие, это их огород, замкнутый сам на себя.
Когда въезжаешь в такую «дачную» деревню, часто чувствуешь висящую в воздухе неприязнь. Слегка приподнимется и опустится занавеска на втором этаже дома, и ты понимаешь, что тебе здесь никто не рад.
На въезде в одну мещерскую деревню я видел самодельный дорожный знак, на котором было написано: «Проезда нет и дороги к озеру тоже нет».
Я нарочно пошел в эту деревню. И правда, дорогу в ней распахали под газон, на бывшей проезжей части стояли лавочки и гипсовые лебеди. Выход к озеру был – но оказался тщательно замаскирован между кустами гортензий.
Я шел по улице, как вдруг раздался звонкий детский голос из открытого окна:
– Мама! Кто это?
За ним последовал женский приглушенный, будто спертый голос:
– Тихо. Молчи. Молчи.
Я понял, что меня боятся и, кажется, ненавидят – то есть не хотят видеть.
На выходе из деревни я подписал на знаке свои слова: «Вам здесь не рады».
* * *
В деревне, что расположилась в пятнадцати километрах от Спас-Клепиков ниже по течению Пры, еще сохранились палисадники – визитные карточки хозяев, не напечатанные на бумаге. Когда мы проезжали мимо одной древней и обветренной избы, я увидел, как в палисаднике чернела ухоженная бархатная земля.
Знаете, что такое настоящая земля крестьян? Она пуховая. В ней ни одной травинки. Она совершенно не похожа на ту землю, которую мы видим в лесу, поле или городе. Земля в руках любящих ее людей – это чудо. Она как живая, она дышит, и хозяин слышит ее просьбы, и живет, и болеет вместе с ней. Она – как особенный молчаливый член семьи. Ее любят. Без нее скучают и тоскуют. Ее голос зовет. О ней болит сердце. За нее могут убить.
У меня на даче сменился сосед. Новый хозяин тут же перенес забор и оттяпал мою землю без объяснений. Я вышел поговорить. Через минуту он разъярился, взял в руки топор и пошел на меня. Пришлось отступить.
Я понял, что земля будит в человеке сильнейшие инстинкты.
* * *
И вот в том пустом тщательно взрыхленном палисаднике стояла одинокая неподвижная женщина и смотрела на огромный одинокий тюльпан. Тюльпан был шикарен.
Майский свет особенный. Он пронизывает весь мир, и мир светится изнутри. Заходящее солнце пронзило тюльпан насквозь – и он загорелся. Так просвечивает рука, поднесенная к глазам от солнца. Пылающий цветок на фоне черного бархата земли.
Странно было видеть только цветок и только женщину, застывшую перед ним.
И я, кажется, понял ее.
Перед домом не было автомобиля ее детей. В доме, в праздничный день, не было гостей. Дом был тих и мрачен.
Позади осталась бесконечно длинная зима и болезненная нездоровая русская весна с медленно сползающей коростой наледи и грязи. В это время еще горше думать о своем одиночестве, которое похоже на смерть…
А потом приходит май – как взрыв света и обещание жизни.
* * *
Русские женщины всю жизнь ставят свечки Богу. Но иногда, когда им очень плохо, Сам Бог ставит им Свои свечи. Так Он напоминает им, что есть Тот, Кто их не забыл, Кто будет с ними до конца.
Этот одинокий цветок разбил ее одиночество. Он красивей целой деревни. Он больше чем дети. Он – свидетельство другой, более важной, более красивой и настоящей жизни.
Мы медленно ехали по ухабам разбитой деревенской дороги, а женщина все стояла и стояла. Смотрела и смотрела на этот роскошный пылающий одинокий тюльпан, пришедший к нам из прекрасной страны.
На мгновение в старом палисаднике под Рязанью задержались остатки старого русского космоса: Бог-Земля-Человек. С заветом в виде тюльпана.









































