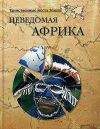Текст книги "Пембе"

Автор книги: Константин Леонтьев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Феим-паша отступил надменно от Шекир-бея и отвечал ему:
– Я ему прощаю: его род точно всегда верно служил. Я вам скажу: верно ли ваш род служит? Верно ли служит ваш сын?.. Вы знаете, за что удалил я его из меджлиса? Идите, теперь у меня есть другие дела, и готовьте сына вашего в дальний путь. Не цыганку я пошлю в изгнание, а вашего Гайредина. Пусть знает он, как дружиться с греками, нашими злейшими врагами, и как спасать заговорщиков ночью в арнаутской одежде…
Сказав это, паша позвонил и велел кликнуть своих чиновников с бумагами. А старики удалились в безмолвии домой.
IX
Абдул-паша, как только возвратился в свой дом, тотчас послал за дочерью и сказал ей:
– Ты мне не дочь, если не поедешь за мною в мой дом. – Брось его! Пусть он придет и поклонится нам. Я разведу тебя с ним и найду тебе мужа честного.
Эмине-ханум покорилась отцу, взяла детей и в тот же день уехала с отцом из Янины.
Шекир-бей, сидя один, горько плакал. Когда сын воротился домой, Шекир-бей передал ему печальные вести об изгнании и об отъезде жены.
– Судьба! – сказал Гайредин, бледнея, и сел: ноги его не держали.
Стали они совещаться и спрашивать: кто бы мог довести дело Джимопуло до паши? Призвали сеиса-грека и заклинали его всем святым сказать правду. Грек, прослезясь, признался, что в пьяном виде говорил о бегстве Джимопуло с кавассами, хваля доброту бея. Между кавассами был один турок; должно быть, он передал.
– Вот тебе награжденье, – сказал старый Шекир-бей сеису. – Я тебя теперь в доме моем видеть не могу.
И дал ему денег.
Одумавшись, Шекир-бей решился ехать в Царьград, чтобы спасти сына. Как ни тяжело было ему пускаться в дальний путь, сын был дороже покоя преклонных лет.
Слезы его бежали ручьем при одной мысли, что Гайредина сошлют в Сирию или каменистую Аравию, где у него не будет ни отца, ни жены, ни друга!
Ехать он собрался, но денег было мало. По доброте своей, Шекир не любил теснить греков, которые жили на его земле, и часто отсрочивал им платежи. В это лето дождей было мало; кукуруза не родилась, и собрать ему с них было почти нечего.
Послали за банкиром Ишуа, но Гайредин и без того за эти три месяца задолжал ему много, потому что не хотел показывать дома, как дорого стоит ему Пембе, и не брал денег на это ни от отца, ни от тестя.
Ишуа сначала сказал, что принесет сейчас 30 000 пиастров. Ушел и не вернулся. К вечеру послали за ним, его не было дома; на другой день была суббота; в воскресенье утром он обещал опять принести, а вечером прислал сказать, что поссорился с племянником, с которым у него до тех пор все было сообща, и что племянник унес ключ от кассы.
Сел старик на лошадь и поехал сам к Ишуа. Опять Ишуа не было дома. Шекир-бей вернулся оскорбленный и рассерженный. Уходя из дома еврея, он произнес несколько угрожающих слов. Ишуа испугался этих слов и пришел сам с извинениями; но албанцы выругали его как нельзя хуже, а Гайредин хотел гнать его из дома палками. Ишуа подал жалобу в Порту.
– Дурной час пришел на нас, сын мой! – воскликнул Шекир-бей.
Гайредин долго сидел как убитый, но вдруг оправившись, вспомнил о Джимопуло, сел на лошадь и поехал к нему. Дорогой, еще не доезжая до его дома, он увидал его на улице.
Кир-Костаки сам, узнав случайно в конаке паши о ссоре Гайредина с Ишуа, шел к Гайредину с деньгами.
– Возьмите, возьмите! – сказал он старому Шекиру, – и знайте, что и между греками есть такие, что помнят добро.
Старик и Гайредин долго обнимали и благодарили его.
– И в нем, ты сам знаешь течет ваша кровь! – говорил с восторгом старик, указывая на сына.
Джимопуло тем труднее было дать деньги эти, что он, как и предсказывал Феим-паша, давно уже нашел средство тайно отправить для критян большую сумму.
На другой день Шекир-бей взял в конаке паспорт и уехал в Царьград в самый ненастный и дождливый день. Сын провожал его до первого хана и со слезами видел, как скрылся за скалами отец и как зимний холодный дождь ливмя лил на его старую голову.
Жалобу Ишуа оставили в Порте без внимания.
Паше довольно было и того, что он сделал Гайредину; в тот же день, как уехал старый Шекир, он послал в Царьград бумагу, в которой чернил Гайредина как только мог.
Гайредин, возвратившись в город после проводов отца, пошел прямо к той гречанке, у которой он последнее время видался с Пембе, и послал за любимою девушкой, думая поделить с ней горький час.
Пембе пришла с теткой. Тетка, как ведьма, села на корточки у жаровни и стала греть свои старые руки над угольями.
Пембе смеялась и ласкала бея.
Гайредин, глядя на нее, забыл все свое горе и, обнимая ее, спросил у нее наконец нечто заветное, о чем еще не спрашивал ее:
– Поедешь ли со мной, моя жизнь, в Аравию? И там, ягненок мой, добрые люди есть. Там наш пророк родился; туда люди на молитву ходят. С тобой, Пембе, изгнание не будет мне изгнанием, и ни отца, ни жены я не буду жалеть, когда ты будешь со мной, моя сладкая девушка!
Пембе молчала и глядела на тетку.
– Поедешь? – спросил опять Гайредин. – Что ж ты молчишь?
– Она жалеет тебя, паша мой, – сказала с улыбкой тетка. – От жалости говорить не может. Слышали мы вчера от людей, будто тебе хотят «сюргюн» сделать, и всю ночь обе от слез и от страха не спали.
– Пусть не жалеет, я сам не жалею себя, если она поедет со мной…
Переглянулись еще Пембе с теткой, и Пембе, встав и поцеловав руку бея, сказала ему:
– Ты, паша мой, человек большой; тебе и в Аравии хорошо будет жить. А я сирота. Тетка моя не пустит меня с тобой. Кто за нею, бедною старухой, будет смотреть, кузум-паша мой? Как она смотрела за мной, так и мне надо теперь смотреть за ней, кузум-паша мой! Я теперь целую глаза твои и руки и благодарю тебя за то, что ты мою судьбу сделал…
После нее заговорила тетка.
– Узнали наши родные в Битолии, – сказала она, – что у Пембе, по милости твоей, и деньги, и вещи есть, сосватали ее там и зовут нас на родину.
– Правда? – спросил Гайредин у Пембе.
– Правда, паша мой. И я, сирота, благодарю тебя, – отвечала коварная Пембе.
Гайредин не дал ей руки… Вся душа его содрогнулась от гнева и горести.
Помолчав с минуту, он встал, вышел вон и уехал в свой опустелый чифтлик ждать уныло, что пошлет ему Бог, обрушивший столько бед на его голову.
X
На следующий день греки праздновали Рождество Христово. Закрыли все лавки свои и ночь под праздник провели в церквах, молясь и приобщаясь Св. Тайн.
В ту же ночь турки отдыхали от дневного поста своего, курили, ели и кончали дела. Феим-паша спросил себе на рассвете свежего хлеба, но ему отвечали, что свежего хлеба нет, что все хлебники – христиане и заперли пекарни на три дня.
– На три дня? – воскликнул паша с удивлением и гневом.
Чиновники сказали ему, что так ведется здесь с древних времен, и сам Али-паша, тиран эпирский, уважал этот обычай греков.
– И войско будет есть три дня сухой хлеб? – спросил Феим-паша.
– И войско.
Не поверил Феим-паша, послал за полковником, и полковник повторил ему то же.
– Мы знаем это и привыкли, – сказал он.
Паша тотчас же послал за тремя самыми богатыми хлебниками и грозно велел им отворить лавки и печь свежие хлебы для войска и для всех турок.
– Не можем, – отвечали хлебники, кланяясь.
– Я велю вам! – закричал паша.
– Не можем, – повторили хлебники. – Нам вера не велит работать эти дни, и мы, паша господин наш, работать не будем.
Паша пришел в исступление и воскликнул:
– Я покажу вам всем здесь, и арнаутам, и грекам, каков у вас паша! Я покажу вам, что у меня не пойдете вы по дороге критян! Вон отсюда!
И приказал без суда схватить этих трех хлебников и, посадив в цепях на лошадей, отправить немедленно в дальний город Берат и заключить там в тюрьму. Они не имели времени проститься с семьями; их взяли, когда они, только что причастившись, шли из церкви.
Поднялась вся православная Янина. Один за другим бежали греки друг к другу, к богатым купцам своим, к митрополиту и консулам. Толпа народа с благословениями шла за тремя изгнанниками далеко за город. Собрались старшины у митрополита. Робкий старец заплакал горько, выслушав их рассказы и суждения. Страшно ему было вступить в борьбу с могучим наместником, но просьбы и угрозы общины еще сильнее трогали и пугали его. «Лучше от турок пострадать, чем от укоров своей паствы!» – сказал он наконец и поехал в Порту.
Дрожащим голосом и со слезами на дряхлых очах молил он пашу возвратить изгнанников и не касаться того обычая, которого сам Али-паша не дерзал касаться.
Феим-паша отказал ему.
Еще шумнее и ожесточеннее заговорили греки.
– Мы не бунтуем, – кричали они, – но церкви нашей даны права в первый день падения Византии самим султаном-Магометом Завоевателем. Мы отстоим права наши!
– Я покажу грекам, каков у них паша! – повторял наместник и велел тайно войсковым начальникам усилить обходы и стражу и быть готовым на все.
– Мы отстоим права наши! – восклицали греки все заодно.
Весь город был в движении. Турецкие фанатики осматривали свои ятаганы и ружья! Встречались молча на улице толпа греков с кучей турок, молча взглядывали одни на других, но как! – и молча продолжали путь. На всех перекрестках в эти три смутные дня слышались зловещие рассказы: шло, рассказывали турки, десять греков пьяных вечером без огня, заптие спросил их: «куда вы идете пьяные с песнями?» «На твою погибель!» – отвечали они, разбили об его голову незажженный фонарь и разбежались.
В ином месте греки рассказывали, как во время крестного хода, когда митрополит остановился пред русским консульством и по обычаю прочел молитву, кинулись толпой соседние турчата (наученные большими) на певчих мальчиков, засыпали их каменьями и разбежались сквозь толпу.
«Часовые перестали отдавать честь русскому и греческому консулам», – говорили на базаре христиане.
Юз-баши встретил с обходом толпу гулявших христиан, заспорил с ними и, обнажив саблю, сказал:
– Если и эти дела пройдут вам, как многое прошло, все-таки дождусь я и того часа, когда сабля эта пройдет сквозь вашу грудь.
Говорили, что паша осмелился не принять обоих православных консулов, когда они пришли сделать ему свои замечания.
Громче всех говорил честный Джимопуло. Слушаясь его советов, старец-митрополит привез ключ от соборной церкви к паше и вручил его ему, говоря, что митрополии в Янине больше нет и что он, после оскорблений, нанесенных вере и общине греческой, сношений с ним иметь не может. Вслед за духовным пастырем пришли все христианские члены идаре-меджлиса и судов уголовного и гражданского и подали в отставку.
Джимопуло обратился к паше с речью спокойною и твердою.
– Мы лишимся доверия наших соотчичей, – сказал он, – если останемся после этого позора членами судов и советов султанских. Ваше превосходительство знаете, что его величество султан изволил дать нам права не для того, чтобы мы сами потеряли их нашим равнодушием. Поддерживая их, мы сообразуемся с волей того, кто нам даровал их!
Паша повернулся к грекам спиной и повторил опять:
– Я докажу, что здесь не будет Крита!
К следующей ночи не только выборные члены судов и советов, но и все мелкие чиновники из греков, писаря, драгоманы и служащие на телеграфной станции и в таможнях, подали в отставку.
Телеграммы со всех сторон неслись в Царьград; писали спешные донесения во все европейские столицы.
Паша не дремал и по нескольку часов подряд проводил сам на телеграфной станции, отвечая на запросы с берегов Босфора…
Волнение умов росло в столице вилайета, а из дальних округов в то же время прилетали вести, от которых пахло уже порохом и кровью… Наконец и западные консулы вмешались и советовали уступить: ибо для самой Порты невыгодны смятения…
Раздираемый немым бешенством, Феим-паша уступил. На третьи сутки раздался по мостовой, со стороны Берата, стук копыт, и изгнанники вернулись в среду ликующего народа.
Феим-паша уныло простился со своею ролью просвещенного, но грозного патриота и правителя Эпира. Он понимал, что после этой неудачи его царству здесь конец… Все, что было оскорблено им в этом деле, все, что лично было ему враждебно, поднялось на него в Царьграде. Вселенский патриарх вступился за право митрополита; греческие газеты привлекали взоры на самоуправство пашей. Фанариоты, и те роптали. Драгоманы посольств сожалели официально в кабинете великого визиря о неосторожном обращении Феима с народными страстями. Паши, у которых не было мест, спешили заявить свои надежды. Не дремали и старые албанские беи: Абдул-паша писал спешные письма к родным и друзьям своим в столицу, обвиняя пашу как безумца и заклятого врага албанцев. Шекир-бей хлопотал за сына. Но более всех вредил Феиму один престарелый министр, которого Феим оскорбил когда-то своим остроумием.
Старик этот был с ним дружен и, вздумав подражать европейцам, просил его, как человека знающего, сочинить ему герб на новую карету. «Вы были судьей и воином не раз», – сказал ему Феим и прислал ему рисунок герба: весы и меч, а внизу девиз по-французски: pesé et vainc! По-турецки же слово пезевенг хуже, чем подлец!
Феим-паша знал все это; он готовился к отъезду и забыл о Гайредине и о его ссылке.
XI
Скоро Феим-паша уехал из Янины; его заменил другой, с которым успел сдружиться в Царьграде старый Шекир-бей. Они приехали вместе. Об изгнании Гайредина уже не было и речи; новый паша обещал старику выгнать из вилайета Пембе без всякого суда и разговоров; но, по приезде в Янину, он узнал, что Пембе уехала сама. Шекир-бей сказал сыну:
– Поедем к Абдул-паше. Помирись с женой. Ты забыл и детей своих!
Гайредин поехал с ним к тестю и привез назад жену и детей. Иззедину он был очень рад и крепко обнимал его и ласкал целый день; но к жене уже не лежало сердце его, и часто думал он про себя:
«Пустыня Аравии была бы лучше родины, если бы та девушка была со мной в пустыне!»
Видели все: и жена, и отец, и родные, что бей молчит и тоскует, и не знали, что делать с ним.
Однажды Шекир-бей откровенно говорил о сыне с новым пашой.
– Послушай меня, – сказал ему генерал-губернатор, – не излечишь ты дома души его! Пошли ты его на греков с баши-бузуками в горы. Хоть «сюргюн» ему и не сделали, а все же мнение о нем худое в Стамбуле. А пойдет он на греков, так эти мысли изменятся.
Шекир-бей поблагодарил пашу и сказал сыну как будто от себя:
– Вот, пришло тебе время послужить султану мечом и очистить имя твое!
Гайредину было все равно. Он принял начальство над сотней баши-бузуков и выступил в Аграфу. Ему не пришлось и сразиться с клефтами. Не прошло и трех недель, как его убили.
Он ехал под вечер впереди своего отряда по ущелью. С обеих сторон стояли высокие камни. Снег падал густой, и ветер грозно ревел навстречу албанцам.
Гайредин ехал шагом, укрываясь буркой, и унылые мечты его были далеки от боевого дела, Он с горькою думой вспомнил иную непогоду, веселый очаг и окна своего дома, которые напрасно рвал ветер, – вечерний дождь над темною мостовой и бледную Пембе.
Так мечтал Гайредин, когда греческая пуля, пущенная из-за дальнего куста, пресекла его жизнь. Он упал на шею лошади, не сказав ни слова. Баши-бузуки разбежались, только двое старых слуг привезли его тело к отцу.
Так кончил жизнь свою добрый Гайредин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.