Текст книги "Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря св. Пантелеймона на Горе Афонской"
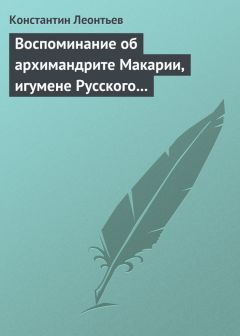
Автор книги: Константин Леонтьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
III
Статья г-на Красковского, которой я сочувствую уже за одно то, что автор так чистосердечно полюбил покойного о<тца> Макария, имеет сверх того и другие достоинства.
Она, вообще, хорошо написана и дает ясное понятие об образе жизни и нравственной физиономии этого благородного и привлекательного инока.
Автор сознается, между прочим, что он ехал на Св<ятую> гору с некоторым недоверием, находясь под влиянием книги г-на Благовещенского «Афон» (изданной еще в <18>60-х годах); но впечатление, которое произвел на него архимандрит Макарий, было так сильно, что он скоро переменил свои взгляды.
У г-на Красковского можно найти и довольно много подробностей, изображающих необычайно деятельную жизнь о<тца> Макария в последние года, т. е. в то время, когда он управлял обителью уже один, без руководства и поддержки своего наставника, о<тца> Иеронима (скончавшегося, кажется, в <18>85 году). Не довольствуясь тем, что он видел сам, г-н Красковский приводит целые отрывки из книги секретаря русского посольства в Константинополе, г-на Смирнова – «Две недели на Святой горе».
И в этих отрывках много хорошего.
Так как весьма вероятно, что не все подписчики «Гражданина» читают сверх того и другие газеты, то, я думаю, никто из них меня не осудит за довольно длинные цитаты из обоих этих почитателей покойного архимандрита.
Вот что говорит г-н Смирнов: «Я не мог достаточно надивиться бодрости и энергии отца Макария. Участвует он, например, в служении всенощной, длящейся всю ночь, служит затем обедню, после которой председает за монастырскою трапезой. А потом, глядишь, в полдень, по нестерпимой жаре, бредет через двор в сопровождении нескольких монахов.
И до вечера то там, то сям видно его, постоянно занятого и спокойно, неторопливо отдающего приказания. Даже в архондарике[2]2
Архондарикон – приемная для архонтов, для важных лиц. Русские монахи, которые попроще, переломали это звучное греческое слово в какой-то жалкий «фондарик».
[Закрыть] (гостиной) за чаем ему не дают покою; явится монах, поклонится ему в ноги, примет благословение и вполголоса долго говорит ему что-то. Отец Макарий выслушает и одним словом, часто одним движением головы сделает распоряжение. Говорит ли, или смеется не в меру кто-либо из монахов в архондарике за столом, игумен только взглянет в его сторону – и монах вдруг смолкает, смущенно и с виноватым выражением глядит вокруг. Немало надобно тонкого ума, такта, кротости и сноровки, чтобы держать в порядке братию, ладить с Протатом и со всеми властями. Нелегко держать игуменский посох».
«Опасаясь явиться пристрастным (добавляет далее от себя г-н Красковский), так как, повторяю, я очень любил почившего отца игумена, решаюсь сказать о нем более существенное чужими словами. «Архимандрит Макарий, – пишет г-н Смирнов в указанной выше статье, – невысок ростом, худощав; большая борода и длинные волосы с проседью (в последнее время они были уже совершенно седыми) придают особую мягкость его доброму и выразительному лицу. По случаю болезни глаз, он носит дымчатые консервы{10}10
Консервы – очки.
[Закрыть], и это мешает разглядеть его прекрасные серые глаза. Разговор у него неторопливый, голос негромкий и негустой, порою будто срывающийся. По тому выражению, с которым взгляды монахов останавливаются на архимандрите, сразу видно, что он тут глава не по одному названию. Я с любопытством вглядывался в приятное лицо игумена, о неутомимой деятельности и административных способностях которого так много слышал.
Архимандрит Макарий занимает две небольшие комнаты с низкими потолками и маленькими окнами. Прежде у игумена была одна комната, так как другую занимал покойный старец Иероним. Деревянные диваны, несколько гнутых стульев, два-три стола и шкаф составляют все убранство игуменской кельи; ни одного мягкого кресла, никаких намеков на роскошь и комфорт; по стенам несколько икон и портретов, на окнах простые белые шторы, во всем простота, доведенная до последней степени».
Когда г-н Смирнов вошел к почившему отцу Макарию, комната «была полна народом, мирскими и монахами, пришедшими к игумену за различными распоряжениями перед праздником. Увидя такое многолюдное сборище, я хотел было воротиться назад, но отец Макарий у же увидал меня и поднялся из-за письменного стола, за которым сидел. Я извинился и просил его не отрываться от занятий.
– Да, действительно, – сказал мне архимандрит, – накануне праздника (храмового) дела накопилось немало. Вот сами видите. – Он показал наполненную народом комнату. – Уж извините, через четверть часа я буду посвободнее. А пока не желаете ли мою дачу посмотреть?
На небольшой балкон, который игумен назвал своею дачей, пришлось проходить через соседнюю комнату, которую, как я уже говорил, занимал отец Иероним. Тут помещается теперь спальня отца Макария, отличающаяся такою же, как и его кабинет, если еще не большею, строгостью обстановки. Спит игумен почти на голых досках, имея под головою жесткую кожаную подушку. Маленькая дверь ведет на узкий деревянный балкон, уставленный кадками с цветами, под остальными окнами игуменской кельи, выходящими в другом направлении, обширная каменная терраса, окруженная чугунного решеткой и заменяющая крышу здания ризницы. С террасы открывается прекрасный вид на монастырь, на море, на горы, с выглядывающею из-за них острою вершиной Афона. С маленького балкона, на котором я очутился теперь, вид гораздо уже: видны берег, часть залива и вдали горы Македонии, но на балконе была такая прохладная тень, в то время как полуденное солнце немилосердно накалило стены, крыши и каменный пол террасы, открывающийся перед нами уголок вида так ярко и красиво освещен, что я охотно присел отдохнуть на игуменской «даче»…».
Отец Макарий тоже любил наслаждаться этою картиной, в глубокой задумчивости повторяя поэтическое песнопение: Свете тихий святыя славы… Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога…{11}11
Одно из древнейших христианских песнопений (конца III – начала IV в.), которое поется на великой вечерне.
[Закрыть]
Но это были редкие минуты, когда отец Макарий находил возможным отдыхать душой в природе, хотя и любил ее поэтическою любовью, потому что все свои силы и все свое время он употреблял на исполнение иноческого долга и обязанности игуменской. День его начинался в глубокую полночь, когда братия несколькими ударами в колокол возбуждалась на келейное правило, которое требовалось исполнить до начала полу нотницы и которое для схимонаха, каким был отец Макарий, заключается в тысяче двухстах поясных и ста земных поклонах. Зимой сейчас после полуночи, а летом ранее ее, звонят к заутрени. Вместе с утренею для отца Макария, как первого в монастыре духовника, начиналась очень бодрственная, деятельная, сосредоточенная жизнь. Двери небольшого параклиса в Покровском соборе, за которые один за другим, без отдыха для духовника, входили желавшие исповедоваться, осаждались такою плотною толпой монахов и поклонников, что пот катился по их лицам. По два, по три часа дожидались очереди, лишь бы только проникнуть за эти заветные двери и «у самого батюшки исповедаться». Трудно, пожалуй, этому поверить, но это факт, что отец Макарий, особенно поклонников, иногда по часу и более времени исповедовал, зато и исповедь эта была такою, какую у латинян называют «генерального». Отец Макарий не допрашивал о грехах, особенно по требнику{12}12
Требник – богослужебная книга, содержащая последование священнодействий и молитвословия, совершаемые по просьбе одного или нескольких христиан в особых условиях места и времени.
[Закрыть], как это делают некоторые неопытные или небрежные духовники, а исповедывающийся сам во всем сознавался, вследствие одного намека прозорливого старца, глядевшего таким ласковым, всепрощающим, но в то же время глубоким взором, что тот невольно чувствовал перед собою присутствие Всеведущего и Всемилосердного, но и Карающего, а потому содрогался душой и падал ниц в трепетном сознании своей греховности. Некоторые поклонники приезжали на Афон нарочно для того только, чтобы исповедаться у отца Макария.
После утрени отец Макарий немедленно шел в один из параклисов совершать свою игуменскую, так называемую раннюю литургию, которая оканчивалась почти всегда одновременно с позднею, начинающеюся полутора часами позже. Игуменской литургии предшествовала панихида о каком-либо из новопреставившихся «благодетелей» обители или иноков. После панихиды начиналась проскомидия с продолжительными поминаниями просивших отца Макария молиться о них. Несколько иноков из толстых переплетенных книжек читали имена поминаемых, в то время как игумен вынимал частицы об их здравии или упокоении. Во время проскомидии читались часы медленно, внятно, большею частью кем-нибудь из иноплеменных новичков-послушников[3]3
Во время моего пребывания на Афоне часы на игуменской литургии почти ежедневно читались или маркизом де-Гр-о, или одним отставным обер-офицером из евреев. – Примечание г-на Красковского.
[Закрыть]. Литургия осложнялась особыми афонскими прошениями о России на сугубой эктении «о еже утвердити в земли нашей мир и благочестие, о том, чтобы Господь разрушил совет дерзновенно восстающих на попрание власти, Господом установленной», чтобы Вседержитель «исполнил долготою дней благочестивейшего государя императора нашего Александра Александровича, да совершит вся во славу Господню и во благо народа своего»; затем тоже продолжительными поминаниями на эктениях целых сотен имен жертвователей в монастырь, отсутствующих и больных иноков, а также присутствующих во храме богомольцев. Почти такое же, только сокращенное, поминовение происходило и во время великого выхода со св<ятыми> дарами. После литургии непременно служилось молебствие иногда девяти, даже двенадцати святым одновременно, и отец игумен сам своим слабым голосом пел такое молебствие.
Оканчивалась литургия, но для игумена не было отдыха. В коридорчике у дверей его кельи уже дожидались многочисленные просители из келлиотов, пустынножителей, сиромах и мирских, преимущественно греков. Лишь только игумен входил в свою келию, как эта толпа буквально врывалась за ним в дверь, так что приходилось запирать эту дверь на замок, чтобы дать отцу Макарию возможность выпить хоть чашку чаю и за ней отдохнуть две, три минуты. Когда отец Макарий и приглашенные им гости усаживались (а гостям этим во избежание натиска от греков-просителей приходилось иногда проходить через келейную комнату), как сейчас же подавалось неизбежное глико[4]4
Просто варенье с водой.
[Закрыть], причем отец игумен выпивал рюмку фруктового, домашнего рому, закусывал вареньем и принимался за большую чашку густого московского чаю, причем в скоромные, т. е. рыбные дни, допускал роскошь – кушал чай с известными филипповскими сухарями. Но лишь только одна чашка чая была выпита, как сейчас же растворялась дверь и являлись просители-греки. У кого из них келии требовали починки, у кого калива разваливалась, кто просил платья, кто обуви, кто сколько-нибудь денег. Игумен терпеливо выслушивал каждого, направлялся к своему письменному столу, отпирал его ящик и раздавал кому золотую лирку, кому серебряный меджид или половину меджида. На платье и обувь выдавались особые билетики, с которыми получившие их отправлялись в обширный монастырский склад, из которого выдавались требуемые вещи. На склад этот работали обширные мастерские, устроенные отцом Макарием. Однажды только мне пришлось выслушать отказ отца игумена в выдаче подрясника какому-то сиромахе, а именно, когда потонуло монастырское судно с несколькими тысячами подрясников.
– Нет подрясников, – проговорил отец игумен, – потонули подрясники. Знать мы плохо молились.
В числе просителей о денежном пособии являлись нередко и русские богомольцы, израсходовавшиеся в пути, чаще всего потому, что в Иерусалиме, благодаря образцовой неисправности турецкой почты, по целым месяцам напрасно поджидали присылки денег из дому. Отец Макарий никогда не отказывал таким просителям и даже не домохозяевам, а простым малороссийским батракам выдавал в долг (как они просили об этом) по 25 и более рублей. Почти не было случая, чтобы эти деньги не возвращались богомольцами, чаще же всего они отсылались обратно с излишком на поминовение или свечи. Многие из богомольцев испрашивали у отца Макария в долг ценные иконы.
Не успев еще выслушать всех просителей, отец Макарий шел вместе с прочею братией в столовую участвовать в братской трапезе, после которой возобновлялись беседы с просителями, а в почтовые дни начиналась письменная работа, захватывавшая все время отца игумена до десяти часов вечера, за исключением, конечно, времени, необходимого для вечерни и повечерия, на которых отец Макарий почти всегда лично присутствовал и лично же читал акафисты. Это чтение акафистов в праздничные дни было особенно торжественно».
Выписки мои из чужих статей на этот раз длинны, но, повторяю, едва ли кто посетует за это на меня. Сам я гостил на Святой горе давно, а гг. Смирнов и Красковский очевидцы недавние, и впечатления их свежее, чем мои.
К тому же и восемнадцать лет тому назад, если бы мне пришлось писать о деятельности и образе жизни отца Макария, я не сумел бы, вероятно, лучше этого сказать. Все это верно и все это было и тогда, когда я проживал подряд по 5–6 месяцев на Афоне, в 1872 году, отъезжая куда-нибудь в «мир» только на короткое время… Та же удивительная бодрость, при сложении вовсе не особенно крепком, та же доброта, та же симпатичность, тот же ум, те же три с половиной часа сна после необычайно трудового дня; та же щедрость к бедным; та же способность служить во храме с глубоким чувством и особым торжественным изяществом, поражавшим не только усердного богомольца, но и всякого посетителя.
К этим строкам двух русских паломников мне пришлось бы прибавить немного; разве только несколько личных воспоминаний, мне особенно дорогих, для других же имеющих мало значения.
Теперь, когда долг справедливости исполнен, мне предстоит более трудная и менее приятная обязанность – указать на то, в чем мои воспоминания о Руссике и о самом отце Макарий несколько разнятся от свидетельств г. Красковского.
Глава А
Второе мое, не слишком важное и даже не совсем решительное возражение или замечание на рассказ г-на Красковского о молодости и пострижении отца Макария – состоит в следующем. Г-н Красковский говорит, что родители позволили М. П. Сушкину постричься на Афоне и вообще там, где он хочет. У меня в памяти, напротив того, осталось впечатление, что отец его уступил и смягчился только в виду «совершившегося факта». Этим, мне кажется, и объясняются долгие колебания отца Иеронима и игумена Герасима, когда дело шло о пострижении молодого и богатого купца. У г. Красковского сказано, что отец Иероним колебался постричь именно «больного» Сушкина. У меня же из рассказов самих этих покойных подвижников сохранилось в уме другое воспоминание. Вот какое. Греко-русская община <монастыря> св<ятого> Пантелеймона в то время едва только начала воссоздаваться из расстройства и такой крайней нужды, что монахи собирались уже покинуть ее и разойтись по другим обителям. Духовное начальство российской Церкви и без того жаловалось неоднократно правительству нашему на слишком неразборчивые пострижения русских подданных на Святой горе. Понятно поэтому, что и грек-игумен, от<ец> Герасим, и духовник русской братии, от<ец> Иероним, – оба считали долгом своим прежде всего заботиться о вверенной им Богом общине и находили правильным принести в жертву духовные потребности одного юноши внешнему спокойствию многих; ибо это внешнее спокойствие всей братии, как русской, так и греческой, необходимо для посвящения всех помыслов и забот одной лишь духовной жизни. Но когда этот юноша заболел уже так опасно, что казался вовсе безнадежным, – его постригли немедленно и даже прямо в схиму (по свидетельству самого автора). Опасно больных постригают вообще охотно, не только на Афоне, но даже и в русских монастырях, менее свободных (граждански), чем восточные.
Многие, заметим кстати, и понять не могут – зачем же это умирающего постригать? Ведь он жить уже по-монашески не будет. Обетов самоотвержения – уже исполнить на этой земле не в силах. Это какой-то бессмысленный старый обычай, какая-то формальность, самообольщение, которое понятно было в суеверные времена Иоанна IV и Бориса Годунова, но теперь!? И «теперь», и тогда, во времена московских царей, основы и общий дух Православия были неизменны… И тогда, и теперь умирающие постригаются не для того, чтобы жить на земле по-монашески, а для того, чтобы чистыми предстать перед страшным судилищем Господним. Пострижением уничтожаются и омываются все прежние грехи, а тех новых, в которые будет неизбежно впадать живой монах, оставшийся опять на земле, умирающий уже совершить не успеет. Однажды я у этого самого отца Макария спросил:
– Что такое пострижение – таинство это или только священный обряд?
– Оно относится к таинству покаяния и есть его высшая степень, – отвечал он.
Я никогда не встречал такого определения в катехизисах и, не будучи сам богословом, могу в этом случае ручаться по совести только за достоверность моего свидетельства, а не за догматическую правоту афонского аскета. Быть может, вопрос этот относится к числу тех не решенных еще окончательно высшим церковным авторитетом вопросов, которых, по мнению иных русских богословов, еще существует довольно много в системе восточноправославного учения (так думает, между прочим, о<тец> Иванцов-Платонов). И эта неоконченность системы восточного Православия не только не должна пугать нас, но, напротив того, она должна нас радовать, ибо такое положение дел ручается за то, что Церковь православная может не только еще продолжать свое земное существование, посредством одного строгого охранения, но и жить, т. е. развиваться далее на незыблемых апостольских корнях своих.
Если определять пострижение так, как я его определил со слов о<тца> Макария (и многих других монахов), то, разумеется, становятся понятны предсмертные пострижения, и отказывать в них желающим духовные отцы не имеют ни права, ни основания.
Сушкина же даже и больного колебались постричь; но умирающего постригли немедленно, не ожидая никак, что он встанет и принесет со временем обители такое множество нравственной пользы и такое обилие вещественных выгод.
Я уехал с Афона в Царьград в самом конце 1872 года, взволнованный и огорченный теми серьезными размерами, которые приняла уже тогда греко-болгарская распря, и впервые начиная прозревать вовсе не церковные и не богомольные цели тех самых болгар, которых и мне не раз в должности консула приходилось поддерживать. Я написал тогда две статьи для «Русского вестника»: одну, общеполитическую, «Панславизм и греки», а другую, более специальную, о начинавшихся национальных распрях и на Св<ятой> горе: «Панславизм на Афоне». Последняя была писана отчасти для русских читателей, отчасти же в ответ на фантастические нападки русофобской греческой газеты «Босфорский маяк» («Phare du Bosphore»)[5]5
Статья эта была переведена мною самим по-французски и издана тогда же в Константинополе отдельной брошюрой.
[Закрыть]. «Маяк» (между прочим, как слышно было, получавший помощь от германского посольства) страстно обвинял русских монахов на Афоне в политическом панславизме.
Это была решительно ложь и доказывало только еще раз, как я был прав, находя уже в то время, что «интеллигенция» православного Востока, и греческая, и славянская – одинаково вся сплошь гораздо менее нас, русских, расположена к лично-религиозным чувствам, а занимается лишь весьма противной и неосторожной игрой в политическое Православие. И греки, и болгары более образованного класса не верили даже и тому, что я жил так долго на Святой горе из-за личных, душевных побуждений, и считали меня, конечно, ловким притворщиком и особого рода агентом генерала Игнатьева. И это в то самое время, когда многие из русских друзей и сослуживцев моих, зная до какой степени это неправда, не только верили в мое личное увлечение Афоном и монашеством, но по другого рода недостаточности (все-таки более сердечной, чем восточно-единоверческая) опасались за мое психическое состояние.
В вышеупомянутой статье «Панславизм на Афоне», в которую г-н Красковский, может статься, в свое время и заглянул мимоходом как «старожил» катковской редакции, есть одно место, где я говорю о том же, о чем и теперь, т. е. защищаю русских монахов от напрасных обвинений в преднамеренном и сознательном «славизме» на Св<ятой> горе. Я привожу там несколько примеров и кратко рассказываю историю и причины удаления трех-четырех русских людей на Афон, не называя их по имени, ибо они все были тогда живы: двое из купцов (отцы Иероним и Макарий), один из офицеров и один безграмотный мужик-троечник.
Об отце Макарий я нахожу там вот что: «приезжает на Афон, на поклонение, богатый купеческий сын; он и дома был мистик и колебался давно, что предпочесть: клобук и рясу{13}13
Клобук – головной убор монахов, высокий цилиндр без полей с покрывалом; черный у простых монахов и архиереев, белый – у митрополитов и патриархов. Ряса – верхняя одежда православного духовенства.
[Закрыть] или балы, театры, трактиры, торговлю и красивую, добрую жену? Он заболел на Афоне; он умоляет грека-игумена и русского духовника постричь его хоть перед смертью. Игумен и духовник колеблются, добросовестность их опасается обвинения в иезуитизме. Молодой человек в отчаянии, положение его хуже, жизнь его в опасности. Он опять просит. Его наконец постригают. Он выздоравливает; он иеродиакон, иеромонах, архимандрит; он служит каждый день литургию, он исповедует с утра до вечера; он везде – у всенощной, на муле, на горах; на лодке в бурную погоду; он спит по три часа в сутки; он беспрестанно в лихорадке; он в трапезе каждый день ест самые постные блюда, – он, которого отец и братья миллионеры; его доброту, ум и щедрость выхваляют даже недруги его; греки советуются с ним, идут к нему за помощью. Иные, напротив того, чем-нибудь на него раздосадованные, говорят: «Все он с греками, все он за греков».
– Что это значит? Панславизм, конечно!? – прибавляю я в насмешку над «Маяком».
Все это было писано под влиянием недавних впечатлений и вчерашних рассказов и прочтено прямо в печати обоими упомянутыми старцами. Отец Макарий по делам обители несколько раз после этого приезжал в Царьград; всякий раз виделся со мною, говорил об этой статье и не делал мне никаких указаний на какую-нибудь ошибку в этих строках.
«Обвинение в иезуитизме» – так написалось мне тогда: под этими свежими впечатлениями, и я помню, что это слово «иезуитизм» я употребил потому, что о<тец> Иероним, рассказывая мне о пострижении о<тца> Макария, говорил так: «Сушкины люди очень богатые и сильные, мы опасались постричь его: отец мог обвинить нас в том, что мы кой-как поспешили постричь сына в надежде на богатый вклад. Мы не желали иметь в России такую худую славу и повредить этим обители. Человека попроще можно было бы без таких колебаний постричь. Но умирающему как было отказать! Мы и положились на помощь Божию».
Итак, не столько болезнь, сколько богатство молодого Сушкина и его родителей – смущали игумена и о<тца> Иеронима.
Чем сильнее болен человек, тем резоннее его скорее постричь добросовестным монахам, за богатством же во что бы то ни стало гонятся только тупые и недобросовестные игумены. И приснопамятный возобновитель Оптинской обители, архимандрит Моисей, забывал о деньгах, когда дело шло о других, высших соображениях.
Бог наградил упование отцов Иеронима и Герасима (игумена). Родители Сушкина приняли хорошо весть о пострижении сына, и вскоре прислан был от них на обитель большой денежный взнос. И с этого дня благосостояние и слава Руссика начали расти.
Молодой Сушкин принес обители благословение и счастие.
Вот мое, в сущности незначительное, возражение г-ну Красковскому.
Оканчивая эту главу, я перечел еще раз с начала и нашел в ней мало связи, очень мало отношения к настоящему предмету речи и, наконец, убедился даже, что и возражать о таком «оттенке» пожалуй что и не стоило. Но все-таки предаю ее на суд читателя, не исправляя ее и в том виде, в каком она у меня, так сказать, вырвалась, под гнетом личных весьма сильных воспоминаний и личных же дорогих мне размышлений о духе и назначении монашества.
Сознаюсь в избыточности всех этих до дела прямо не касающихся отступлений и прошу мне их великодушно простить.
Кто пережил такие сильные внутренние перевороты, как я пережил на Святой горе около двадцати лет тому назад, тому очень трудно воздержаться от подобных увлечений или излишеств!
И так приходится очень многое, слишком многое в себе подавлять и хранить!
Остается еще одно замечание – третье, последнее и самое главное.









































