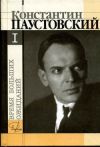Читать книгу "Золотая роза. Заметки о писательском труде"

Автор книги: Константин Паустовский
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Константин Георгиевич Паустовский
Золотая роза. Заметки о писательском труде
© К. Г. Паустовский, наследники, 2019
© А. Н. Варламов, предисловие, 2019
© Фото автора. Музей К. Г. Паустовского, 2019
© Оформление. АО «Издательство «Детская литература», 2019

Константин Георгиевич Паустовский
Алексей Варламов. Существо писателя
Паустовского мне открыла в детстве моя мама, учительница русского языка и литературы. Она его обожала и любила повторять нараспев: «Во всем виноват Паустовский. Это он для всех странников, для всех любителей ветра, неба, душистых трав и бездонной воды открыл страну со сказочно древним названием – Мещера». Надо сказать, что меня в этой фразе известного журналиста Василия Пескова что-то раздражало, как иногда раздражал и сам Паустовский. Но мама была человеком последовательным, и однажды в Мещеру меня повезла. Когда подростком я увидел сосновый бор в Солотче, старицу Оки и озеро Черное, и позднее, когда вернулся в эти края в студенческие годы и мы сплавлялись с друзьями на байдарке по Пре, которую Константин Георгиевич назвал самой таинственной и девственной русской рекой, – мое отношение к Паустовскому изменилось. Я оценил прежде всего его географический и природный выбор. Впрочем, справедливости ради стоило бы заметить, что Михаил Михайлович Пришвин своего собрата за это открытие корил, о чем Паустовский написал в «Повести о жизни»:
«Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой! – сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. – В вашей тихой Солотче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите! Черта с два вы его найдете! Красоту только тронь небрежной рукой – она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии! Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство».
Думаю, что эта мысль была выражена гораздо грубее, Пришвин вообще в выражениях не стеснялся, а кроме того, тут, конечно, проскальзывала определенная писательская ревность: «Берендеево царство», если уж на то пошло – название книги рассказов самого Михаила Михайловича, которая, видимо, такого же эффекта, что и «Мещерская сторона», не возымела и никто не ринулся под Переславль-Залесский. Впрочем, это не более чем мой домысел человека, написавшего книгу о Пришвине и не написавшего о Паустовском (я было собрался, но меня в издательстве «Молодая гвардия» отвлекли Грином, что Паустовский одобрил бы, и Алексеем Толстым – а вот тут вряд ли).
Так вот Паустовский, замечательный, умный, тонкий, в высшей степени благородный, так и не стал героем моих биографических штудий, но как писателя я его всегда очень уважал. Не все написанное им нравится мне в равной степени, однако «Золотая роза» – это, безусловно, его шедевр. Он выбрал очень точный ракурс и сумел написать чрезвычайно доверительную, тонкую книгу о материи, которая с трудом поддается описанию – о литературном труде. Идею этой книги автору подсказала сама жизнь, когда еще в довоенные годы Константин Георгиевич, доктор Пауст, как звали его друзья, стал работать в Литературном институте имени Горького.
Он был без сомнения одним из самых ярких мастеров в особняке на Тверском бульваре, где Паустовского помнят и любят, из его семинара вышли самые разные ученики, а кто-то, не будучи формально его студентом, все равно считал Константина Георгиевича своим учителем, как Юрий Казаков, например (что, впрочем, не мешало ему с ним творчески спорить, достаточно сравнить очерк Паустовского «Во глубине России» и рассказ Казакова «Трали-вали»). Но самые верные слова к образу Паустовского – литературного наставника нашел писатель, вот уж, казалось бы, весьма от него далекий и идейно, и стилистически, – Юрий Васильевич Бондарев.
«Я нисколько не преувеличу, если скажу, что встречи с Паустовским на семинарах в Литературном институте были праздником, которого мы нетерпеливо ждали. Его общение со студентами высекало искру – хотелось писать лучше, и хотелось любить жизнь и литературу так же, как он. Обычно он сидел за кафедрой, низко наклонясь к листкам рукописи, чуть отставив руку с потухшей папиросой, и говорил тихим, неторопливым, слегка скрипучим голосом – разбирал только что прочитанный студентом рассказ. Он говорил о значении и весомости каждого слова, о выборе единственного эпитета, о ритме прозы, о непостижимом сочетании юмористического и трагедийного, о кратком пейзаже и психологическом контексте. Он говорил о любимых и нелюбимых словах, которые есть у всех писателей. Он рассказывал об остроте, зоркости и беспощадности писательского глаза. Он говорил о титаническом труде Флобера над фразой, он рассказывал о мастерстве Чехова, Куприна, Бунина. Он иногда сердился, внешне это было почти незаметно. Но фраза, сказанная им: «Это не проза, это перекатывание булыжников по мостовой», говорила о том, что прочитанный рассказ студента написан торопливо, неряшливо, без любви к слову. Однако, сам будучи превосходным стилистом, он был терпим к разным стилевым направлениям, к разным средствам выражения, он никому не навязывал своей манеры письма. Но он был нетерпим к рационалистической манере «чистописания», к той академической гладкописи, которая навевает ощущение пыльной пустоты покинутого навек дома. Довольно часто, разбирая сюжет, коллизию того или иного рассказа, он начинал вспоминать различные случаи из своей жизни, всегда удивительно интересные, полные юмора и неожиданных поворотов. И когда смеялся, морщинки доброты звездочками собирались возле век, и он, оглядывая нас, неторопливо чиркал спичкой по коробку, зажигая забытую папиросу. Он рассказывал нам готовые новеллы из своей жизни, и устные эти новеллы, уже тронутые писательским домыслом, были настолько хороши, что я глубоко жалею – он не все их успел записать и опубликовать позднее. Слушая Паустовского на семинарах, мы впервые понимали, что творчество писателя, его путь – это не бетонированная дорога с легкой прямизной, это не лавры самодовольства, не честолюбивый литературный нимб, не эстрадные аплодисменты, не удовольствия жизни. А это – «сладкая каторга» человека, судьбой и талантом каждодневно прикованного к столу. Это нечастые находки и горькие сомнения, это труд и труд и вечная охота за неуловимым словом. И мы понимали, что писатель всей мощью своих усилий, опыта, ценой своих радостей и страданий должен совершить чудо, которое совершает женщина, рождая ребенка, – написать рассказ, повесть, роман, пьесу, то есть сотворить жизнь, родить героя с неповторимым лицом, характером, страстями, – значит вложить в книгу самого себя без остатка, до опустошения. И все же тогда мы, студенты, еще не осознавали до конца весь смысл слов Паустовского, постоянно говорившего нам, что писать каждую книгу нужно так, будто это твоя последняя книга; не надо бояться отдавать ей все, расточительно и щедро».
Прошу прощения у читателей за длинную цитату, но мне она кажется уместней любых филологических и нефилологических рассуждений, потому что именно здесь исток «Золотой розы». Не у всех была возможность учиться в Литературном институте, не все могли посещать семинар доктора Пауста, и Константин Георгиевич в каком-то смысле сделал уроки своего литературного мастерства открытыми.
«Золотая роза» – это причудливая смесь самых разных историй, сюжетов, жанров, наблюдений, мыслей, безусловно, у этого сочинения есть свой упрямый замысел и своя композиция, но при чтении ты не чувствуешь, что автор берет тебя за руку и куда-то ведет. Ты абсолютно свободен, волен в этом материале, ты путешествуешь, идешь по нему, как по лесу, и все тебе интересно – литература русская и французская, портреты писателей, размышления о языке, о вдохновении, секреты литературного мастерства (которыми, впрочем, бесполезно пользоваться в личных целях, ибо тайна и есть тайна). Более того, рискну сказать, что в каких-то случаях предыстория рассказов Паустовского интереснее самих текстов. По крайней мере, рассказ «Снег» всегда казался мне несколько слащавым, искусственным (об этой черте Паустовского приукрашивать – но не лакировать! – действительность очень хорошо написал Андрей Платонов, охарактеризовав одно из сочинений писателя как «оргию гуманизма» [1]1
Паустовский, надо отдать ему должное, может, и обиделся, но зла на Платонова не держал и очень тепло написал о нем в своих воспоминаниях.
[Закрыть]), зато черновые записи к нему поражают своей писательской точностью, в хорошем смысле этого слова сухостью, выверенностью. И то же самое относится и к «Кара-Бугазу», и к «Судьбе Шарля Лонсевиля», о создании которых рассказывает автор «Золотой розы».
Но почему-то из всего этого собрания сочинений мне больше всего еще с детства запала в душу история про старика и собаку в станционном буфете на берегу Рижского залива. Есть в ней какая-то невероятная печаль, связанная даже не с политическим подтекстом, хотя очевидно он там присутствует, а просто с ощущением человеческого одиночества, слабости, стыдливости, сострадания – то есть того, что и несет в себе литературный труд в понимании Паустовского.
«Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире».
Это тоже написано по-паустовски возвышенно, пафосно («с подпрыгивающим восторгом и слезами энтузиазма», как сказал бы язвительный Платонов), но что поделать, если таким был автор этой книги! А на самом деле как раз за это мы его и любим, и это ведь здорово, что он не стеснялся, не прятался за иронией, писал открыто и заражал своей увлеченностью читателя, щедро делясь с ним всем, что знал и умел.
Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького.
Золотая роза
Литература изъята из законов тления. Она одна не признаёт смерти.
Салтыков-Щедрин
Всегда следует стремиться к прекрасному.
Оноре Бальзак
Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.
Многое будет признано спорным.
Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.
Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.
В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.
Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.
Драгоценная пыль
Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жанне Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.
Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.
Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.
Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.
К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.
Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.
Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.
Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну ‒ девочку восьми лет.
Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.
Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.
Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?
Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.
В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.
Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.
Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.
Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск – несколько ярких огоньков под низким потолком.
Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу – грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.
– Таких золотых роз мало на свете, – говорила мать Шамета. – Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.
Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.
Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник – бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.
Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:
– Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?
– Все может быть, – ответил Шамет. – Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли, – престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.
– Где же это случилось? – спросила с сомнением Сузи.
– Я же тебе сказал – в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!
До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.
Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами – тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.
Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.
– Ничего! – шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. – Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!
Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи – синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.
Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.
Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов – их продавали чистенькие старушки на бульварах.
Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко – старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.
Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.
Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.
Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»
Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.
Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.
Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.
Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:
– Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.
– У меня нет теперь дома, – быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.
Шамет уронил свою шляпу.
– Сузи! – сказал он с отчаянием и восторгом. – Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я – Жан Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!
– Жан! – вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. – Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!
– Э-э, глупости! – пробормотал Шамет. – Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?
Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, – погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.
– Что с тобой, девочка? – растерянно повторил Шамет.
Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.
– У меня, – торопливо сказал он, – есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там же сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.
Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.
Кто не испытывал волнения от едва слышного дыхания молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.
Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.
Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.
Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.
Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.
– Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, – проворчал ей напоследок Шамет, – то будь счастлива.
– Я ничего еще не знаю, – ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.
– Ты напрасно волнуешься, моя крошка, – недовольно протянул молодой актер и повторил: – Моя прелестная крошка.
– Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! – вздохнула Сюзанна. – Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.
– Кто знает! – ответил Шамет. – Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.
Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.
Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.
Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.
Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.
До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.
Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.
Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.
Его не останавливало отсутствие денег – любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.
Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.
Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.
У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя – эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.
Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку – и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.
В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.
Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету – у каждого хватало своих забот.
Следил за Шаметом только один человек – тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на юной ветке, маленький острый бутон.
Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.
И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.
Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.
«Чего не дает жизнь, то приносит смерть», – подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.
Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.
Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.
Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка – Жана Эрнеста Шамета.
В своих записках литератор, между прочим, писал:
«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, – все это крупинки золотой пыли.
Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» – повесть, роман или поэму.
Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.
Но подобно тому, как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».