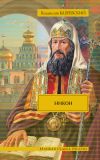Текст книги "Патриарх Никон. Загадки Раскола"

Автор книги: Константин Писаренко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Если мы вспомним, какой епархии до 1682 года принадлежал Соловецкий монастырь, Новгородской, то можно подумать, что сам Никон позаботился о судьбе опального. Как раз нет. С 24 марта 1649 года он обретался в Великом Новгороде. Значит, Арсения спас кто-то другой, причем осведомленный о благосклонности к старцу митрополита. Кто же? Судя по всему, Б. И. Морозов, ибо отправкой на север «дидаскала» занялся не М. Д. Волошенинов, один из судей и светский хозяин Новгородского края, а дворецкий А. М. Львов, старый приятель Бориса Ивановича. А коли так, то контакт между греческим патриархом и русским боярином, по-видимому, все-таки состоялся. Определенно, при посредничестве Никона, разумеется, сугубо конфиденциально, зато с любопытным результатом: обе стороны сочли за благо не торопить события, почему Никон и отлучился в Новгород, а Арсений обосновался учителем в Москве.
О наличии у старца высоких покровителей в Кремле летом 1649 года свидетельствует и то, что перед самым его отъездом на Соловки, 30 или 31 июля, в инструкцию для игумена Ильи вписали имя «старца доброго». Опять же кого-то при дворе очень волновало, чтобы ученый грек попал там, на острове, в хорошие руки. Этот кто-то не поленился навести справки и, взяв на себя функции монастырского игумена, конкретизировать, кому лучше надзирать за Арсением, – «уставщику старцу Никодиму». Арсения привезли в Соловецкий монастырь 1 сентября 1649 года. Монахи встретили его настороженно, и прошло какое-то время, прежде чем монахи оценили кроткий и покладистый характер еще не старого, лет сорока, грека. Он легко приноравливался к нормам и обычаям тех краев, куда заносила судьба. Приспособился и к соловецкому распорядку, быстро вжившись в коллектив обители и завоевав уважение большинства братьев.
Конечно, и Никону, и Морозову пригодился бы специалист-полиглот, разбиравшийся в католичестве, исламе, православии по-гречески, знакомый с Богданом Хмельницким. Только ссора с Ванифатьевым грозила катастрофой: протопоп не простил бы Никону переориентацию на партию войны, возглавляемую Морозовым. Отец Стефан разозлился на патриарха Иосифа за неодобрение единогласия. За малейший признак сочувствия тем, кто ратовал за разрыв с Польшей, покарал бы жестче и безжалостно по сути, хотя по форме опала выглядела бы благопристойно: неугодный по служебной надобности покинул бы Москву, причем надолго.
Насколько тема войны неприятна Ванифатьеву, хорошо все уяснили на отпускной аудиенции патриарха Паисия 6 мая 1649 года. Внешние почести не обманули владыку. То, за чем он приехал в Москву, в ответной речи отсутствовало. По украинской проблеме царь предпочел отмолчаться. Однако Паисий через А. М. Львова и М. Д. Волошенинова настоял на обнародовании официальной позиции Алексея Михайловича. Требование удовлетворили 9 мая. Львов и Волошенинов навестили патриарха и огласили мнение государя: «У его царского величества с великими государи короли польскими… вечное докончанье. И его царскому величеству своих государевых ратных людей на помочь войску запорожскому за вечным докончаньем дати и войска запорожского з землями в царского величества сторону приняти нельзя, и вечного докончанья никакими мерами нарушить не мочно. А будет гетман Хмельнитцкой и все запорожское войско своею мочью у короля и у панов-рад учинятца свободны и похотят быть в подданстве за великим государем нашим… без нарушения вечного докончанья, и великий государь наш… его, гетмана, и все войско запорожское пожалует под свою царского величества высокую руку и приняти велит». На худой конец, если поляки потопят революцию в крови и восстановят контроль над Малороссией, русский двор обещал гонимых и теснимых единоверцев у себя «приняти без земель».
Процитированное – максимум, который партия мира, партия Ванифатьева, бралась исполнить. Важно подчеркнуть, что она не имела ничего против украинцев и объединения с ними. Ее не устраивало одно – война, война как таковая, способная помешать задуманному «боголюбцами»-радикалами воспитанию церковью нового русского человека. Заметим, воспитания через насилие. Ни Ванифатьев, ни Неронов не собирались проповедями облагораживать прихожан. Для них проповедь – лишь артподготовка. А главное оружие – запреты и страх наказания. Поэтому царский духовник избегал сотрудничества с «боголюбцами» умеренными, питомцами троице-сергиевского кружка, группировавшимися вокруг келаря лавры Симона Азарьина. Они, напомню, никуда не спешили и надеялись изменить поведение соотечественников именно проповедями, для чего при поддержке боярина А. М. Львова в московской типографии печатали книги житийного жанра. Народу грамотному предлагалось биографии читать, а неграмотному – воспринимать на слух, из уст приходских священников или владеющих грамотой родных и друзей.
Сторонников Азарьина среди образованных людей, как духовных, так и светских, насчитывалось много. Радикалы же оставались в меньшинстве, зато выигрывали качественно, заручившись симпатиями царя Алексея Михайловича. Тем не менее дефицит сторонников ощущался постоянно. Прикомандирование к патриарху Паисию Арсения Суханова – наглядный тому пример. Ведь и он принадлежал к умеренным. Около 1645 года Суханов стал «строителем» московского филиала Троице-Сергиевой обители, а еще раннее, с лета 1633-го по весну 1634 года, ученый старец служил архидиаконом всероссийского патриарха, то есть Филарета Никитича. Похоже, Ванифатьев просто не отыскал среди друзей Неронова достойного кандидата, коли посоветовал государю отправить на восток с культурными и политическими задачами человека из конкурирующего лагеря.
Картина складывалась парадоксальная. Россия три года вынашивала сразу три стратегии дальнейшего развития – постепенного просвещения, принудительной аскетизации, военной мобилизации. Каждая в окружении царя нашла своего «адвоката» – А. М. Львова, С. Ванифатьева, Б. И. Морозова. Голос первой звучал слабо, третьей – громче, второй – еле уловимым шепотом. Для победы азарьинской линии требовались годы, морозовской – объявление войны Польше, ванифатьевско-нероновской… ничего, ибо этот проект был проектом утопическим, без шансов на успех, и неудивительно, что Никон довольно быстро понял обреченность того, за что с таким упорством ратовали оба его товарища. Возможно, архимандрит Новоспасский оказался единственным, кто из крайнего крыла «боголюбцев» стремился трезво оценить ситуацию. Оттого и доводы патриарха Паисия не отверг с порога, а взял на заметку. Прежде чем согласиться с ними или отвергнуть, он, несомненно, хотел увидеть финал начатого минувшей осенью эксперимента. А финал всецело зависел от того, чем закончится дуэль Ванифатьева с патриархом Иосифом по вопросу о единогласии.
Глава 8. Во главе Новгородской митрополии
К сожалению, отъезд митрополита Никона из Москвы в Новгород Великий в марте 1649 года не позволил ему понаблюдать за страшным скандалом, разразившимся в Москве на пятом месяце «великой реформы». Процесс насаждения в провинции норм благочестия едва начался. Пока царские грамоты от 5 декабря об искоренении пьянства, непотребного поведения, суеверий, языческих и азартных игр оформлялись в Разрядном приказе, развозились по городам, зачитывались воеводами на собраниях игуменов, черных попов и «мирских всяких чинов людей», времени проходило немало. Так, «государев указ» для Дмитрова датирован 20 декабря 1648 года. Отчет дмитровского воеводы об обнародовании царской воли и обещании прихожан соблюдать перечисленные запреты получили в Москве 20 февраля 1649-го. Аналогичный рапорт из Костромы столичные чиновники зарегистрировали на два месяца позже, 20 апреля. А из сибирской глубинки «отписки» добирались года полтора-два: Тобольск о новых московских веяниях уведомился 11 июля, Верхотурье – 20 ноября 1649-го, Ирбит – 3 января 1650 года.
И вдруг в момент неспешного распространения нероновских идей по всему государству «колыбель» благочестивости – Нижний Новгород – взбунтовалась против этих самых идей. 6 апреля 1649 года группа нижегородцев из дворян и посадских – «Васко Пушнин с товарыщи» – били в Разрядном приказе челом на протопопа Спассо-Преображенской церкви Нижнего Новгорода Конона Петрова, требуя «в протопопех быть не велеть» сему крайне агрессивному человеку. Кто такой Конон Петров? Друг и соратник Ивана Неронова, после переезда лидера в Москву координировал деятельность нижегородской ячейки «боголюбцев». Полгода «координирования» по принципу «кто не с нами, тот против нас» разозлили добрую половину горожан. Им надоело каждый день сносить брань и оскорбления священника, навязывавшего всем свой идеал жизни, сколотившего из приверженцев сеть шпиков («советников»), выявлявших «мимо поповских старост» нарушителей благочиния, обзывавшего несогласных с ним «кумиропоклонниками», «раскольниками християнской веры», «нехристиянами». В результате целая делегация с жалобой отправилась в Москву.
Для Ванифатьева и Неронова то было пренеприятнейшим известием. Причем оба с опозданием и, похоже, не от думного дьяка Разрядного приказа И. А. Гавренева узнали о ЧП. Тот явно хотел использовать скандал для дискредитации «ревнителей» в глазах царя. Ведь ропот Нижнего Новгорода означал, что насильственная «благочестивизация» – тупик. Ее с тем же негодованием отвергнут везде. Гавренев не успел бросить тень на авторитет «ревнителей». Они, прослышав об угрозе, организовали челобитную в защиту Конона Петрова. Правда, очень торопились. Оттого прошение вышло анонимным: за протопопа заступался не кто-то конкретно «со товарыщи», а некие «приходцких и уездных церквей попы и дьяконы, всяких чинов люди», сочинившие бумагу якобы еще в 156 году (до 1 сентября 1648 года). Разрядный приказ подготовил свой доклад 10 апреля, проча в судьи Ф. В. Бутурлина и С. В. Чаплина, адвокаты священника – 11 апреля. Наличие контробращения помогло Ванифатьеву замять скандал. 14 апреля 1649 года Алексей Михайлович перепоручил рассмотрение конфликта Новгородской четверти, то есть М. Д. Волошенинову. Михаил Дмитриевич, естественно, прикрыл приятеля Неронова.
Где бы митрополит Новгородский ни ознакомился с этой историей, финал кононовского усердия подкреплял правоту Паисия: церковная реформа – не выход; преобразит Россию только война за Смоленск. По дороге в Новгород весной 1649 года Никон мог отметить первые плоды антипитейной, антиразгульной и антиязыческой кампании в деревнях и городах Подмосковья и Тверского края. Отсутствие в той или иной местности убежденного «ревнителя» превращало борьбу в профанацию. В лучшем случае воевода или староста публично сжигал изъятые в авральном порядке «домбры и гудки, и волынки, и сурмы, и всякие гудебные сосуды» да изгонял вон на неделю-другую компанию скоморохов с медведями и собаками. После отчета об исполнении высочайшего повеления привычное житье-бытье восстанавливалось: ремесленники изготовляли новые струнные и духовые инструменты, изгнанники, как и прежде, в праздничные дни веселили незатейливыми номерами крестьянский и мещанский люд. О победе над пьянством, знахарством, колядством и тому подобным никто и не помышлял.
В тех редких русских селениях, где все-таки обнаруживались идейные сторонники благочестия, обстановка быстро накалялась, после чего борец с пережитками прошлого либо умерял свой пыл, либо, избитый и униженный, подавался в бега. Последнее для весны 1649-го еще нехарактерно потому, что Ванифатьев не сумел восторжествовать в главном вопросе – о единогласии. Почему упразднение единогласия – стержень реформы? По двум причинам. Во-первых, церковная служба – мера воспитательная, и важно, чтобы прихожанин улавливал любое слово, произнесенное священником. Во-вторых, длительность службы – мера страдательная – приучала обывателя к терпению и выдержке, качествам, крайне необходимым каждому благочестивому человеку. И если табу на чародеев, плясунов, шахматы или карты не являлось болезненным для основной массы русского народа и к тому же легко преодолевалось, то ежедневное стояние в храме ради траты изо дня в день драгоценного времени на выслушивание одного и того же порождало трудный выбор. Что предпочесть – молитву в ущерб мирским делам или дела в ущерб общению с Богом?
Предки данную проблему решили просто: в будни дело – на первом месте; о душе и Боге думать нужно не мимоходом и на виду у всех, а сутками и в уединении, чему больше соответствовала монастырская келья. В итоге возникла традиция: приходская церковь кратко напутствовала мирянина на соблюдение заповедей в день грядущий; монастырь исправлял заблудшие и грешные души, ободрял отчаявшихся. В обитель мирянин ездил специально для душевного очищения. Вот потому в приходской церкви не возбранялось читать и петь тексты сразу двумя, тремя… пятью голосами, а в монастырской служба велась кем-то одним. Компромиссный вариант вполне всех устраивал, пока не забил в колокол Неронов, а разбуженный им Ванифатьев не попытался раздвинуть для новой теории рамки практического применения. Как на единогласие отреагировала Москва, Никон видел. Но Москва – город уникальный, столичный, слишком суетливый. Мнение провинции могло и не совпасть с мнением центра. А между тем именно от провинции зависела судьба затеянных перемен.
Хотя духовенство на соборе 11 февраля 1649 года отклонило узаконение единогласия, отец Стефан не смирился с волей большинства и поспешил оспорить ее, апеллировав к авторитету Константинопольского патриарха Парфения II. Тем более что и его оппоненты считали вердикт цареградского владыки приоритетным. Однако на пересылку корреспонденции в Стамбул и обратно понадобились бы месяцы, год, а то и полтора. Никон столько ждать не собирался. Не оттого ли и попросил Паисия с Морозовым повременить с активным сопротивлением политике Ванифатьева? После чего добился от царя для Новгородской епархии привилегии на эксперимент, и 5 мая 1649 года, будучи в Новгороде, осуществил давнюю мечту Неронова: выпустил в свет полноценный реформаторский манифест. В нем положения об изживании пьянства, «бесовских игрищ», сквернословия дополнял ключевой пункт: «Чтоб в церквах божиих вечерни и заутрени, и обедни пели и псалмы и каноны говорили единогласно со всяким духовным прилежанием, и к обедни благовестили во 2-м часу дни».
Что ж, провинция действительно отличалась от Москвы. В Москве единогласие вызвало бойкот храмов. На просторах от Волхова до Белого моря посещаемость в церквях и соборах если и снизилась, то не так заметно, как в столице, ибо мало кто из священников подчинился грозному требованию. Литургию, как при отцах и дедах, продолжали служить в несколько голосов. Разве что в Новгороде единогласием не пренебрегали, и то благодаря присутствию в городе митрополита. Впрочем, восьми месяцев Никону хватило, чтобы понять, насколько иллюзорны расчеты Ванифатьева и Неронова на торжество благочестия в масштабах Святой Руси. Это видно из грамоты холмогорскому поповскому старосте Трофиму Рогуеву от 17 января 1650 года, продиктованной в Москве. Грамота посвящена избранию преемников на поповские и дьяконские вакансии. А венчает ее вот такой пассаж: «Да ты ж бы… попом и дьяконом, и причетником церковным по прежнему нашему указу заказал накрепко и смирял, чтоб они по кабакам не ходили и не пили, и не бражничали, и в домех питья не держали, а в церквах божиих пели и говорили единогласно по прежнему нашему указу, и никакова б безчинства у них не было».
И каким образом поп холмогорской Троицкой церкви должен победить то, с чем не справился за истекшие полгода? Похоже, никаким. Да и само распоряжение, слабо перекликающееся с основной темой, выглядит чистой формальностью. Создается впечатление, что Никон воспользовался оказией, дабы попутно отделаться от неприятной необходимости напомнить Рогуеву о борьбе с пьянством и многогласием, изъянами, от которых избавиться едва ли возможно. А ровно через два месяца друг царя одним из первых убедится в том, насколько опасно настаивать на единогласии.
По свидетельству Шушерина, в самом Новгороде Никон развернул бурную деятельность. На собственном подворье устроил бесплатную столовую для бедных, открыл четыре богадельни для «убогих сирот» с повсягодным пропитанием за счет казны, наладил регулярную раздачу подаяния нищим и лично рассматривал вины «в темницах седящих». Тем не менее высокого авторитета среди новгородцев не завоевал. Не потому ли, что в угоду Ванифатьеву, судя по словам того же Шушерина, в «том богоспасаемом деле», касавшемся «о единогласном наречном пении», «великий поборник и помощник бысть» царскому духовнику. Ну и допомогался.
15 марта 1650 года в Новгороде вспыхнул мятеж против продажи за границу хлеба. Дворы богатых купцов подверглись разграблению. Городской воевода Ф. А. Хилков со страху прибежал к митрополиту на софийское подворье, где и спрятался. Власть в городе в одночасье перешла к самоорганизовавшемуся комитету во главе с Иваном Жегловым, дворецким прежних митрополитов – Киприана и Афония. С Никоном у него за истекший год отношения разладились до того, что архиерей даже засадил оппонента в тюрьму под предлогом обнаружения какой-то «воровской книги и ключа в тетрадях». Подлинные причины ареста неизвестны. Однако в адресованной царю челобитной новгородцев кое-что, проливающее свет на конфликт, есть. Горожане обвинили митрополита в том, что тот «многие… неистовства и смуту в миру чинит великую, и от тое ево смуты ставитца в миру смятение». На что намекали повстанцы? Не на «выбивание» ли из народа батогами и «ослопьем» вредных привычек, благочестивой модели поведения не соответствующих? Тогда ясно, почему они не перечислили прямо, какие неистовства творил Никон. Разве Алексей Михайлович признал бы «смутой великой» борьбу с пьянством, азартными играми, ненормативной лексикой, волхвованием, скоморохами, ну и заодно с многогласием?! Нет, конечно. Вот они и выразили собственное недовольство Никоном столь обтекаемо.
Зато бунтовщики не церемонились, когда 19 марта во втором часу дня, то есть утром, ворвались «на софейской двор» освобождать Гаврилу Нестерова, которого архиерейские люди, арестовав за подстрекательство к штурму митрополичьих палат, притащили в «софийский» застенок. Возмущенная толпа вскоре нагрянула туда, где укрылись «изменники» – воевода с митрополитом, – и силой вызволила узника из рук палачей. А затем расквиталась с государевым любимцем. «Ослопом в грудь торчма ударили и грудь розшибли и по бокам камением, держа в руках, и кулаки били». Закончив с самосудом, народ повел архиерея к лидеру мятежа – Жеглову, заседавшему с товарищами в земской избе. По дороге кто-то остроумный и придумал оригинальное наказание: раз митрополит так радеет о единогласии, то пусть отстоит хворый и побитый всю церковную службу, от и до, как сам всех учил. По окончании крестного хода к иконе «Знамения пресвятыя Богородицы» в Знаменской церкви на Ильиной улице Никон, «час, стоя и седя, слушал и святую литоргию с великой нуждею и спехом служил и назад болен, в санях взвалясь, приволокся».
Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что новгородское восстание завершило процесс политической переориентации Никона, начатый беседами патриарха Паисия. И то, что после капитуляции 13 апреля 1650 года Новгорода перед царскими войсками митрополит хлопотал у государя о прощении мятежных горожан, не означает ли отчасти акт признания за ту невольную помощь, что мятежные обыватели оказали ему в разрешении крайне важной политической головоломки?!
Кстати, бунт новгородский, как и повлиявшие на новгородцев события в Пскове, где восстание поднялось из-за многократного роста цен на хлеб, породили авантюрные действия И. Д. Милославского, руководившего приказами, отвечавшими за экономику. В его сферу компетенции Ванифатьев не вмешивался. По обыкновению, на рискованную акцию отважились из лучших побуждений, чтобы с меньшими затратами урегулировать возникшую размолвку с двором шведским из-за массовой эмиграции в Россию жителей Ингрии и Карелии, отошедших к Швеции по Столбовскому трактату 1618 года. В Стокгольме согласились на выкуп в размере 190 000 рублей, в том числе за счет экспорта 20 000 четвертей хлеба. Стоимость четверти зерна выводили по прейскуранту псковского рынка. Легко догадаться, почему хлеб в Пскове моментально подорожал в разы. Милославский попробовал сэкономить. Вот и сэкономил, спровоцировав социальный взрыв сразу в двух городах. Но если Новгород успокоился достаточно быстро, то с Псковом, пережившим ценовой шок, провозились дольше. Полтора месяца город осаждали, отразили три дерзких вылазки псковичей, а покорили, как и советовал Никон, милосердием. 21 августа 1650 года Псков покаянным крестоцелованием заслужил прощение царя.
А что же сам Никон? Да, он убедился в правоте Паисия и Морозова, но помочь Борису Ивановичу до зимы не мог, активно содействуя умиротворению псковского мятежа. Добившись 13 и 19 мая амнистии почти всем «заводчикам» новгородской «гили», до сентября он ходатайствовал о том же для псковских бунтовщиков. 1 августа встречался с епископом Коломенским Рафаилом, архимандритом Андроньевским Сильвестром и протопопом Черниговским Михаилом (Роговым). Их Земский собор, заседавший 4 и 26 июля, уполномочил вести диалог с восставшими. В итоге 12 августа гонец привез Алексею Михайловичу настойчивую рекомендацию митрополита проявить снисхождение и к псковичам «четырем человеком пущим ворам». Так что не раньше декабря Никон покинул Новгородскую епархию, чтобы по традиции перезимовать в Москве, подле молодого государя.
И вот странность. В отличие от предыдущей зимы, зима 1650—1651-го выдалась политически очень горячей. И все потому, что кто-то попытался воспрепятствовать официальному упразднению многогласия. 8 декабря 1650 года грек Фома Иванов доставил в Москву грамоту патриарха Парфения II, подписанную им 16 (26) августа, с ответами на четыре вопроса патриарха Иосифа. Главный из них звучал так: «Подобает в службе по мирским церквам и по монастырем честь единогласно?» Вселенский владыка начертал: «Подобает, и чтение быти со тщанием и вслух всем слышащим совершенным разумом единогласно, а не всем вместе… А певцем пети тропари по чину на правом и на левом клиросех по единому или по два, а не многим, а прочему народу слушати. А псалтырь чести не спешно и прочим слушати. И всякое бы чтение лучитца чести всем вслух, також де и на актенье лучитца чести священнику или дьякону в божественней литоргии и народу в то время говорити «Господи, помилуй» по уставу церковному всем единым гласом с тихостию и с молчанием, а певцем пети одним». Того же дня лист патриарха перевели и внесли в царские покои.
Вроде бы все в порядке и пора созывать Священный собор. Но тут прямо-таки некстати в середине января 1651 года из Чигирина – резиденции гетмана Украины – приезжает очередной посол Хмельницкого Михайло Суличич с набившей оскомину за два с половиной года мольбой: запорожскому войску «быть царского величества под высокою рукою». Ясно, какую заученную фразу предстояло продекларировать Волошенинову. И вдруг… 29 января Алексей Михайлович пожелал уточнить у «черкас»: «Какими мерами и как тому быть, что гетману Богдану Хмельнитцкому и всему войску Запорожскому быти под его государевою высокою рукою? И где им жить – там ли, в своих городех, или где инде? О том с ними наказано ли?»
Вопросы более чем красноречивые. Задавал их человек либо очень глупый, либо впервые услышавший об обращениях украинцев. Полагаю, что верно второе. Монарху, чередующему занятия церковной реформой с отдыхом на охоте, некогда было вникать в проблемы малороссийского гетмана. Да, Алексей Михайлович интересовался Малороссией – ее культурой, особенно церковной и книжной. А вот политическая ситуация в крае государя не волновала. На это у него имелись первые министры и думные дьяки – до 1648 года Морозов и Чистой, затем Ванифатьев и Волошенинов. Оба дуэта ограждали юношу от подобных государственных забот. Царь довольствовался тем, что подписывал грамоты и указы, присутствовал на дипломатических приемах и боярских думах, облекая в царскую волю советы старших. Разумеется, он выслушивал и речи послов, в том числе украинских, и доклады министров, среди прочего и о мытарствах «черкасского» народа. Выслушивал, да не слышал. Выражаясь по-простому, вести с Украины в одно ухо царя влетали, в другое вылетали, и, увлеченный иными предметами, Алексей Михайлович быстро забывал о них.
Так бы и жил второй Романов в счастливом неведении и дальше, если бы кому-то из ближнего круга государя в середине января 1651 года не понадобилось усовестить беспечного венценосца, равнодушного и черствого к бедам единоверцев – польских подданных. И кому же? Морозову?! Борис Иванович, судя по депешам Поммеренинга, склонял к тому воспитанника с начала 1649-го. Только тщетно. Слова министра, свалившего государство в революцию, уже не воспринимались воспитанником как истина в последней инстанции. Ванифатьев?! Естественно, нет. Ртищев?! По молодости лет не обладал нужным авторитетом, даже если и сочувствовал украинцам. Остается единственный кандидат – митрополит Новгородский Никон, возвратившийся в Москву из пережившего мятеж Новгорода убежденным сторонником войны с Польшей…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!