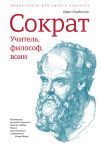Текст книги "Умирая за идеи. Об опасной жизни философов"
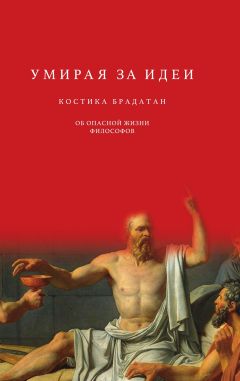
Автор книги: Костика Брадатан
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Философия и биография
В своих «Воспоминаниях о Сократе» (Memorabilia) Ксенофонт вкладывает в уста Сократа следующие слова: «Если я не декларирую свои взгляды открыто, я делаю это своим поведением. Тебе не кажется, что действия являются более надежным доказательством, чем слова?» Нам, безусловно, стоит оценить иронию Сократа. Он предстает непревзойденным оратором, заядлым диалогистом, болтуном, который ругает ценность самого́ произнесенного слова. Но именно потому, что такой поворот делу придает не кто иной, как Сократ, необходимо уделить более пристальное внимание данной позиции. Как те мыслители, что были до и после него, Сократ понимал силу языка, но он также прекрасно осознавал необходимость философии превзойти язык. Поскольку философия опирается на язык ровно настолько, насколько ей это необходимо для победы над ним. Если языку суждено оставаться чем-то значимым, то он не должен удовлетворяться только описанием вещей, а заставлять их происходить, осуществлять изменения. Именно такое изменение, каким бы незначительным оно ни было, часто указывает на то, жива ли философия или нет.
Чтобы еще больше углубить данную мысль, скажу, что средоточием философии, местом ее обитания являются не книги или академические статьи, а тело философа. Философская мысль не существует должным образом, если не воплощена в человеке. Философия – слово, ставшее плотью. Вот почему в описываемой традиции личные биографии философов становятся весьма актуальными. Если философия подтверждается только в той степени, в которой она воплощена в жизни философа, то его жизнь является философской по своей сути и ее исследование мало чем отличается от изучения философского трактата. И как в философском тексте мы ищем правдоподобие доказательств и обоснованность аргументов, так и в жизни философа мы стремимся увидеть последовательность в поведении и согласованность между дискурсом и действием. Действительно, в традиции философии как искусства жизни недостойная биография может нанести репутации философа больший ущерб, чем недостойный аргумент. Если философ не воплощает в жизни философию, которую исповедует, он аннулирует ее[50]50
Далее в этой книге, в главе 3, я вернусь к вопросу об отношении философа к телу и остановлюсь более подробно на некоторых деталях.
[Закрыть]. Таким образом, в определенном смысле жизнь философа следует сценарию, написанному не кем иным, как им самим. Он не может делать то, что ему вздумается: то, что он делает, должно соответствовать тому, что он говорит должно делать. Каждый жест должен вписываться в логику целого; все, что не так, может поставить под угрозу надежность его философии. Попроси, например, Сократ у афинского суда прощения, этот единственный жест – «минутная слабость», назовем это так – стал бы угрозой всей его философской мысли. В жизни тех, для кого философия – искусство жизни, не бывает таких вещей, как биографическая случайность, так же как нет случайностей в хорошо выстроенном повествовании.
Вот почему одним из следствий концепции философии как воплощения является возрождение зна́чимости биографии как литературной формы. Кто-то может заметить, что история жизни философа становится столь же актуальной, как и сама его жизнь, функционируя в виде идеального образа для других, на который смотрят, которым восхищаются и которому подражают. Происходит это потому, что философская биография не состоит из серии отдельных событий, а представляет собой хорошо структурированное повествование, цель которого – обучать и формировать ум читателя[51]51
«Рассказывание историй о героях духа… сыграло определяющую роль в философских школах Античности. Потребность в таких повествованиях привела к созданию идеализированных описаний, которые могли бы просветить и научить» (Miller J. Examined Lives. From Socrates to Foucault. P. 8).
[Закрыть]. Именно потому, что жизнь философа, согласно данной традиции, может рассматриваться как видимое выражение его философии, мы должны читать его биографию так же, как читаем философское произведение. Мы наблюдаем за логикой его действий так же, как следуем за последовательностью его аргументов. И через наблюдение за жизнью философа, через эмпатическое понимание работы его ума и поведения мы формируем наши собственные разум и поведение.
Открытие уединения
Концепция философии как искусства жизни является отличным подспорьем для рассмотрения жизни и творчества Мишеля де Монтеня. Мой обходной маневр, проведший нас сначала через теории Адо и Фуко, должен вывести нас наконец к пункту встречи с Монтенем.
Мишель де Монтень не являлся поклонником академических философов своего времени. Он не любил их «педантизма и абстракций», говорит его современный биограф Сара Бэйквелл. Вместо этого он был полностью увлечен философией иного рода – «великими прагматическими школами», рассматривавшими вопросы, «как справиться со смертью друга, как набраться смелости, как правильно поступать в ситуации морального выбора и как максимально использовать жизненные возможности»[52]52
Bakewell S. How to Live, or A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer. New York: Other Press, 2010. P. 109.
[Закрыть]. Среди мыслителей, которыми он восхищался, были Сократ, Цицерон, Сенека, стоики, скептики и эпикурейцы, которые составляют основу традиции искусства жизни.
В книге «Как жить» Сара Бэйквелл исследует жизнь и произведения Монтеня с одной явной целью – вычленить из них искусство жизни. В результате появляется впечатляющая реконструкция экзистенциальной, культурной и интеллектуальной вселенной Монтеня. Бэйквелл считает, что ключом к миру Монтеня является вопрос «как жить?». Это глубокий, многослойный, а иногда и текучий процесс дознания, который не следует путать с более узким этическим вопросом «как необходимо жить?» Возможно, последний также интересовал Монтеня, но основную часть времени он стремился узнать, «как жить хорошей жизнью», то есть «правильной и достойной жизнью, которая одновременно абсолютно человеческая, несущая удовлетворение и процветание»[53]53
Ibid. P. 104.
[Закрыть]. Действительно, вопрос «как жить?» структурировал всю биографию Монтеня: он открыл ему глаза, заставил его путешествовать, повидать мир, он заставил его заняться политикой, а потом оставить политику, жить с болезнью, привыкнуть к идее смерти и наконец умереть с достоинством. В процессе поиска ответа на вопрос «как жить?», посвящая этому свои труды, Монтень, должно быть, узнал, кто он есть сам.
Кроме того, вопрос «как жить?» заставил Монтеня отойти от повседневных дел, решение, за которое мы должны быть ему безмерно благодарны. По-настоящему жизнь Монтеня началась с того момента, с которого для большинства других людей она заканчивается, – с выхода на пенсию. В 1571 году, в возрасте 38 лет, возможно, как результат разочарования, поскольку его обошли с продвижением по службе, Монтень выходит на пенсию. Наряду с Ницше Монтень, должно быть, стал одним из самых активных «пенсионеров» за всю историю современной философии. По иронии судьбы то, что Монтень делал в то время, когда находился на «активной службе», сегодня столь же малозначимо, как и тогда; но вот его достижения после выхода на покой трудно переоценить. Освободившись от профессиональных обязанностей, он приступил к осуществлению крупного личного проекта: написанию «Опытов». При этом он не только придумал новый литературный жанр (эссе), но и нового литературного персонажа, абсолютно невероятного, который оказал влияние на каждого, кто когда-либо после этого брался за перо и бумагу. Имя этого героя – Мишель де Монтень, и его вполне можно считать первым полноценным интеллектуалом модерна.
В обращении «К читателю», предваряющем «Опыты», Монтень записал знаменитую фразу: «Содержание моей книги – я сам»[54]54
«[J]e suis moy-mesmes la matiere de mon livre» (Montaigne M. de. The Complete Essays / Trans. and ed. with an Introduction and Notes by M. A. Screech. New York: Penguin, 2003. P. lix).
[Закрыть]. Не мир вокруг, ни прошлое, ни настоящее, ни его общество, ни его культура, но он сам. Чтобы не было путаницы, в том же самом обращении Монтень описывает способ, которым он намеревается присутствовать (или, скорее, быть представленным) в книге: «Я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого [c’est moy que je peins]»[55]55
Ibid. См. также: Montaigne M. de. Essais. Vols. 1–3. Paris: Garnier-Flammarion, 1969. Vol.1. P. 35 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. Косикова; примеч. Н. Мавлевич. М.: Правда, 1991. С. 34).
[Закрыть]. Ирония заключается в том, что даже для того, чтобы сказать такую простую вещь, что он хочет быть увиденным в «простом, естественном, повседневном состоянии», Монтеню пришлось подвергнуть это краткое обращение извилистому процессу редактирования и повторного переписывания, дополнения и пересмотра. Например, в оригинале издания 1580 года фраза «непринужденным и безыскусственным» (sans contention et artifice) представляла собой «незатейливым и безыскусственным» (sans recherche et artifice). И так дело обстоит практически с каждой страницей «Опытов». До самой последней минуты своей жизни Монтень продолжал переписывать книгу. Только один этот факт, наряду с формой самого эссе, поднимает некоторые важные вопросы, на которых я хочу остановиться, прежде чем двигаться дальше.
В первую очередь, что такое эссе? Луис Коста Лима говорит о «незаконченности» как об одной из главных характеристик эссе. Выражаясь более техническим языком, он определяет эссе как жанр, который занимает «промежуточное положение между дискурсом, для которого форма является принципиальной (поэтический или вымышленный дискурс), и тем, для которого вопросы смысла имеют первостепенное значение, т. е. прежде всего философским дискурсом». Таким образом, эссе является «в меньшей степени средством распространения идей и в большей – средством постановки вопросов»[56]56
Costa Lima L. The Limits of Voice. Montaigne, Schlegel, Kafka / Trans. by P. Henriques Britto. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996. P. 64.
[Закрыть].
Монтень приходит к эссе из личных побуждений. Должно быть, он оглянулся по сторонам и понял, что ни один из существующих литературных жанров не сможет сослужить ему достойную службу. Если чье-то тело имеет необычную форму, его сложно одеть в одежду из обычного магазина; нужна одежда на заказ. Точно так же и с личностью Монтеня, которая была настолько необычной, что ей требовалась такая литературная форма, которая бы полностью принадлежала только ей, то есть индивидуальный жанр. Вот так «Опыты» появились на свет – как попытка приспособиться к работе необычного ума: «Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее [je ne m’essaierois pas, je me resoudrois], но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса [en apprentissage et en espreuve]»[57]57
Montaigne M. de. The Complete Essays. P. 908. См. также: Montaigne M. de. Essais. Vols. 1–3. Paris: Garnier-Flammarion, 1979. Vol. III. P. 20 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 342).
[Закрыть]. Дональд Фрейм перевел фразу «je ne m’essaierois pas, je me resoudrois» еще более резко: «Я бы занимался не написанием эссе, я бы занимался принятием решений». Эссе противостоит резолюциям, оно – враг твердых решений.
В определенном смысле эссе является нереальным жанром. Оно стремится уловить не сами вещи, даже не вещи в их изменении, но само изменение: «И я не рисую его [предмет] пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте [de jour en jour, de minute en minute]». Такое нельзя вначале прожить, а потом записать, поскольку отсрочка поставила бы под угрозу само намерение, потому что память – самый неверный из слуг. Написанием эссе лучше всего заниматься параллельно с проживанием жизни; в идеале жизнь и писательский труд должны быть едины. Монтень слишком хорошо это знал: «Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу [Il fault accommoder mon histoire à l’heure]»[58]58
Ibid. P. 20 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 342).
[Закрыть]. Если ждать слишком долго, то уловить мы сможем не жизнь, а лишь пепел времени. Отложенный писательский труд превращается в бесполезный.
Именно эта нереальная «программа» лежит в основе огромного успеха «Опытов» Монтеня. Читатель очарован осознанием того, что Монтень хочет осуществить нечто сверхъестественное: уловить неуловимое. Эссе, изначально задуманное как литературный прием, с помощью которого колеблющийся ум находит самовыражение, постепенно превращается в чрезвычайно творческий жанр. Его сила заключается в его универсальности. Мы начинаем любить Монтеня именно потому, что его ум настолько необычен. То, к чему мы получаем доступ в его книге, представляет собой проявление редкого литературного мастерства: Монтень передает тончайшие движения души, почти незаметные изменения состояния ума и эмоций, нюансы, которые часто невозможно выразить словами[59]59
Сара Бэйквелл говорит об «ощущениях, которые сложно передать словами или даже осознать: каково это быть ленивым, или смелым, или нерешительным; потворствовать моменту тщеславия или пытаться избавиться от навязчивого страха. Он даже пишет о явном ощущении жизни» (Bakewell S. How to Live, or, A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer. P. 5).
[Закрыть]. В «Опытах» наше воображение захвачено не ситуативной логикой сюжета, ни непреодолимой силой аргумента, привлекающей внимание[60]60
Как отметила Сара Бэйквэлл, типичная страница «Опытов» Монтеня – это «последовательность меандров, изгибов и расхождений». Вы должны позволить увлечь себя, надеясь не упасть, теряя равновесие каждый раз, когда направление движения изменяется» (Ibid. P. 33).
[Закрыть]. Здесь нечто иное: явная радость наблюдать за работой ума Монтеня и участвовать в его представлении. А это, без сомнения, своеобразный ум, уникальный, порой странный, а порой забывчивый и ленивый. Но это живой ум, который, как мы надеемся, может напитать и наш разум. Эта книга – уникальное письменное свидетельство, оставленное тем, кто пустился на поиски искусства жизни. У книги нет четкой структуры, плана или ярко выраженной линии аргументации[61]61
Сара Бэйквелл говорит о монтеневской «способности сидеть на всех стульях одновременно» (Ibid. P. 97). – Прим. автора.
[Закрыть]. Часто автор как будто забывает, куда он движется, если он вообще куда-то движется. И часто читатель также не знает, что делать с тем, что книга может предложить[62]62
Бэйквелл подмечает, что Монтень говорит нам, «без особой на то причины, что единственный фрукт, который ему нравится, – это дыня, что он предпочитает заниматься сексом лежа, а не стоя, что он не может петь и что он любит живую компанию и часто увлекается искрометной репликой» (Ibid. P. 5).
[Закрыть]. Эта книга тяжелая, запутанная, хаотичная и даже называется «чудовищной»[63]63
См.: Ibid. P. 226.
[Закрыть].
То же самое стремление ухватить невидимое лежит в основе непрерывных усилий Монтеня по редактированию и расширению книги. Тот факт, что он опубликовал ее в 1580 году, вовсе не означает, что работа тогда была закончена. Он внес изменения в последующие издания, и, когда он умер, выяснилось, что философ работал над еще большим количеством изменений и дополнений. Современные переводчики и редакторы «Опытов» используют специальную систему примечаний и кодов для обозначения различных слоев текста Монтеня. Правильнее было бы сказать, что есть только один текст «Опытов», который Монтень хотел держать в состоянии непрерывной трансформации, – живой текст. Важно отметить, что при внесении новых изменений Монтень не искал «лучших» формулировок, как это обычно бывает при редактировании. Скорее всего, он применял одно из своих собственных правил: «Мое повествование относится к определенному часу».
Тот факт, что «Опыты» уже были напечатаны, не имел большого значения. Пока «определенный час» приносил ему что-то новое, это изменение, пусть и незначительное, должно было находить отражение (приспосабливаться) в тексте, при условии правдивости описания. Важно понимать, что эссе никогда не должно быть закончено. Такой поворот почти заставляет воскликнуть: Монтень был не только изобретателем эссе, но и, возможно, единственным истинным представителем этого жанра. Он обращался к нему до конца своих дней. Ибо, чтобы сохранить верность первоначальному замыслу, эссе должно быть формой бесконечного письма. Нельзя перестать писать эссе по доброй воле, только смерть может привести к этому.
Согласно общепринятым литературным стандартам, эта книга едва ли могла рассчитывать на успех. То, что она мгновенно стала бестселлером, почти непостижимо. Но «Опыты» – необычная книга. Иногда смутно, иногда ясно мы понимаем, что необычность «Опытов» заключается не в том, о чем эта книга, а в процессе, который она воплощает. Это процесс, в результате которого формируется чье-то «я», прямо на страницах произведения, на наших глазах. Это книга обо всем и ни о чем, что значит лишь то, что в конце концов речь идет, собственно, о писательстве и самоформировании через него. Мы можем обнаружить части содержания книги в других местах, но то, что происходит в этой книге, больше нигде не найти. Ее написание не «изображает» самость, но создает ее. Когда Монтень говорит «c’est moy que je peins» («я изображаю самого себя»), он вводит нас в заблуждение, как и в других местах. Он ближе к истине тогда, когда в том же самом обращении «К читателю» признается, что «je suis moy-mesmes la matiere de mon livre». В этой фразе есть выражение «la matière de mon livre», которое достаточно двусмысленно и позволяет более свободную интерпретацию. Конструкция может означать то, о чем, собственно, книга (ее «объект»), но может означать просто «предмет», который присутствует в книге, без четкого определения, является ли он тем, что книга привносит в мир либо забирает из него.
По мере того как Монтень пишет свою книгу, происходит нечто удивительное на более глубоком уровне: его книга, в свою очередь, «пишет» его. Написание эссе – это «написание» самого себя; главный герой вашей книги – ваш собственный характер. В конечном счете «Опыты» являются продуктом разума Монтеня точно так же, как его собственная личность является побочным продуктом «Опытов». Самость Монтеня – это не материал (la matiere), из которого сделана его книга, а именно то, что эта книга сотворила. Самой захватывающей историей «Опытов», а у Монтеня много необычных историй, является та, которую мы нигде не найдем в тексте. Ее наличие мы полностью осознаем только после того, как завершим чтение книги. Это история самосозидания Монтеня в процессе написания книги[64]64
Стивен Гринблатт говорит о том, что самоформирование происходит «всегда, хотя и не исключительно, в языке» (Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: from More to Shakespeare. Chicago: University of Chicago Press, 1980. Р. 9).
[Закрыть].
* * *
Чтение «Опытов», как и любой акт чтения, может иметь социальное измерение, но вот написание этой книги должно было происходить в атмосфере абсолютного уединения. Процесс рождения «я» слишком сложен, слишком ценен и слишком важен, чтобы его можно было проводить на глазах у всех. Если и есть что-то, чего вы стремитесь больше всего избежать в такие моменты, так это взгляды посторонних наблюдателей. Монтень проводит четкое разграничение между уровнем нашего бытия, который открыт для публики (причем в него он включает даже свою семью), и тем пространством, которое должно оставаться глубоко личным. На первом уровне (boutique) протекает наша жизнь, в которую всегда вовлечены другие люди, а вот второй (arrière-boutique) служит нам убежищем, когда мы устаем от общества, и где мы можем позволить себе снять наши социальные маски. Только в этом «уголке», предполагает Монтень, мы можем действительно быть собой; уединение является условием подлинности. Если творение «я» является пространственным процессом, если это где-то «происходит», то таким местом является arrière-boutique. Вот почему Монтень призывает нас всегда иметь свободный доступ к этому месту. Редко одиночество так высоко ценилось, как в «Опытах»:
Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок [arrière-boutique], который был бы целиком наш, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой, и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние…[65]65
Montaigne M. de. The Complete Essays. P. 162 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. C. 180).
[Закрыть]
Представление о «я» как о результате процесса написания особенно уместно, если вспомнить, что в пересказе Книги Бытие Пико делла Мирандолой человек остается в незавершенном состоянии. Бог сделал только набросок человека, и задача последнего – завершить работу. Важно отметить, что в мире, описываемом Пико, все еще ощущается космический, социальный и религиозный порядок, в отношении которого или вопреки ему можно обозначить себя и закончить работу над своим «я». Если ничего больше не остается, то высмеивание этого порядка могло бы стать неплохой техникой индивидуализации, философской практикой, посредством которой можно надлежащим образом реализовать свою бытийность. Однако во вселенной Монтеня почти ничего не осталось от древнего порядка. Его мир – мир радикального одиночества, который он выводит в «Опытах».
Тогда возникает вопрос: в мире, где нет ничего определенного, где вселенная не имеет четких границ, как можно завершить тот набросок, которым мы являемся? На фоне чего мы будем заниматься самоутверждением? Ответ: на фоне смерти. Смерть всегда конкретна, даже в самых неопределенных мирах. Все прочее может появляться и исчезать, но смерть всегда здесь, она – абсолютно определенный объект. Монтень знает это лучше, чем кто-либо другой: на протяжении всех «Опытов» он идентифицирует себя на фоне смерти. И многозначным является тот факт, что он начал писать саму книгу после смерти близкого друга.
Смерть и процесс написания всегда находятся в странных отношениях. Именно акт скорби помогает раскрыть высшую ценность писательства. Однажды, в непосредственной близости от смерти, самым трудным испытанием для автора будет найти правильный способ написать о ней. Монтень смог сделать бо́льшее. Выполнение такого интенсивного письменного задания, должно быть, было его способом закончить тот набросок, которым он сам являлся; это была его уникальная подпись, оставленная в этом мире[66]66
Как говорит Хьюго Фридрих, он «завершает открытие и изображение самого себя в размышлениях о смерти» (Friedrich H. Montaigne / Ed. with an Introduction by Ph. Desan. Trans. by D. Eng. Berkeley, CA: University of California Press, 1991. P. 258).
[Закрыть]. Он посмотрел в глаза смерти и узнал все, что ему нужно было знать о самом себе.
То, как Монтень и другие философы смотрели на смерть, – именно об этом пойдет речь в следующей главе.
Глава 2. Первый уровень
Стремясь лишить смерть ее безмерной власти над нами, давайте научимся встречать ее грудью и вступать с ней в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будем всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличьях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, будем повторять себе всякий раз: «А что, если это и есть сама смерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствию захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам не подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих.
Мишель де Монтень
Неуловимый герой
Настал момент представить второго героя нашей истории – смерть, поскольку я, в конце концов, обещал вам представить драматическое повествование о противостоянии философа и смерти. Но боюсь, что тут-то и начинаются все настоящие беды рассказчика, поскольку смерть – неуловимый и хитрый персонаж. Говорить о смерти – значит говорить об эфемерном, но при этом сложном и запутанном объекте. Раскрытие смерти происходит постепенно, от уровня к уровню. Это уровни «отсутствия»: отсутствие в отсутствии отсутствия. Рискуя все упростить, я в своем повествовании рассматриваю проникновение философа только на два уровня смерти. Первый является предметом рассмотрения данной главы. А со вторым вы познакомитесь в главе 4.
Когда философ впервые знакомится со смертью, то это не его собственная смерть. В этот момент философ еще относительно молод и знает смерть только как «философскую проблему», теоретическую провокацию или затруднительную ситуацию, которую нужно хорошенько обдумать. Поэтому его подход, как ни странно, одновременно наивен и изощрен. Наивность связана с недостатком личного опыта, который придет позже, а изощренность вытекает именно из наивности. Будучи молодым или достигнув среднего возраста, философ еще не попадет в «тень смертную». Его жизненные функции находятся в прекрасном состоянии, а разум не замутнен страхом смерти. Он может подробно рассматривать смерть, исследуя ее с разных точек зрения и в разных направлениях. Он также может позволить себе безмятежно стоять перед ней, поскольку еще недостаточно мудр (а мудрость – речь уставшей плоти), не зная, с чем столкнулся на самом деле. Он не задумываясь приступает к теме смерти, поскольку в этом возрасте смерть для него не что иное, как «тема». В блаженном невежестве он берется за нее, подобно человеку, который ныряет в реку, не осознавая ее глубины. Ему не страшно, потому что он не в состоянии увидеть дна.
Таким образом, философы могут говорить глубокие вещи о смерти, но они делают это, возможно, не полностью понимая, что они говорят. Я рассмотрю три наивно-изощренные встречи со смертью: в «Опытах» (1580) Мишеля де Монтеня, у Мартина Хайдеггера в его работе «Бытие и время» (1927) и в «Опыте смерти» (1936) Пауля Людвига Ландсберга.
Интермеццо, в котором смерти угрожают приручением
И что только смерть не творит с нами! Веками поэты, проповедники и моралисты не переставали удивляться тому, как мастерски смерть улавливает нас в свои сети. Смерть, утверждали они, является тираном всего человечества, она сводит все на нет, превращает великолепие в пепел, а нас – в пищу для червей и навоз для почвы. Страх смерти затуманивает разум и отравляет душу. Близость смерти заставляет армии трепетать, а храбрецов – дрожать от страха. Нет ничего такого, чего бы смерть не могла сотворить с нами задолго до своей основной работы. Все это, и даже еще более ужасное, не раз говорилось о смерти. Ослепленные ее непомерной силой, мы тем не менее можем иногда различить немногочисленные возможности, которые могут помочь нам справиться со смертью, что-то сделать с ней. Как ни парадоксально, но смерть можно привлечь к процессу самосотворения. Благодаря выходу за пределы собственной «самости» мы можем изменить расстановку сил в борьбе с повелительницей всего того, что направлено на разрушение, и заставить ее играть на руку противной стороне.
Саймон Кричли говорит о тех «актах ‘самосоздания’ и ‘самотворения’, когда смерть становится моей работой, а самоубийство – конечной целью»[67]67
Critchley S. Very Little… Almost Nothing. Death, Literature, Philosophy. London: Routledge, 1997. P. 25.
[Закрыть] . Он выражает точку зрения, согласно которой самоубийство является живым доказательством нашей возможности в определенной степени контролировать саму смерть. Тот факт, что мы можем положить конец собственной жизни, свидетельствует о том, что мы обладаем метафизически обоснованной свободой, позволяющей нам вступить в противоборство с Богом. Принадлежащий к той же традиции Альбер Камю считал, что самоубийство необходимо рассматривать как фундаментальную философскую проблему.
Однако есть возможность, благодаря которой мы можем контролировать смерть, не совершая самоубийства. Менее драматичный и менее притязательный, данный способ «приручения» смерти может оказаться более сложным, чем самоубийство, поскольку предполагает регулярную практику «смерти в жизни». Нет никаких показных жестов, выстрелов или кровопускания в ванной, в окружении плачущих друзей и рыдающих возлюбленных: «О боже мой!» Но есть процесс постепенного, осторожного включения смерти в повседневность, который приводит к тому, что смерть становится неотъемлемой частью каждого мгновения нашей жизни.