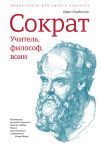Текст книги "Умирая за идеи. Об опасной жизни философов"
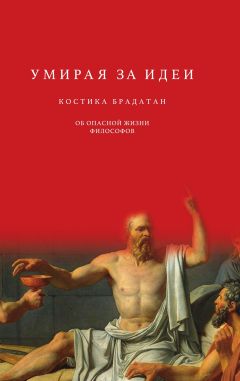
Автор книги: Костика Брадатан
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«О том, что философствовать – значит учиться умирать»
Хотя «Опыты» Мишеля де Монтеня вовсе не являются книгой о смерти, в ней отражены одни из самых глубоких в истории современной философии размышлений о ней[68]68
В своей книге о Монтене Гюго Фридрих открыто называет данную работу «одним из величайших текстов о смерти постантичного западного мира» (Friedrich H. Montaigne. P. 258–259).
[Закрыть]. Его повествование – способ преодолеть боль, причиной которой стала смерть самого близкого друга Монтеня, которому он был предан всю свою жизнь, Этьен де Ла Боэси (1530–1563).
«Опыты» появились на свет как следствие глубокой скорби[69]69
По словам Сары Бэйквелл, Монтень «так и не смог забыть Ла Боэти, но он научился существовать в мире без него и тем самым изменить собственную жизнь» (Bakewell S. How to Live, or, A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer. Р. 108).
[Закрыть]. Размышления о смерти разбросаны по всей книге, но одно эссе представляет собой особый интерес. Оно называется «О том, что философствовать – это значит учиться умирать» (Que philosopher c’est apprendre à mourir). Цицероновская максима, результат прямого сократо-платоновского вдохновения, приводит Монтеня к одному из самых возвышенных размышлений. Он использует классический подход, переплетая интонации Платона и Сократа. Философская практика, согласно данной традиции, подразумевает наличие определенного отношения к собственному телу, а именно отрешенности от него. Философское «отчуждение» означает отрешение философа не только от мира, но и от его собственной материальности, которая является чем-то «чуждым» его миссии. Философ данного направления должен не только не любить свое тело, но и всеми своими поступками демонстрировать враждебное отношение к нему.
Поскольку смерть есть отделение души от тела, именно благодаря этой практике обособления философ приобретает полное понимание того, что такое смерть. Можно «репетировать» собственную смерть, оставаясь живым, регулярно отстраняясь от своего тела[70]70
В этом и заключается смысл умерщвления (плоти) в аскетических традициях, где этот процесс также сопровождается определенными телесными практиками (постом, самобичеванием и т. д.).
[Закрыть]. Успех данной философии заключается в том, что она помогает человеку воспринимать тело как нечто внешнее по отношению к самому себе. По сути, это тюрьма, из которой нужно бежать. Монтень начинает свое эссе, перенимая данный платоновский способ мышления. Для него философствовать – значит научиться различать душу и тело, постоянно помня об этом отличии. Такое состояние разделения, напоминающее и предвещающее смерть, является идеальной отправной точкой философии, ибо изучение и размышление, замечает Монтень, «влекут нашу душу за пределы нашего бренного „я“, отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти [qui est quelque aprentissage et ressemblance de la mort]»[71]71
Montaigne M. de. The Complete Essays. Р. 89. См. также: Montaigne M. de. Essais. Vols. 1–3. Paris: Garnier-Flammarion, 1969. Vol. 1. P. 127 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 63).
[Закрыть]. Настоящий философ – ученик смерти.
Вскоре, однако, Монтень переходит на более очевидный стоический тон. Он делает два важных замечания. Во-первых, никто не может избежать смерти. «Нет такого места, где смерть нас не настигнет». Быть человеком – значит постоянно двигаться навстречу смерти. Ничто не может сбить нас с этого пути, и с каждым мгновением мы все ближе к нашей конечной цели. «Конечная точка нашего жизненного пути – это смерть, предел наших стремлений»[72]72
«Le but de nostre carrière, c’est la mort, c’est l’object necessaire de nostre vise» (Montaigne M. de. Essais. Vols. 1–3. Paris: Garnier-Flammarion, 1969. Vol. I. P. 129. См. также: Montaigne M. de. The Complete Essays. Р. 92 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 66)).
[Закрыть].
Второе замечание Монтеня связано с «неверным» восприятием смерти. Таково отношение «обычных людей», называемых им по-французски vulgaire, которые стремятся решить проблему, не задумываясь над ней. Достаточно просто произнести слово «смерть», чтобы напугать их. Это неверный подход, поскольку оставляет людей совершенно не подготовленными к встрече со своим концом. Когда смерть настигает их (а она всегда добивается своего), такие люди оказываются в самой неприглядной ситуации: чем больше их провалы в знаниях о смерти, тем больший ущерб они терпят. Обладая неподготовленным, необученным детским разумом, помещенным во взрослое тело, они превращаются в игрушку для смерти. Они умирают не один, а несколько раз, и каждый раз все более ужасной смертью. Монтень пишет, что, когда смерть приходит «к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив их врасплох, беззащитными, – какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным?»[73]73
Montaigne M. de. The Complete Essays (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 69).
[Закрыть].
Это убеждает Монтеня в том, что смерть необходимо воспринимать иначе. В рамках подобия стоической традиции он разрабатывает свой собственный подход к смерти, метод, который так же прост, как и смел: застаньте смерть врасплох, столкнитесь с ней лицом к лицу. Если она постучит к вам в дверь, сделайте неожиданное – впустите ее. Если она попытается запугать вас, не убегайте, а улыбнитесь в ответ и обнимите ее. Если смерть встретит такое поведение ухмылкой, будьте безгранично вежливы. А поскольку смерть не привыкла к столь утонченным манерам, это выбьет ее из колеи.
Фрагмент, который я использовал в качестве эпиграфа к данной главе, демонстрирует суть подхода Монтеня и несет не только описательный, но перформативный характер. На уровне описания Монтень выдвигает аргумент о том, что мы боимся смерти потому, что мало знаем о ней. Власть смерти над нами парадоксальна: ее ужас заключен не в какой-то положительной черте, которой она обладает, а в том, чем она не является, в том неведомом, что она пробуждает. Отсюда и лекарство, которое прописывает Монтень. Он пишет: «чтобы отнять у нее ее главный козырь», мы должны лишить ее загадочности, присмотреться и приучиться к ней. Порой замечания Монтеня звучат как «манифест смерти»: «Будем всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличьях»[74]74
Ibid. Р. 96 (рус. перевод: Там же. С. 69).
[Закрыть].
* * *
Будучи ставленниками привычек и приверженцами проторенных путей, мы всегда стремимся придерживаться того, что прекрасно знаем. Основной водораздел, управляющий нашей жизнью, проходит не между добром и злом или ложью и истиной. Он более примитивен и заключается в интуитивном различении знакомого и неизвестного. Мы строим наши отношения с миром и другими людьми, структурируем нашу жизнь и выплескиваем свои эмоции в первую очередь вдоль этой пограничной линии. Знакомое – неизвестное, свой – чужой, принятие – отвержение – все эти категории влияют на наш разум и формируют нашу жизнь. Древние греки делили мир на знакомую вселенную, служившую основанием человеческой жизни (ее они называли oikouméne, или «населенный мир»), и на сомнительные моря за линией горизонта, неизведанные и не отмеченные на картах. Основой определения oikouméne служило то, что было хорошо знакомо, то есть oîkos, термин, буквально переводимый как «домовладение» или «семья». Конечно, можно утверждать, что онтология человека по своей сути является онтологией обитания. То, как наш разум воспринимает мир, мало чем отличается от того, как наше тело существует в нем. Этот мир «наш» в той степени, в которой мы можем чувствовать себя комфортно и свободно в нем. Данную мысль Ян Паточка выражает при помощи довольно ярких образов. Весь мир, пишет он,
может быть подобен коленям матери и стать теплым, сердечным, улыбающимся, своего рода защитным стеклянным колпаком; либо в нем может быть космический холод с его мертвенно-ледяным дыханием. Оба образа тесно связаны с тем, находится ли в мире или вне его тот, кто улыбается нам и встречает нас заботой[75]75
Patočka J. The ‘Natural’ World and Phenomenology // E. Kohak, J. Patočka. Philosophy and Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press, 1989. P. 264.
[Закрыть].
Человеческая жизнь проживается и процветает тогда, когда у нас получается погрузиться в мир, как будто он представляет собой «материнские колени». Жить – значит испытывать любовь к дому; быть человеком – значит превратить мир в свой дом, а космос сделать обитаемым. Вещи и события становятся понятными, как только попадают в статус «знакомого», они обретают смысл до такой степени, что теперь мы можем найти для них место по нашу сторону разделительной черты. Если бы у нас получилось проделать то же самое со смертью, как бы преобразилась наша жизнь!
Египетский трюк
Суть точки зрения Монтеня проста: чтобы сделать жизнь жизнеспособной, необходимо найти в ней место для смерти. «Так поступали египтяне, – утверждает он, – у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника». Возможно, египтяне так никогда не поступали, но мораль сей истории настолько хороша, что ее стоит упомянуть: хорошо жить – значит не просто осознать существование смерти, но и приручить ее. Вам нужно принять ее у себя дома, проявить к ней гостеприимство, дать место за своим столом и хорошо позаботиться о ней.
Искусство жизни можно свести к науке дозирования: если впустить слишком много смерти в свою жизнь, то можно ею отравиться, но, если смерти будет недостаточно, жизнь может разрушиться и превратиться в безвкусную и бесцветную. Как пишет Монтень,
посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствию захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам не подвержена наша жизнь![76]76
Montaigne M. de. The Complete Essays. Р. 96 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 70).
[Закрыть]
Монтень верит в то, что, впустив смерть в наше бытие, мы тем самым лишаем ее самой жестокой характеристики – неожиданности. По иронии судьбы, даже несмотря на то, что приход смерти всегда неизбежен, большинство из нас бывают застигнуты ею врасплох. Вот почему «прирученная» смерть становится менее непредсказуемой. И не потому, что теперь мы можем назначить час своего ухода: такое возможно только у самоубийц. Но мы можем подготовить нашу плоть и дух таким образом, что, реши смерть прогуляться с нами, мы будем мгновенно готовы и скажем ей, как старому другу, которого заждались: «Конечно! Пошли!» Монтень пишет: «Насколько это возможно, мы должны быть всегда наготове». Вы так хорошо подготовлены к встрече со смертью, что независимо от того, когда она объявится, она не застанет вас врасплох. «Я хочу… чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду»[77]77
Montaigne M. de. The Complete Essays. Р. 98–99 (рус. перевод: Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 72).
[Закрыть].
Ключом к такому отношению является чувство «вовремя», которое рождается как раз из регулярного приручения смерти. «Вовремя» нельзя измерить, потому что для этого нет никаких часов. У древних греков было два слова, обозначающих время: chrónos, которое определяло обычное, измеримое время, и kairós, используемое для очень особого времени, которое нельзя измерить никакими часами и отследить какими-либо механизмами. Все повседневное протекает в рамках chrónos, но необычные события, например божественное явление, сопряжены только с kairós. Это ощущение «вовремя», которое вполне можно расценить как дар, который мы получаем от смерти в знак признательности за проявленное к ней гостеприимство, ближе всего подводит нас к истинному kairós в нашей жизни.
Работа «О том, что философствовать – это значит учиться умирать» является не только описательной, но, как я уже упоминал ранее, несет двойной перформативный смысл. Во-первых, как и все остальные части «Опытов», данный текст является составляющей процесса самонастройки: размышления Монтеня о смерти представляют собой составную часть его стремления к самомоделированию. Однако его мысли на данную тему перформативны в более конкретном смысле. Смерть в его книге выступает не только объектом рационального анализа, но и объектом зачарованности и заклятия. Ее не только обсуждают, но и действуют в согласии с ней. Кажется, что Монтень стремится избавиться от того злого заклятия, которое смерть наложила на него; как будто он надеется, что его собственное писательское заклятие может «расколдовать» смерть. Несомненно, эссе, сочетающее в себе классические примеры, фрагменты литературы мудрости, собственные воспоминания и личные представления, вполне вписывается в общее повествование книги. Однако оно также содержит фрагменты концентрированной, повторяющейся, иногда загадочной красоты, богатой внутренней рифмой и колдовским языком, напоминающим о тревожной выразительности, с которой сталкиваешься в магии. Например:
Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом [Qui a apris à mourir, il a desapris à server].
Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни – это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь. [Vous estes en la mort pendant que vous estes en vie. Car vous estes après la mort quand vous n’estes plus en vie].
Вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее, умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже [a mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement][78]78
Ibid. Р. 96–103 (рус. перевод: Там же. С. 70, 77). См. также: Montaigne M. de. Essais. Vols. 1–3. Paris: Garnier-Flammarion, 1969. Vol. I. P. 132–138.
[Закрыть].
В подражание Сократу
Присмотревшись более внимательно, мы поймем, что за красотой текста Монтеня скрывается фундаментальный парадокс, лежащий в основе его философствований о смерти. С одной стороны, Монтень стремится сделать присутствие смерти обыденным в жизни. Он убедительно описывает, как можно получить контроль над смертью через медитацию, подготовку и, если вам повезет, ощущение «вовремя». Но, с другой стороны, смерть – это то, что, собственно говоря, мы никогда не позна́ем. Мы можем философствовать о смерти, говорить и писать о ней, но мы никогда по-настоящему не узнаем смерть по той простой причине, что живы. Мы можем пройти через нее только один раз, но написать об этом опыте уже не сможем. Как много философы пишут глубоких вещей о смерти! Но им самим не суждено подтвердить эти мысли, не пройдя прежде через смерть. Смерть для философа может быть только упреждающим предположением.
Кроме того, это значит, что единственным авторитетным эпистемологическим источником для философов при разговоре на данную тему является смерть других. В философской традиции жизни как искусстве, к которой принадлежит Монтень, смерть знаковых фигур, таких как Сократ, Катон, Сенека и другие, играет важную смыслообразующую роль. То, что эти люди умерли именно так, как, по их мнению, должен умереть философ, было воспринято впоследствии в качестве подтверждения их философии. Ранее я уже говорил, что они не просто умирали. Их смерть воплотила философскую программу, сформировавшую их жизнь. Вся их биография, включая смерть, – философская работа.
Вместе с тем все образцовое, без сомнения, порождает проблему подражания. Мы считаем что-то «образцовым» в том случае, если есть ощущение, что это может стать определенной моделью. «Образцовая смерть» ценится и славится за гармонию с той философией, согласно которой она ожидалась. Ее поклонникам предлагается совершить собственную смерть таким же образом, то есть в соответствии со своими убеждениями. «Величие» философской смерти рождается из желания подражать «учителю смерти». В определенном смысле в этом кроется секрет «бессмертия»: философия учителя естественным образом перетекает в его смерть, восхищает других и воспроизводится ими, тем самым продолжая жить.
И все же подражать чужой смерти не так просто. Умирание – это глубоко личный опыт, и в действительности его нельзя воспроизвести. Нельзя умереть чужой смертью. Будучи поворотным моментом в жизни человека, каждая смерть имеет отличительную «ауру», свою собственную, которую нельзя сымитировать. Чисто «механическое» воспроизведение чьей-то «образцовой смерти» или какой-либо другой может послужить поводом к осмеянию вашего существования, или, как сказала бы Симона Вейль, привести к провалу в случае собственной смерти. Вот почему лучшее определение для формулирования отношений между индивидуальной смертью и «образцовой» можно найти у Луиса Косты Лимы в его понятии мимесис (mímēsis). Коста Лима считает, что переводить mímesis словом «имитация» не совсем верно, поскольку оно подразумевает сильный элемент инаковости. Для него мимесис[79]79
Оно вовсе не «сводится к опыту вымышленного» (Costa Lima L. Control of the Imaginary: Reason and Imagination in Modern Times. P. 9).
[Закрыть] связано с творением чего-то нового. Это звучит нелогично, но в «Управлении мнимым» (Control of the Imaginary) Коста Лима приводит убедительные доводы. «Настоящий путь мимесиса, – пишет он, – предполагает не только копирование, но и разницу. Вместо того чтобы подражать, мимесис творит различия»[80]80
Однако он добавляет, что это различие не является ни беспричинным, ни хаотичным. Это не «своеобразное различие, похожее на индивидуальный диалект, но социально распознаваемое, потенциально приемлемое различие» (Costa Lima L. Control of the Imaginary: Reason and Imagination in Modern Times. P. 8–9).
[Закрыть]. Опыт мимесиса обогащает: вы смотрите широко открытыми глазами на внешнюю модель, но в то же время следите за тем, чтобы не забыть о своих внутренних возможностях. Конечный продукт – не точная копия модели, а нечто, имеющее собственную жизнь.
Воспринимать чужую смерть как «образец» – неплохо сбалансированный опыт, который одновременно сложен и рискован. С одной стороны, если слишком увлечься копированием деталей модели, вы можете умереть пустой смертью, «механически воспроизведя» чужой конец. С другой стороны, если недостаточно имитировать модель, то можно умереть одной из тех «вульгарных» смертей, которые так презирал Монтень. Вы должны четко ориентироваться в этих двух крайностях. Вот почему понятие mímēsis как результат различий может предложить более адекватное понимание «образцовости», когда речь заходит о смерти. То, что вы делаете, не является «подражанием» образцовой смерти, а представляет собой ваше личное «творение», часть более масштабного проекта самосозидания. Таким образом, вы умираете своей собственной смертью, которой можете умереть только вы.
Автопортрет с рукой скелета
Идея Монтеня о том, что мы должны «приручить» смерть и принять ее в лоно нашего бытия, все еще может показаться сложной для восприятия. Что на самом деле означает «включать» смерть в жизнь? Разве эти категории не являются абсолютными противоположностями? Для конкретизации понятий я хотел бы использовать следующий пример. В 1895 году норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944) создал литографию под названием «Автопортрет с рукой скелета» (ил. 1). В работе Мунк использовал мел, чтобы изобразить характерные черты своего лица, проступающего на черном фоне, созданном при помощи индийских чернил. Нижняя часть композиции представляет собой руку самого художника, покоящуюся горизонтально на раме, но эта рука – рука скелета[81]81
Говоря об этом автопортрете и его значении в ряде схожих работ Мунка, Арне Эггум отмечает: «Данная литография стала особым изображением художника-символиста Эдварда Мунка. Она является также самым точным портретом, который он создал. Позволяя одному глазу смотреть прямо перед собой и заставляя левый смотреть вниз и внутрь, ему удалось выразить баланс раскрытия души субъекта» (Eggum A. Munch’s Self-Portraits // Rosenblum R. et al. Edvard Munch. Symbols & Images. Washington, DC: National Gallery of Art, 1978. P. 20).
[Закрыть].

Ил. 1. Эдвард Мунк. Автопортрет с рукой скелета (1895). Литография. Музей Мунка, Осло. MM G 192 (Woll G 37). © Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / ARS, New York 2014
Рука скелета немедленно приковывает внимание зрителя. При рассматривании картины эта рука может восприниматься просто как деталь, размещенная в нижней части работы, но она диктует общую динамику зрительского восприятия. Вначале вы, возможно, захотите отвести взгляд от этой руки, поскольку она акцентирует именно смерть.
Ваш взгляд медленно двигается вверх по полотну, исследует лицо художника, даже задерживает на нем какое-то время. Вы не можете пропустить проницательного взгляда Мунка, молча сталкивающегося с вашим. И все же, прежде чем вы это осознаете, ваши глаза вновь опускаются на руку скелета. Эти голые кости становятся неотвратимо притягивающим центром литографии. К этому моменту ваш разум достаточно исследовал полотно, чтобы связать символизм темного фона с внутренней частью гробницы. Недаром искусствоведы говорят, что данная композиция по своей форме напоминает надгробие[82]82
Например, у Арне Эггума можно прочесть: «Картина выполнена в виде надгробия… Автопортрет можно… в принципе рассматривать как memento mori, напоминание о смерти» (Eggum A. Munch’s Self-Portraits. P. 20).
[Закрыть].
Сложно переоценить роль руки в истории и онтологии человечества. Многое из того, чем мы являемся, не только в анатомическом, но и когнитивном смысле, обусловлено данной частью нашего тела. Мы используем руку, чтобы воздействовать на мир, позиционировать себя по отношению к нему, а также чтобы исследовать, «улавливать» мир. Действительно, рука не просто «окно в разум», как выразился Кант[83]83
Цит. по: Tallis R. The Hand: A Philosophical Inquiry in Human Being. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. Р. 4.
[Закрыть], но и видимое его выражение, оптимальный способ явить этот разум. Сложная связь между человеческой рукой и разумом стала в последнее время предметом изучения психологов, феноменологов и ученых, занимающихся когнитивными исследованиями. С точки зрения эволюции рука – один из самых совершенных инструментов, когда-либо разработанных человечеством в ходе процесса, который одновременно, через развитие руки, превращал нас в людей. Как и язык, рука – это то, что делает нашу жизнь по-настоящему человеческой. Раймонд Таллис говорил о том, что «рука – инструмент трансцендентности, необходимый для того, чтобы вывести нас из дикой природы», который коренным образом отличает нас от животных[84]84
Ibid. Р. 32.
[Закрыть].
Вот почему использование Мунком руки, той части человеческого тела, которая преимущественно связана с жизнью, для представления вторжения смерти в наше бытие в его самом расцвете является поразительно проницательным жестом. Своей литографией Мунк показывает, что смерть – это не то, чем мы можем легко управлять; это разрушительное событие вселенских масштабов. Когда она приходит, то приходит, чтобы уничтожить то, что определяет нас. Поражая нас, смерть не тратит время понапрасну, а бьет прямо в сердце жизни, оставляя только обглоданные кости. Автопортрет с рукой, плоть которой уже уничтожена смертью, является представлением человеческой бренности в ее самом неприглядном виде. Только один этот образ говорит о нашей конечности более красноречиво, чем все философские трактаты.
Кроме того, кости, которые мы видим на литографии Мунка, принадлежат не кому-нибудь, а самому художнику. Вся жизнь художника сосредоточена в его руке: никакая другая часть тела, кроме, возможно, глаз, не играет в его жизни столь важной роли. Нет ничего более близкого ему, чем рука. Я полагаю, что для любого художника рука должна являться воплощением близости: можно хранить секреты от других людей, близких друзей и даже любовников, но никогда от собственной руки. Между художником и его рукой должно существовать полное доверие. Слишком хорошо художник знает, что предательство его руки может стать непростительным! Однако Мунк выбирает именно руку художника как дверь, через которую в картину врывается смерть. В результате появляется не только поразительно оригинальный автопортрет, но и картина, передающая абсолютно сверхъестественное, когда объединены самое непознанное и самое известное. «Я не мог поверить, что смерть была так неизбежна, буквально под рукой», – однажды заметил Мунк[85]85
Stang R. Edvard Munch. The Man and his Art / Trans. from the Norwegian by G. Culverwell. New York: Abberville Press, 1979. P. 34.
[Закрыть].
Работа Мунка «Автопортрет с рукой скелета» хорошо иллюстрирует идею Монтеня о том, что лучший способ справиться со смертью – сделать ее частью жизни. Художественный инстинкт заставил Мунка искать смерть в самом неожиданном месте: в самом сердце жизни. Одними из главных тем творчества Мунка, как он сам выразился, были «любовь и смерть», но не как отдельные сущности, а как сложная любовно-смертельная взаимосвязь. Его работа «Девушка и смерть» (ил. 2), написанная в 1894 году и изображающая обнаженную молодую женщину, похотливо обнимающую и целующую скелет, ярко демонстрирует эту идею. Акт любви, в котором берет свое начало сама жизнь, является для Мунка смертоносным столкновением. В своем страстном соитии «смерть тянется к жизни». Улыбка женщины, занимающейся любовью, есть не что иное, как «улыбка трупа»[86]86
Velsand T. Edvard Munch. Life and Art / Trans. by J. Irons. Oslo: Font Forlag, 2010. P. 9.
[Закрыть].

Ил. 2. Эдвард Мунк. Девушка и смерть (1894). Литография. Музей Мунка, Осло. MM G 3 (Woll G 3). © Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / ARS, New York 2014
Эдвард Мунк не только представлял в своих работах смерть и болезни, но каким-то образом умел вплести их в свое художественное ви́дение. Он впустил слабость и немощь, этих посланников смерти, в ближайший круг своего бытия, предложив им гостеприимство и дружбу. Мунк говорил: «Я должен сохранить свои физические недостатки; они являются неотъемлемой частью меня. При всей неприглядности изображаемых мной болезней я не хочу избавляться от них». Действительно, он превратил их в своих ближайших художественных соратников.
Как заметил один искусствовед, Мунка «на протяжении всей его жизни преследовала мысль о смерти, но тем не менее он считал болезнь почти обязательным условием своего творческого процесса»[87]87
Stang R. Edvard Munch. The Man and his Art. P. 36.
[Закрыть]. Монтень, у которого тоже было слабое здоровье, наверняка согласился бы с таким положением вещей.
Несмотря на то что Мунк пришел к выводу о необходимости позволить смерти войти в нашу жизнь несколько иначе, чем это было у Монтеня, отправная точка, возможно, была той же. У Монтеня преждевременная кончина близкого друга, а затем и отца привела к апологии искусства жизни, в центре которой стоит смерть; для Мунка смерть большинства членов семьи сделала «ничто» центром его существования. «Я живу в окружении смерти: моя мать, сестра, мой дед и отец… Все мои воспоминания, в самых мелких подробностях, начинают оживать»[88]88
Eggum A. Munch’s Self-Portraits. P. 62.
[Закрыть]. Эти события повлияли на представления Мунка о себе. Он противостоял им, мирился с ними и в конечном счете сделал частью собственного «я». В конце концов он нашел способ, как жить бок о бок со смертью. Мунк писал: «Я вошел в этот мир по лезвию смерти. Поэтому мои родители вынуждены были крестить меня дома, и как можно скорее». Действительно, в момент родов мать Эдварда уже «носила в себе возбудителей туберкулеза», который убьет ее через шесть лет. «Болезнь, безумие и смерть были черными ангелами, которые воспарили над моей колыбелью, да так и продолжали преследовать меня всю жизнь»[89]89
Stang R. Edvard Munch. The Man and his Art. P. 31.
[Закрыть].
Возможно, Мунк никогда не читал книгу Монтеня[90]90
Образование Мунка было довольно скудным, и, хотя он был очень любознательным человеком, пристрастием к чтению книг не отличался. Однако его друзей удивляла его необыкновенная проницательность и познания в различных областях, которыми он, казалось, обладал. Современный художник Людвиг Равенсберг заметил: «Мунк, сам того не осознавая, знал очень много. При этом никто не мог сказать, откуда эти знания у него появились» (Bjerke Ø. S. Edvard Munch and Harald Sohlberg: Landscapes of the Mind. New York: The National Academy of Design, 1995. Р. 19).
[Закрыть], но пришел к схожим выводам. И если бы он знал о традиции египтян вносить мумию в пиршественные залы, то камня на камне не оставил бы до тех пор, пока не купил бы одну из них для личных нужд. А поскольку этого не произошло, то ему пришлось частично воссоздавать себя в качестве мумии в работе «Автопортрет с рукой скелета».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!