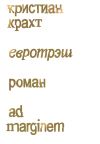Текст книги "Моя дорогая Ада"
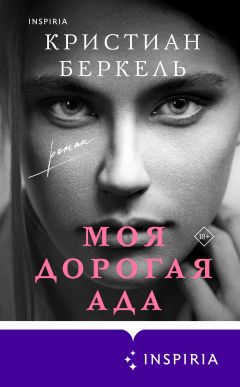
Автор книги: Кристиан Беркель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Возвращение
Я, сама того не понимая, жила ради этого момента три месяца. И вот он настал. Перед школой припарковался новенький «Фольксваген-жук», зеленый, как елка. Когда отец выходил из машины, я заметила на пассажирском сиденье женщину. У нее были другие волосы. На ней был костюм в черно-серую гусиную лапку. Она медленно открыла дверь. Я прыгнула в объятия отца. Она осторожно приблизилась. Я увидела из-за его плеча ее. Свою мать.
– Ада. – Она подошла, положила голову отцу на плечо, совсем рядом с моей. – Ты выросла, – прошептала она.
Конечно, ты ведь уехала на полжизни, подумала я. У меня закрылись глаза, и я почувствовала, как меня обнимает ее рука, а потом мне стало плохо. Это произошло так быстро, что я ничего не успела сделать. Но им в любом случае было плевать, они не ругались, даже смеялись. Моя мать вернулась. Она меня не бросила. Какая разница, из Парижа или из Буэнос-Айреса?
В следующие месяцы все изменилось. Отец ушел из клиники и купил собственную практику. Не знаю, что заставило его изменить взгляды – возможно, он передумал делать карьеру в университетской клинике, а может, хотел предложить матери беззаботную жизнь и все, что, с его точки зрения, к ней прилагалось, а возможно – не мог подчиняться и хотел самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Со мной никто ничего не обсуждал. Не сказать чтобы меня это беспокоило, в конце концов, мы вскоре переехали в чудесный дом, виллу в зеленом районе на севере Берлина, во Фронау, с огромным садом, парком, который показался мне даже больше парка семьи Соннтаг в Буэнос-Айресе, хотя, конечно же, он был гораздо меньше, у меня появилась собственная комната со своей ванной, мы жили на природе и проводили выходные на настоящем поле для игры в поло, где я брала уроки верховой езды, пока родители наблюдали за мной с террасы ресторана и пили кофе с пирожными. Эта сладостная неразбериха затмила все и настолько меня увлекла, что таинственный другой мужчина вылетел из головы.
Наконец мы стали нормальной семьей, с отцом и матерью, которые любили друг друга, как я всегда мечтала. И думала: это немного относится и ко мне. Мать почти всегда была в хорошем настроении, снова смеялась и шутила со мной, с большим рвением обставляла наш красивый дом, таскала нас с отцом по всем берлинским антикварным лавкам и с большим мастерством торговалась, пока продавцы не бледнели и не отдавались неизбежной судьбе. Если она влюблялась в вещь, то не отпускала ее, пока та не оказывалась в нашем доме – обычно это происходило с первого взгляда, стоило зайти в магазин. Мебель дополнялась лучшими серебряными приборами, расписанной вручную посудой из Майсена или простой белой с золотым ободом, Прусской фарфоровой мануфактуры.
Из Веймара приехал мой дед, Жан. Поездка была слишком утомительна для Доры, его второй жены, поэтому он пробыл всего три дня, хвалил отличный выбор, подарил много книг, наслаждался домашним пирогом – единственным блюдом, которое в совершенстве освоила мать, – и снова нас оставил. Я могла жить так вечно. Мать ела и ела, словно хотела поглотить эту жизнь, пока она снова не начала чинить препоны.
В кругу близких
С переездом изменилась и наша общественная жизнь. Если раньше, за исключением нескольких гостей, мы проводили почти все время только друг с другом, теперь родители раскрыли двери нового дома. Конечно, в тесной двухкомнатной квартире подобное было немыслимо.
Теперь субботними вечерами к нам часто приходили гости. Новые друзья встречались у нас раз в месяц. Эти вечера предназначались не только для развлечения – возможно, так мать пыталась продолжить традицию субботних встреч, проходивших в квартире ее отца во времена ее детства. Правда, компания собиралась не столь выдающаяся. Вместо пестрой смеси художников, интеллектуалов и уличных мальчишек у нас собирались только врачи, знакомые или друзья отца, коллеги времен его работы в клинике, но «по крайней мере», как сказала мать, среди них был наш пастор из церкви Святой Хильдегарды во Фронау – как пламенная католичка, мать любила обращаться к нему за советами, не принимая их слишком близко к сердцу. Как она считала, духовная поддержка никогда не повредит. Благодаря этим вечерам я узнала родителей с новой стороны. Мой отец, который никогда не пил в рабочие дни, произносил фразы вроде «катись все к черту», открывал бутылку вина или заготовленного заранее коньяка, приговаривая: «Чтобы сердцу дать толчок – надо выпить коньячок». Все много пили, ели и смеялись, курили и единодушно соглашались, что жизнь еще никогда не была столь прекрасна.
Пока мать спешно готовилась к вечеру – безо всякой помощи, как она не уставала изможденно напоминать на следующий день, – я должна была накрыть на стол и пропылесосить гостиную. Мне нравился равномерный шум пылесоса, его скрипучие вздохи во время работы, прерываемые звучащими на весь дом указаниями матери, которые я безропотно выполняла.
Пастор Краевский одним из первых занимал место на диване в гостиной. Это был невысокий, полный мужчина, чье внутреннее духовное спасение казалось неотделимым от физического благополучия. Довольно кивнув, он протянул мне стакан.
– Сначала всегда пиво, Ада. Это знали еще монахи.
Мне нравился его напевный и ватный голос. Он приехал из Польши, откуда происходила и семья моей матери. Справа от него сидел доктор Ахим Памптов с женой Аннелизой. Ахим был вместе с отцом в русском плену. Их связывало молчаливое соглашение, которое обычно проявлялось при встрече в теплых, довольно необычных для отца объятиях с другим мужчиной. Хотя мама, как я ее тогда еще называла, всегда твердила мне, что супружеские пары нельзя сажать рядом, на Аннелизу и Ахима Памптов это правило не распространялось. Тетя Аннелиза никогда не отходила от мужа. Чаще всего ее рука лежала у него на колене или наоборот. Им обоим пришлось пережить много плохого, однажды объяснила мне мать, не вдаваясь в подробности. У нее была манера произносить весомые фразы, но оставлять в неведении. При слишком упорных расспросах она отвечала словами Вольтера: секрет скуки – высказать все.
Я с любопытством бежала к тете Аннелизе и дяде Ахиму, голову переполняли вопросы, которых я задать не могла. Мы никогда не выходили за рамки приветствий: «Добрый вечер, дядя Ахим, добрый вечер, тетя Аннелиза», улыбки и дружелюбного ответа «Добрый вечер, дитя мое». Как и следовало.
– В каком ты сейчас учишься классе, Ада? – спросила тетя Аннелиза. Сегодня у нее было особенно хорошее настроение.
– В шестом, – ответила я, переминаясь с ноги на ногу.
– А сколько тебе лет?
– Скоро двенадцать.
Именно поэтому меня раздражало, когда дядя Вольфи – на самом деле его звали доктор Вольфганг Доймлер – сажал меня на колени, как маленькую девочку, которой я уже не была и еще меньше хотела быть, хоть меня и радовало, что он единственный из всех всегда приносил мне подарки и спрашивал, что я собираюсь с ними делать, поскольку ненавидел, когда дети благодарили только из вежливости или, «что еще хуже», как он любил восклицать, «послушно и зажато». Мать называла его «вольнодумцем» – еще одно слово, которое я постоянно пыталась понять прежде всего потому, что обычно она добавляла: «Как твой дед, только не такой…», и я не понимала, что она имеет в виду. Доктор Герхард Бушатски и его жена Гертруда, которую он всегда успокоительным тоном называл «Трудхен» или «Трудель», на что она обычно парировала «Герти», тоже не пропускали ни одного вечера. Дядя Вольфи и дядя Ахим были офтальмологами, дядя Герхард специализировался на внутренних болезнях, а тетя Гертруда была терапевтом. Помимо Мопп, она была единственной работающей женщиной из окружения родителей.
В такие вечера возникло твердое правило: помимо бутербродов и алкогольных напитков они посвящались определенной теме, предложенной хозяевами или гостями. Задача возлагалась исключительно на «властителей мира», как иронично называла их мать. В этот момент мне всегда становилось за нее стыдно, хоть я и не понимала почему. Возможно, из-за нарочитых, нередко растянутых интонаций. Но, как назло, в этот вечер вспыхнуло небольшое восстание, которое потом еще долго обсуждалось. Ко всеобщему изумлению, с кресла поднялся для очередной бесконечно скучной речи не дядя Герхард, а его жена, тетя Гертруда, а дядя Герхард лишь повернулся вполоборота.
– Мы решили, что на сегодняшнюю тему должна высказаться Трудхен – ведь кто раскроет столь важную для нового общества тему воспитания лучше, чем жена и мать.
– Работающая жена и мать, Герти, не следует оставлять это без внимания, верно? – резко добавила тетя Гертруда и, выпрямив спину, объявила тему своего выступления:
«Воспитание наших детей: верный или неверный путь?»
После короткого пристального взгляда по сторонам она снова села – так же прямо, как и стояла.
– Я бы хотела начать с того, – заговорила тетя Гертруда, – что мое выступление основано на просветительской работе моей дорогой коллеги доктора Йоханны Хаарер «Мать и ее первенец».
Мужчины особенно ревностно закивали, пытаясь восполнить приписанный им во вступительных словах дяди Герхарда недостаток компетентности.
В дверь зазвонили.
– Наверное, это Шорши! – радостно воскликнул отец.
Дядя Шорш приехал из Австрии, а именно из Вены – города, которым бредила моя мать, хотя никогда там не была. Это неважно, заявляла она, гордо подняв голову: она видела столько прекрасных изображений переулков и кофеен, Нашмаркта, Бургтеатра, Оперы, собора Святого Стефана и музеев, запоем прочла лучшие романы от Йозефа Рота до Хаймито фон Додерера, не припустила ни одного фильма с Бергнером и Весели, собирала фотографии с выступлений Макса Рейнхардта, Александра Моисси, Эдуарда фон Винтерштайна, Эрнста Дойча и Фрица Кортнера, она знает этот город целиком и полностью, гораздо лучше тех, кто сейчас по нему шатается, а Шорш жил в Вене, в Оттакринге, и быстро проложил себе путь до центрального района, «тертый калач… как твой папа», – часто многозначительно добавляла она, словно существовала какая-то тайная связь, о которой мне, несмотря на плодовитость темы, говорить не следовало.
На самом деле дядю Шорша звали Ганс Георг, но его с детства все звали Шорш или Шорши. Он отличался от остальных членов компании живостью ума и насмешливым взглядом, а от моего отца – обостренным деловым чутьем. «Все, к чему он прикасается, превращается в золото», – восхищенно вздыхала мать. Или: «Он умеет делать деньги из воздуха». И видимо, так оно и было: даже мой отец, который никогда ни у кого не просил советов, консультировался с ним по таким вопросам. К сожалению, его «информация» часто нуждалась в интерпретации, что редко удавалось отцу. Позднее на фондовой бирже он с большими сомнениями сделал выбор в пользу бумаг, цены на которые резко упали на следующий день. «Это из-за его происхождения, – сказала мать, – раньше у него в бумажнике была абсолютная пустота, и теперь он никак не может насытиться. Ну, он зарабатывает все своими золотыми руками». Она ни секунды не сомневалась, что отец был самым искусным хирургом на свете.
– А теперь ты будешь потихоньку готовиться ко сну, верно, детка? – сказала мать, коротко кивнув в сторону лестницы.
– Мамочка, еще минуточку, самую маленькую, ну пожалуйста. Пока дядя Шорши не выпьет первый бокал, хорошо? – взмолилась я.
– Но потом ты отправишься наверх без уговоров и возражений, юная леди.
Я разочарованно пожала плечами и послушно кивнула.
– Какой воспитанный ребенок, – прошептала тетя Аннелиза дяде Ахиму достаточно громко, чтобы все услышали. Я ненавидела, когда мать отправляла меня спать на публике.
– Эта невинность очаровательна, правда, Ахим?
И снова тетя Аннелиза шептала слишком громко, и я снова намеренно проигнорировала услышанное.
Такова была жизнь среди взрослых: понимать, что следует или не следует слышать и когда неизбежно требуется ответ, а когда нет, – целое искусство. Все хвалебные упоминания следует игнорировать, иначе сразу последует замечание.
Вошел Шорши.
– Рад служить.
Все захихикали и нервно замахали руками. Отец сунул ему бокал вина.
– Опять сладкое вино для мигрени, Отто?
– Ошибаешься, дорогой, на этот раз вино с твоей родины, ротгипфлер.
– Слава богу.
– Шорш, садись. Трудель как раз собиралась начать выступление, – сказала мать.
– Ваш покорный слуга.
Тетя Гертруда начала во второй раз.
– Дорогой Шорш, тема – воспитание наших детей: верный или неверный путь, на основе работы моей коллеги Хаарер «Мать и ее первенец». У каждого из нас уже появился первый ребенок, и у большинства – в непростых обстоятельствах. Сала, – она с улыбкой наклонилась к моей матери, – подает хороший пример и через несколько месяцев подарит жизнь еще одному гражданину.
Я решила, что ослышалась. Послушно подняла палец, как в школе, чтобы высказаться. Мать покачала головой, но многозначительно мне подмигнула.
– Наши старшие дети либо выросли во время войны, либо сразу после нее, в тяжелых условиях, – продолжила тетя Гертруда, которой не нравилось, когда ей мешали или тем более перебивали, – и, судя по всему, этот несколько более тяжелый старт не повредил им, а даже наоборот. – Она бросила на меня строгий взгляд. – Они часто кажутся более стойкими, решительными, но, прежде всего, как неоднократно подтверждает моя коллега Хаарер, дело в том, что они не избалованы.
Все внимательно слушали, даже дядя Шорш сидел молча.
– Так что же коллега Хаарер имела в виду, говоря о неудачном воспитании, которое ставит под угрозу жизнь семьи и маленького ребенка?
Тетя Гертруда выдержала многозначительную паузу, как обычно делали мужчины, а затем с новой силой продолжила:
– Всем вам известен фенотип орущего ребенка, домашнего тирана – черта, обычно сильнее выраженая у мальчиков, которые значительно быстрее приспосабливаются к семейным потребностям и за счет этого позднее развивают лучшее социальное поведение. – Очередная снисходительная улыбка в мою сторону. – Тем не менее ребенок лишь отчасти виноват в этом неприятном и, я бы даже сказала, неизбежном фенотипическом процессе.
– Фенотипическом? Слушайте, слушайте, – перебил ее Шорш.
Тетя Гертруда равнодушно продолжила:
– Йоханна Хаарер придает большое значение опыту, возможно, интуитивно полученному женщинами во время войны: лишнее внимание вредит ребенку и мешает ему на пути к независимости. Дети должны рано понять, что умная и благосклонная мать просто так не поддастся его угнетающим импульсам из-за слабости. Другими словами, ребенок сразу узнает, что крик неэффективен, как и последующий отказ от еды – он будет есть, когда достаточно проголодается.
Все рассмеялись.
– Или подумаем об отказе ходить по большому на горшок.
Все снова рассмеялись. Аперитив и вино оказывали свой эффект.
– Фенотип драматически расширяется, верно? – крикнул дядя Шорш.
Тетя Гертруда не позволила себя сбить.
– Здесь тоже следует помогать ребенку без лишних эмоций, чтобы позднее он не пытался использовать средства радикального сопротивления для формирования мира согласно своим желаниям.
– Вы дураки? – сердито выпрямился дядя Шорш.
– Тсс! – шикнула тетя Аннелиза.
Дядя Герхард тоже бросил на дядю Шорша сердитый взгляд.
Но тетя Гертруда оставалась спокойной.
– Дорогой Шорш, я буду рада ответить на ваши возражения в более подходящее время, но сначала прошу дать мне возможность изложить свои тезисы.
Мать тихо намекнула, что мне пора. Я безропотно исчезла, быстро пожелав всем спокойной ночи, на что мне радостно ответили.
– Детка, я сейчас приду! – дискантом крикнула мать.
При этих словах я поскользнулась на лестнице. Когда я обернулась, мать помахала рукой, давая понять, что я должна немедленно подниматься наверх. Тетя Гертруда, краем глаза наблюдавшая за моими злоключениями, восприняла их с энтузиазмом.
– Сала только что показала прекрасный пример ласкового, но отстраненного жеста. Вы видели?
Остальные гости удивленно переглянулись.
– Близость и отдаленность. Сала, возможно, ты захочешь объяснить сама? – тетя Гертруда ободряюще на нее посмотрела.
– Ну дааа, – с небольшим сомнением протянула мать. – Хотя я не читала книгу этой госпожи Хаарер, верно?
Она стряхнула со стола несколько крошек, взяла сигарету из стоявшего рядом диспенсера – небольшого деревянного куба, который нужно было слегка приподнять, и сигарета оказывалась в элегантно вырезанном углублении.
– Отто, пожалуйста, огня.
Я услышала с лестничной площадки, как щелкнула зажигалка. Закрыв глаза, я представила, как мать запрокидывает голову и с наслаждением вдыхает дым.
– Нууу, я всегда любила дочь, но без излишеств.
– Именно об этом я и говорю, – продолжила тетя Гертруда. – После фазы, которую можно назвать сильным истощением, в разгар социального подъема во всех нас закралась, по сути, объяснимая слабость. Многие из нас решили, что не справились с материнством в годы войны. Мы часто оставались одни, мужчины уходили на фронт, многие не возвращались или возвращались слишком поздно, короче говоря…
– Но дорогая Трудхен, на самом деле этого утверждать нельзя, – сказал дядя Шорш.
Дядя Герхард сердито на него глянул.
– Прошу прощения, – сказал дядя Шорш.
Я присела на лестничную площадку, готовая вскочить в любой момент, если мать захочет меня проверить. Но похоже, она слушала тетю Гертруду так же внимательно, как остальные.
– В этот период возник своеобразный принцип laissez-faire…
– Что?
Все проигнорировали очередную реплику дяди Шорша – ведь он австриец, и теперь всем стало ясно, что о них думать.
– Это по-французски, дорогой Шорш, и означает нечто вроде позволить всему идти естественным чередом.
– Век живи – век учись. Мне просто показалось, твоя теория скорее движется в противоположном направлении, что неудивительно, если учесть, что речь о проверенном временем нацистском бестселлере. Классике. Труди, ты либо сошла с ума, либо не знаешь, о чем говоришь.
– Нацистский бестселлер? – переспросил отец.
– Да, именно.
– Дорогой Шорш, после войны доктора Йоханну Хаарер безо всяких возражений и скорейшим образом денацифицировали, причем американцы, и я даже не представляю, к чему ты клонишь своими междометиями, но если ты так хорошо разбираешься в теме, пожалуйста – я готова передать слово несомненному джентльмену, который в очередной раз сможет продемонстрировать свое чувство такта.
– Евреев уничтожили, нацистов – денацифицировали. Но раз у евреев не было никаких вшей, возможно, нацисты не были нацистами, так?
– При чем тут нацисты? – на этот раз заговорила моя мать.
– При том, – снова зазвучал голос дяди Шорша, – в тридцатые годы эта книга была бестселлером, забыла?
– Я не знала, – сказала тетя Гертруда.
– Ну, теперь знаешь. Тогда книга называлась «Немецкая мать и ее первенец». Из нее сделали «Мать и ее первенец», немцы за это время успели испортить репутацию.
Пастор Краевский откашлялся, как делал в начале проповеди.
– Дорогой Шорш, прости, я запамятовал твою фамилию…
– Это фамилия, преподобный, но прошу, говорите, только если это не очередные педагогические сентенции.
Пастор Краевский улыбнулся и смущенно закашлялся.
– Думаю, мы должны научиться набрасывать на это во всех смыслах непостижимо тяжелое, гм, время… гм, время страданий… покров христианского милосердия. Мы – безусловно, я говорю и о себе – нельзя сказать, что согрешили, потому что единственное возможное решение… как… тогда… ведь было много случаев…
– Нет, – вскочил дядя Шорш.
Пастор Краевский снова испуганно помолчал. А потом заговорил снова.
– Но трагизм… Да, трагизм… – Я услышала, как он поставил стакан. – Я, знаете ли… сейчас… боюсь, я потерял нить… да, нить…
Повисла пауза, он перевел дыхание и, коротко и громко прокашлявшись, начал снова:
– Итак, понимаете, господин Шорш, человек, вне всяких сомнений, творение Божье, а значит, должен… ну, в смысле, всегда им остается, как дети всегда остаются детьми, а родители – родителями, верно?
Отслеживая малейший скрип ступеней, я проползла вдоль стены по лестнице, чтобы хоть мельком взглянуть на компанию. Дядя Шорш печально уставился в пустой бокал. Пастор Краевский, дрожа, вынул из рясы белоснежный платок, чтобы вытереть пот со лба. Потом он снова откашлялся.
– Все мы – творения Божьи, и нам остается только молиться, чтобы не впасть в искушение – подумайте о змее, о древе познания.
Никто не двинулся с места.
– Искушение… Знаете ли… Искушение…
Отец поднял глаза. Его лицо было бледным и усталым. Руки сжались в кулаки. От страха у меня из руки выскользнул стакан с водой. Он с грохотом упал на пол. Убегая, я слышала, как кто-то вскочил. Это была мать.
– Господи, ребенок еще не спит.
Мать выбежала из гостиной. С топотом поднялась по лестнице. Дверь в мою комнату распахнулась. Я залезла под одеяло и боялась вздохнуть.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?