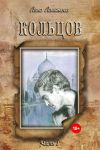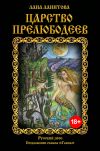Читать книгу "Змея. Часть 1"

Автор книги: Лана Ланитова
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Сама… – попросил он.
Тонкие пальчики ловко пробежали по множеству крючков – шуршащее лиловое платье опало на узкие плечи и ниже, на бёдра, обнажив диковинную вязь кружева и шелковый корсет.
– Погоди. Не надо дальше, – прошептал он.
– Почему? – удивилась она.
– Я немного переведу дух.
Руки не слушались его, в горле пересохло.
– Не торопись. Я хочу рассматривать это ближе.
Он зажёг керосиновую лампу и поставил её на прикроватной тумбе. Помимо лампы, он поднес к её кружевам свечу. Пальцы прикоснулись к бретелькам сорочки. Он медленно потянул их вниз и обнажил её нежную грудь. Да, груди этой девушки оказались чрезвычайно маленькими. Это были мягкие на ощупь, белые бугорки с овалами припухших, расплывчатых сосков. Он наклонился к одному из них и, ухватив пальцами тёплую плоть, стал нежно целовать её и слегка покусывать. Ровно до тех пор, пока сосок не затвердел у него на кончике языка. Это было восхитительно. Он почувствовал прерывистое дыхание Аннушки.

– Подожди… – шептал он самому себе… – Не торопись же…
Хотя, она никуда не торопилась, а всё так же стояла на одном месте, покачиваясь от лёгкого головокружения.
– Т-ш-ш, – шикал он, поднося свечу к соскам и рассматривая их пристально.
Он чувствовал, как в его жилах закипает кровь. Ему казалось, что ещё минута, и он сорвется и осатанеет от страсти. Мысленно он готов был сжать это нежное тело до боли и хруста. И он обнял её. Обнял так, что она потерялась, почти растворилась в его сильных руках невесомостью тающей плоти. Её тонкие ладони легли ему на плечи, а он не ощутил их веса. Их просто не было. Это было вовсе не касание рук. Это было касание птичьих крыльев. Пламя свечи делало зыбкими все контуры. Её распущенные золотистые волосы казались лёгким дымом, стекающим с узких плеч.
– Ты очень худенькая. Я буду тебя кормить, – шептал он, жадно ловя её губы.
– У тебя ничего не выйдет, – отвечала она, задыхаясь.
– Почему?
– Я вообще не ем.
– Ты заболеешь чахоткой.
– Пусть. Зато, я никогда не буду толстой…
– Глупая… Какая же ты глупая девочка. Я стану кормить тебя насильно.
– Нет, – замотала головой Аннушка.
Он подхватил её на руки и бросил на кровать. Она исступленно закрыла глаза и легко раздвинула ноги, так, словно и вправду была балериной.
А дальше он осатанел от страсти…
И сам не заметил, как провел с ней сразу двое суток. А в конце всего этого времени он был ошеломлен совершенно неистовым темпераментом его фарфоровой чаровницы.
Аннушка оказалась очень ненасытной в постели.
После двух суток, проведенных ими в сплошном похотливом угаре, решено было снять ей более дорогую и роскошную квартиру на Гороховой. Недалеко от его собственной квартиры, в пятнадцати минутах ходьбы. Чтобы ему не нужно было даже вызывать извозчика. Ибо жить вместе было неприлично. Все-таки он был женатым человеком.
Иногда он проводил на Гороховой не только сутки. Он оставался там неделями.
С каждым днём Аннушка всё более сводила его с ума. Когда он видел её узкую спину, маленькие груди, увенчанные остренькими розовыми сосками, нежный плоский живот, длинные стройные ножки, он терял голову от страсти. Она красиво улыбалась и хохотала самым прекрасным смехом. Её смех походил на звон серебряного колокольчика. Она редко уставала от постельных ласк. Лишь иногда на её лице появлялась чуть измученная гримаса, и она шептала:
– Уходи. У меня уже всё болит…
И вот эти самые откровения и вызывали в нём такую нешуточную волну вожделения, что у него темнело в глазах. А после, вконец обессиленную, он относил её на руках в уборную. Словно куклу, он окунал её в ванну, наполненную тёплой ароматной водой, и с восхищением смотрел на тонкий контур ее белоснежных, почти детских ручек с изящными пальчиками и миндалевидными блестящими ноготками. Он падал на пол, прямо на керамическую плитку уборной, и с наслаждением целовал её мокрые, пахнущие мятой и монпансье ладошки. Потом он вставал и присаживался на бортик. С томной улыбкой она смотрела на него и выуживала из пены узкую ступню.
Он вновь требовал у нее подняться из воды и встать ближе к краю…
– Нет, Мишель… – канючила она. – Мне холодно… Я устала.
Но он бывал неумолим.
– Не-ет, – стонала она, закатывая от наслаждения глаза.
Он вколачивал в неё свою тугую, звенящую от страсти «самцовость». Он будто доказывал этому миру, что у него «стоит» и весьма прекрасно «стоит»…
Тогда, когда он любит.
А потом он снова усаживал её в ванну и принимался намыливать ей прозрачные руки и невесомые щиколотки.
– Повернись ко мне спиной, – командовал он. – Вот, а теперь животик. И то, что у нас ниже… Нет, не бойся – на голову я лить не буду. Я помню, что у тебя причёска.
Спустя несколько минут он окатывал её кувшином чистой воды и заворачивал в пушистое полотенце. А после нёс её опять в постель. Она хотела спать. Но он не давал. Вместо этого неистовый любовник усаживал её сверху на всё еще вздыбленный и ненасытный жезл. Она стонала от смеси боли и возбуждения. А дальше…
Дальше длился многочасовой угар.
Первым не выдерживал он.
– Слушай, я жутко проголодался.
– У меня нет сил. Имей в виду, что я умерла, – и она действительно засыпала мертвецким сном.
Но ему не спалось. В эти минуты её дыхание было таким тихим, что ему и вправду начинало казаться, что рядом с ним лежит не живая женщина, а целлулоидный манекен с блестящим заострившимся носом.
Спустя пару часов он всё же будил её.
– Аня, просыпайся. Я голодный, словно волк.
– Пошли извозчика в трактир за едой. Для себя. Ты же знаешь, что я не хочу.
– Аня, ты поешь вместе со мной!
– Не-ее-ет… – тянула она.
В ответ он хмурился.
– Я сейчас кого-то отшлепаю.
– Сделай милость, – шептала негодная эротоманка и поворачивалась к нему двумя полушариями маленькой белоснежной попки.
Спустя час он все-таки посылал знакомого извозчика в трактир со списком, в котором указывались желательные блюда.
И когда им привозили ещё теплых расстегайчиков, блинов с икрой, паштетов и даже судки с осетровой ухой, они садились к столу и начинали ужинать совсем по-семейному. Хотя, у Аннушки, как водится, отсутствовал аппетит. Она всегда ела мало, словно цыпленок. Он с трудом заставлял её съедать несколько ложек ухи и пирожок.
– Аня, ну отчего ты не ешь? Смотри, какая ты худенькая… – пенял ей он.
– Угу, – отвечала она. – Но милый, ты меня ведь за это и любишь. И если я потолстею, то ты меня тут же бросишь.
– Глупая! – отшучивался он. – Ешь сейчас же. Тебе нужны силы.
Чаще всего их свидания проходили в уютных комнатах, снятой на Гороховой квартиры. Но Аннушка иногда пеняла ему на то, что они совсем не бывают на людях.
– Ты вечно держишь меня взаперти, – хныкала она.
– Потому, что ты – мое маленькое фарфоровое сокровище, которое я не желаю никому показывать. Да и к тому же, что толку таскать тебя по ресторанам, если ты совсем равнодушна к любой еде? Знаешь, как в ресторанах кушают все нормальные тёти?
– Врёшь, ты просто боишься жены, – перебивала она его шутливую тираду.
– Глупости, – отмахивался он.
– Как же глупости? Мы не ходим с тобою в ресторации из-за того, что твоя фурия может нас увидеть.
– Она не посещает публичные места, – у него портилось настроение.
– Тогда ты боишься, что ей кто-нибудь донесёт. Ведь так?
– Нет, не так… – он хмурился.
– А как?
Он уходил от ответа.
Иногда они всё же посещали вместе рестораны, но чаще те, что были расположены не в центре столицы. Но даже там он видел, как многие мужчины с восхищением, осуждением и тайной завистью посматривали в сторону его юной и невероятно изящной спутницы.
Но однажды он всё-таки осмелел и привел её в фешенебельный и очень модный в те годы ресторан «Донон», расположенный на Мойке. Помимо обычных посетителей в «Дононе» любили обедать художники и литераторы всех мастей. А так, как наш герой был неравнодушен к литературному творчеству, то по приглашению приятелей, решил присутствовать на одном из субботних литературных вечеров. Да расхрабрился и рискнул пригласить туда и Аннушку. Помимо их с Аннушкой, за заказанным столом должны были ужинать двое его старых приятелей – некто университетский друг Панырин и инженер с бывшей службы, Колычев.
– Девочка моя, сегодня я повезу тебя в «Донон», – радостно сообщил ей Гладышев. – Там собирается одна Петербургская богема. И будет пара моих приятелей. Надень на себя что-нибудь красивое. Хотя… о чём это я… Ты красива, моя милая, во всём. Я заеду за тобой в семь.
Как и обещал, он заехал за ней в семь вечера и буквально обомлел от её вида. Аннушка надела на себя полупрозрачное вечернее платье на тоненьких бретельках, перекинутых через худенькие плечи с откровенным декольте спереди и глубоким вырезом по открытой спине, где, словно два птичьих крыла, торчали её молочной белизны острые лопатки. Платье это было какого-то новомодного и смелого, прямого покроя, с расширением и воланами книзу. Но весь лиф, не упрятанный в корсет, либо сорочку, был настолько тонок, что сквозь шелковую, болотного цвета ткань просвечивали маленькие груди с торчащими от прохлады сосками. Волосы Аннушка заколола шпильками кверху, обнажив беленькую, лилейную шейку. На ее юном личике почти отсутствовала косметика. Лишь пухлые губы поблескивали розовой помадой, и чёрные стрелы ресниц казались гуще и длиннее. В этом наряде она выглядела восхитительно и одновременно порочно, словно обнаженная девственница возле позорного столба.
– Аня, тебе нельзя идти в таком виде, – восхищенно прошептал он сухими от волнения губами.
– Разве я некрасива? – беспечно отвечала она.
– Нет, ты невероятно красива. Откуда это платье?
– Мне привезли его в подарок из Парижа, ещё год тому назад, – уклончиво отвечала она.
– Слушай, в таких платьях, наверное, ходят лишь смелые суфражистки или эти, как их, чёрт, феминистки! – первое, что пришло в голову, ляпнул он, пожирая её глазами. – В Петербурге я не видел таких нарядов. Слишком вызывающе.
– Не волнуйся, Мишель, грудь я закрою этой штучкой.
И она обмотала шею тёмно-зеленым страусиным боа, в тон к платью.
– А, то есть, здесь всё будет закрыто?
– Ну, конечно…
– Ну, ладно тогда.
* * *
Как он и ожидал, его утонченная и экстравагантная спутница вызвала в «Дононе» настоящий фурор. Когда под звуки фокстрота, в потоке ярких софитов, она, виляя маленьким задом, шла меж столиков по ковровой дорожке, то её, небрежно накинутое боа, слетело с худых плеч, обнажив весь немыслимый фасад тоненького шёлкового платья. А Гладышеву приходилось не единожды поднимать этого мохнатого змея и цеплять его Анне на шею. Порой всё это выглядело довольно комично. Ему казалось, что он выступает в роли Адама, пытающегося прикрыть бесстыжую Еву хотя бы фиговым листком.
– Отчего ты сразу не пошла сюда голой? – злился он, перехватывая множество наглых мужских взглядов, устремленных на его спутницу.
В этот вечер он мало ел, зато много пил. Говорил часто невпопад и весьма глупо. Разговор с приятелями совсем не клеился. Он злился на то, что оба его визави, как ему казалось, без меры пялились на несносную Анну. В эти минуты ему мерещилось, что и она сама мерзко смеется, говорит пошлости и невероятно много пьёт шампанского. Он не слышал никаких декламаций от сборища поэтов, кои происходили на небольшой импровизированной сцене.
Зачем я сюда пришёл, злился он. Послушать их декадентские стишата о бренности всего сущего? Сыты мы всем этим добром по самое горло. Проходили уже когда-то. Если всё настолько бренно, то отчего же вы сами сейчас жрёте и пьёте с таким скотским и жизнелюбивым аппетитом? Тот, кто отчаянно взывает к смерти, не должен проявлять столько, плохо скрываемого эпикурейства. Он с отвращением наблюдал за одним патлатым рыжим поэтом, который несколькими минутами ранее сообщил в своих стихах о том, что «вся жизнь – один тлен» и «нам недолго жить тут, господа», а потом пошёл и зажевал свой спич жареным рябчиком. О, да ты, милый, станешь истинным гедонистом, если после рябчика сожрешь еще омара и кусок стерляди.

Да, ему было вовсе не до стихов. Он мечтал, как можно скорее, уехать домой и увезти Анну из этого пошлого, сверкающего огнями вертепа, куда он угодил по собственной глупости. Он видел, как инженер Колычев пригласил его спутницу на танец. И как жалко и вместе с тем порочно смотрелась её вызывающая худоба. Со стороны казалось, что с Колычевым танцует наивная девочка-подросток, а вовсе не женщина.
Ему стало мучительно стыдно. Тошнота подкатила к горлу.
– Вытри с губ эту гадкую помаду, – шептал он позднее, когда она вновь вернулась к столу.
– Прекрати, – отшучивалась она, томно поглядывая на его товарищей. – Ты сегодня несносен.
Наверняка все понимают, что она моя любовница, лихорадочно думал он. Дал бы бог, чтобы никто из знакомых не встретился, иначе не оберешься позору. Господи, и эта троица за противоположным столом, тоже глазеет в нашу сторону. И вон тот, старый козел с жидкой бородкой, себе уже всю шею свернул. И эти писаки туда же! От волнения и тревоги ему мнилось, что на его спутницу смотрит вся ресторанная публика. Ему чудилось, что он угодил в какой-то мистический огненный круг, в центре которого вращалась блудница Аннушка. А он, словно ревнивый отец, стыдился её жалкой наготы.
Когда в пьяном угаре он оказался в курительной комнате, то подле себя услышал хриплый голос незнакомого краснолицего и полного господина, одетого в дорогой фрак.
– А вот, вы знаете, – начал тот издалека, медленно пуская дым из широких ноздрей и сплёвывая крупинки табака. – Я чаще здесь встречаю рубенсовские типажи. Оно и понятно… Многим мужчинам нужна осязаемость плоти. Плоть является основой всякого эротизма. Налитая и пышущая здоровьем плоть. И это, верно, вполне себе здоровый подход, ибо полная женщина подразумевает само плодородие. Ведь так? Как там сказано: «Живущие во плоти, о плотском помышляют»?
– О чём это вы? – он с недоумением и отвращением посмотрел на говорящего.
– Я о том, что против здоровой плоти бывает мало возражений. Но, может, вы замечали, что пышных красавиц предпочитают в основном простолюдины. Ибо им неведомы иные формы гурманства. Им некогда заниматься подобными глупостями. И только мы, люди высшего сословия, с достатком, склонны к неким деликатесам. Во всём. Не правда ли? Нам скучно быть такими как все. Нам подавай изысканные блюда и изысканный разврат.
– У вас всё?
– Почти. А я вот, так же как и вы, люблю женщин худеньких, эфемерных, почти чахоточных. И вижу именно в них особую эстетику, – он выдохнул, глядя на удивленного Гладышева. – Я нахожу их на Потёмкинской, у мадам Рози. Хотите, дам адресок?
– Что вы несёте? Вы пьяны?
– Отнюдь. Я там часто покупаю себе девочек. Нимфеток… Вы ведь наверняка любите именно таких? Рози их специально морит голодом. Вы ведь тоже аматер юных субтильных созданий?
– Я вас застрелю! – выпалил Гладышев, багровея лицом.
В ответ толстяк закатился хриплым смехом, а после надсадно закашлялся.
Он смутно помнил, как закончился тот вечер и то, как они добирались на извозчике домой. Зато он отлично помнил, как сразу после приезда на Гороховую, сгораемый от смеси ненависти, отвращения и возбуждения, он, силой надавив на плечи, приказал Анне опуститься перед ним на колени. Как ни странно, она не возражала…
А после, пошатываясь на слабых ногах, опустошенный и расслабленный, он отошёл в сторону и повалился в кресло. Тяжелые веки опустились. Ему смертельно хотелось спать.
– Сними это гадкое платье и сожги его в печке, – прошептал он.
– Оно не гадкое, – с упрямством возразила она.
– Чтобы больше я тебя в нём не видел. В таких платьях стыдно быть даже на панели.
– Ты часто бывал на панели?
– Не часто, – отмахнулся он.
– Таких платьев не бывает у проституток. Оно стоит восемьдесят франков и куплено в Париже.
– Я дам тебе сто… рублей. Только сожги его. Хотя, нет, не надо. Иди в спальню, и не снимай его. Я скоро приду.
– Мишель, ты сумасшедший.
– Я знаю. Иди, дай мне отдохнуть минут десять.
Через четверть часа он зашёл в спальню, в надежде увидеть ее спящей, но, как ни странно, она стояла возле окна и смотрела на синеющий за стеклом вечер. Он подошел к ней со спины вплотную и обхватил руками узкую талию. А после прижал ее к себе и положил ладони на маленькие выступы её грудей.
– Девочка, – шептал он, ища её нежные губы. – Моя фарфоровая девочка.
Пальцы потянули вниз упрямые бретельки, прочь с плеч. Она выгнулась и стала расстегивать крючки, помогая ему снять свой скандальный французский наряд. Вместе с шуршащим щелком на пол спланировал вдвое сложенный лист бумаги.
– Что это? – спросил он.
– Где?
– На полу?
– Ах, это. Не знаю, – засмеялась она.
– Ты лжёшь. Дай мне. Это чья-то записка?
Она скомкала бумагу и сжала её в кулачке. Он потянул за руку и потребовал разжать пальцы.
– Покажи, я тебе сказал!
Она попыталась ускользнуть, но он нагнал её в два прыжка и, повалив на кровать, ухватил крепкими объятиями и надавил на сжатый кулак.
– Ай, Мишель, больно! – вскрикнула она. – Да, бери, бери. Читай… Это твой Панырин мне сунул! И второй, рыжий инженер, забыла его фамилию, тоже втихаря приглашал меня к себе.
– Вот, даже как?! – кричал он, багровея лицом и шеей.
Он развернул листок и в прыгающих от волнения буквах едва различил начертанный рукой Панырина адрес. Его домашний адрес.
– Ты подлая маленькая сучка, – хрипел он. – У меня за спиной ты успеваешь крутить романы и договариваться о встречах с другими кобелями? Тебе меня мало? Скажи, мало?
– Нет, Мишель, – она прыскала от смеха. – Он всунул эту записку в мои руки тогда, когда ты выходил курить. Я не стала говорить тебе об этом прямо в ресторане. Иначе вечер бы закончился весьма гадко. Ты вызвал бы его на дуэль. Его или второго… Забыла его фамилию… Колычева!
– Да, я и так пойду завтра в лавку к Шумерту, чтобы купить револьвер. Я буду отстреливать, словно собак, всех твоих кобелей. Ты меня поняла? А вызывать их на дуэль я не стану. Это для них слишком благородно! Я буду их просто убивать.
– Мишель, – хохотала она. – Ты такой смешной, когда сердишься. Ты похож на Отелло.
– Блудница, – хрипел он в ответ. – Маленькая фарфоровая блядь. Раздевайся сейчас же догола. Я буду тебя наказывать. Хочешь, я отстегаю тебя вожжами, как стегали в деревнях мужики своих неверных жён?
– Хочу! Только где ты возьмешь вожжи?
– Найду любого извозчика и куплю их у него.
– Миша, уже ночь…
– Ага, ты боишься, подлая?
– Боюсь… – призывно улыбалась она, облизывая пухлые губы.
– Не смей улыбаться. Я всё равно не пощажу тебя. Тебе не помогут даже слёзы и мольбы о помиловании. Снимая всё. И чулки! – горячился он. – Нет, погоди, чулки не снимай. Иди ко мне… Ближе… Шире… Шире, я сказал!
* * *
– Анька, ты рассорила меня с моими друзьями, – изрёк он утром, куря сигару.
– Ну, и бог с ними, – отозвалась она. – Разве это друзья?
– Пожалуй, ты права…
В этот раз он пробыл у неё несколько дней.
* * *
Однажды Татьяна Николаевна встретила его с красным от злобы лицом и припухшими от слёз глазами.
– Говорят, что ты завел себе новую девку?
– Вздор. Это гнусные наветы, – отмахнулся он, не желая раздувать скандала.
– Это ты несёшь вздор. Тебя видели с ней!
– Мало ли, где и с кем меня могли видеть? Я часто бываю по делам службы или в силу иных каких-то причин в публичных местах. Может, мимо меня и проходила какая-то девица. Так что ж с того?
– Она бледная и тощая блондинка. Почти ребенок. Ты, верно, сошёл, голубчик, с ума? Очевидно, опустился до гимназисток?
Ему очень хотелось крикнуть в ответ, что его возлюбленной уже есть восемнадцать. И что просто она слишком молодо выглядит. Но он, конечно же, молчал. И только на скулах его расцветали красные пятна, и ходили от злости желваки. Закончилось всё это новыми оскорблениями.
– Истеричка! – кричал он, хлопая дверью, ведущей в парадное. – Постеснялась бы слуг!
– Развратник! – отвечала она. – Любитель малолетних гимназисток. Я сообщу о твоих похождениях в местную Управу, градоначальнику или в «Синий крест»![5]5
На рубеже XIX–XX вв. благотворительной деятельностью в России широко занималось общество «Синий Крест», возникшее в Петербурге в 1882 г. Оно призвано было защищать интересы детей.
[Закрыть]
– Идиотка, – зло шептал он, унося ноги прочь из дома. – Господи, какая же ты идиотка.
И он вновь ехал на Гороховую, где его ждала вечно сонная, бледная и порочная Анна.
Когда позднее он пытался понять то, на что были похожи их отношения, то отчетливо осознавал, что кроме постельных сцен ему не о чем было и вспомнить. Это был долгий чувственный марафон. Они редко разговаривали о чём-то постороннем. О живописи, поэзии или литературе. Когда он пытался поговорить на любую отвлеченную тему, то видел, как прекрасные голубые глаза Аннушки делались сонными, она зевала и тут же засыпала.
И, тем не менее, его любовь к Анне продлилась около года.
Их свидания всё ещё были такими же бурными и полными страсти и откровенной похоти. Однако ему вдруг стало казаться, что эта связь высасывает из него последние силы. Он с удивлением стал замечать, что многие его костюмы сделались слишком свободными – они болтались на нём, словно на вешалке. За несколько месяцев он сильно похудел и осунулся.
«Неужели я стал меньше есть? – с усмешкой думал он. – Дурной пример ведь слишком заразителен…»
Но он тут же вспомнил, как третьего дня довольно плотно отобедал на Невском у «Палкина»[6]6
Ресторан «Палкинъ» считался одним из самых знаменитых заведений общественного питания в дореволюционном Петербурге. Он отличался от других элитных ресторанов тем, что в нём подавались блюда русской кухни, а официанты были одеты как «половые» в трактирах.
[Закрыть]. В сей ресторации он с жадностью проглотил суп-пюре Сант-Гюрбер и палкинскую форель под соусом. А потом ему подали десерт – пудинг из фруктов гляссе а-ля Палкин. А пломбир Меттерних он велел упаковать в судок и отнес его своей фарфоровой, голубоглазой девочке. А ещё он вспомнил сочные расстегаи и душистый турецкий кофе у «Доминика».[7]7
«Доминик» – первое кафе в Российской империи. Кафе работало с 1841 года в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, дом 24.
[Закрыть]
«Нет, я решительно не голодаю. Я ем, как и прежде. Даже, пожалуй, больше, чем прежде».
Когда он был в доме супруги, то она, бегло взглянув на него, произнесла странную фразу:
«Правильно мне Матвеевна нагадала. Эта бледная поганка скоро из тебя все соки высосет, и ты издохнешь, словно старый мерин…»
– Что ты опять несёшь? – отмахнулся он. – Иногда мне кажется, что ты бредишь.
– Это не бред! Гимназисточка твоя – сущая лярва.
– Замолчи…
И, тем не менее, её гадкие слова отчего-то сильно запали ему в душу. Теперь ему всё отчетливее казалось, что он стал стремительно худеть и слабнуть. Его собственное отражение в зеркале теперь напоминало ему образ безумного бедуина с горящими от лихорадки, черными глазами. Длинный нос его заострился, а бритые щеки сделались впалыми. Он даже серьёзно подумывал о том, чтобы нанести визит врачу.
Однажды, после очередной ночи, когда он был совершенно измотан любовной скачкой, она вдруг решительно поднялась с постели. За узкой обнаженной спиной потянулись светлые пряди. Сквозь прикрытые веки он видел её зыбкий силуэт. Он видел, как она надевала шёлковый халат, а после расчесывала волосы. А дальше он задремал, ухнувшись в водоворот крепкого, тягучего сна. Очнулся он от лёгкого касания. Когда он открыл глаза, то с удивлением заметил, что Аннушка сидела на кресле, подле кровати. Она была полностью одета. Даже худенькие ножки её были облачены в чулки и ботики.
– Куда это ты собралась? – он сел.
– Мишель, ты можешь больше не платить за съем этой квартиры, – пролепетала она тихим голосом.
– Это отчего?
– Сегодня мы с тобой расстанемся.
– Вот как?
Он встал с кровати и натянул на себя халат, босые ступни отыскали на холодном полу домашние туфли.
– Ты шутишь?
Он стал машинально искать портсигар.
– Нет, милый, я не шучу. Эта ночь была прощальной.
– Вот даже как? Может, ты объяснишь, в чём дело?
– Мишель, я ухожу от тебя.
– Подожди, что значит, ухожу? – насмешливо произнёс он.
К горлу подкатилась тошнота. Сердце тревожно заныло.
«Что она надумала, господи, – лихорадочно рассуждал он. – Неужели она бросает меня? Но почему? Соберись. Не будь тряпкой…»
За тот неполный год, пока они были вместе, он никогда не спрашивал её о прошлом. Ему казалось, что эти расспросы и лишние её откровения могут сломать тот эфемерный образ целомудренной, но жутко развратной нимфетки, который он слепил из неё в собственном воображении. Да, он умышленно не хотел ничего знать о прочих мужчинах в её жизни.
Наконец он отыскал портсигар, сел и закурил.
– Ну, я слушаю тебя…
– Мишенька, нам надо расстаться, – опустив глаза, повторила она.
– Тебе со мной плохо?
– Нет, Мишель, мне было с тобою очень хорошо. Я даже успела тебя полюбить.
– Ах, вот даже как? Полюбить? Ну?
– Да, полюбить… Но, знаешь, на днях вернулся из-за границы Александр Фёдорович, и я поняла, Мишенька, что его я люблю всё-таки больше.
– Какой ещё Александр Фёдорович? – неприятно поразился он.
– Ну, помнишь, когда мы познакомились, я рассказывала тебе о том, что ранее жила с ним.
– А, это тот самый высокий чин, который бросил тебя в квартире на Невском, а сам укатил с женой за границу? – на скулах Гладышева расцвели красные пятна, а уголки губ обиженно опустились.
– Да, Мишель, это он.
Гладышев нервно затянулся.
– Вернулся, значит, поманил тебя пальчиком, а ты и побежала?
– Ну, зачем ты так? Он тогда просто не мог меня взять с собою. У него была сильно больна супруга. Он ездил лечить её в Ниццу. Но вот она умерла. И он вернулся. И позвал меня к себе, понимаешь? Он, по-правде говоря, писал мне, Миша.
– Погоди, Аня, так значит, ты сошлась со мною просто для того, чтобы не скучать всё это время в одиночестве? Я для тебя был чем-то вроде «перевалочной станции»? Так? Временным пристанищем?
– Миша, ты бы всё равно на мне не женился, – прошептала она.
– А он? Он женится?
– Не знаю. Теперь ведь он вдовец.
– А ну, да. Я пока ещё не вдовец! – злобно крикнул Михаил Алексеевич. – И вряд ли им стану. Скорее моя супруга вперед овдовеет, нежели я.
– Мишель, не кричи, пожалуйста. И не сердись. Ты меня никогда не спрашивал о прошлом.
– Не спрашивал, а надо было?
– Возможно.
– Зачем, чтобы знать точное количество твоих бывших любовников?
– Их было немного, на самом деле, – ответила она и вздохнула.
– Обнадеживает. Но, увы, поздно…
– Ты сам так хотел.
– Ну и, что ещё, сударыня?
– Мишель, мне было лишь четырнадцать, когда Александр Федорович взял меня под опеку.
– Хорош опекун!
– Если бы не он, моя жизнь бы закончилась в борделе. Я, собственно, там и оказалась. Я уже стояла в Александровском парке. А потом я оказалась на Потёмкинской. И если бы не Александр, то…
– Я уже понял, он оказался твоим спасителем, благодетелем, а потом и любовником. Так?
– Так, Миша. Прости, но после смерти отца, я осталась круглой сиротой. Множество долгов, кредиторы. Господи, да, зачем тебе всё это? Ты никогда не знал нужды. Ты ведь не представляешь, каково это, оказаться одной на улице, в четырнадцать лет.
– Бог миловал. Ты хочешь меня разжалобить? Чтобы я не просто тебя отпустил, но ещё и благословил на дорогу? Пожелал тебе счастья с новым супругом?
– Да, Мишель. По крайней мере, это было бы очень благородно с твоей стороны.
– Скажи, это ради него ты постоянно голодала?
– Перестань… Если хочешь правду, то да, он любит очень худеньких женщин. Это ведь дело вкуса…
– И ты отлично потакала ему в этом.
Она лишь грустно вздохнула.
– Хорошо, Анна, ступай с богом. И будь счастлива. Я благословляю тебя, – шутовски произнёс Гладышев, театрально махнув рукой и осенив изменщицу крестом.
Она подошла к нему и, наклонившись, поцеловала в щеку:
– Прости меня, Мишель, и прощай.
Он ухватил её за руку.
– Анька, ты что, хочешь сказать, что вот так вот сейчас уйдёшь, и мы больше никогда не увидимся?
– Прощай, Миша…
Её маленькая ладонь выскользнула из его руки. Мелькнул подол пышной юбки, простучали каблуки ботиков, и она скрылась за широкой дверью.
Ему казалось, что она не сможет вот так вот просто уйти. Что она непременно вернётся и бросится ему с рыданиями на шею. И скажет, что она не может без него жить. А он обнимет её крепко и никуда не отпустит. Никуда… В эти минуты ему казалось, что он ни одну женщину не любил так, как полюбил Анну. Руки ныли от желания, обнять её худенькую талию. Хотелось сжать её всю… Целовать ее острые ключицы и тонкие, детские руки, губы… Всю её.
«А может, мне и вправду, надо развестись и жениться на Анечке? – пришла ему в голову неожиданная мысль. – А вправду? Пусть меня осудят, но зато я буду счастлив. Ведь так?»
Он встал и в нервном возбуждении заходил по комнате.
«Надо спросить у Ромашова её адрес, разыскать. Сказать, что я готов подать на развод и…»
В такой мысленной чехарде прошёл час, потом другой. Наш герой с надеждой посматривал на входную дверь. Он отчего-то был уверен в том, что Аннушка должна непременно вернуться. Что она просто не сможет без него жить. Что она могла забыть в его квартире какую-нибудь вещь и использовать свою забывчивость, как повод.
Он бросился к платяному шкафу. Но он оказался пуст. Ах, коварная, она видимо, вывезла все вещи еще загодя, со злостью подумал он. Лишь в нижнем ящике комода он обнаружил то самое, тёмно-зелёное боа из перьев страуса, свернувшееся извилистой змейкой. Он нервно взял его в руки и долго рассматривал с тоской.
В этот день он много курил и пил. Незаметно наступил вечер, а за ним и ночь, которая ещё сильнее утяжелила его тревоги, распалив безудержную ревность. Засыпая он думал о том, что надо непременно застрелить того самого чиновника, а потом… Потом застрелить и её… Чудовищно болела голова. Хотелось плакать… Он прокрутился всю ночь в безумной тоске и обиде.
«Нет, она всё-таки должна вернуться. Не может она вот так вот, взять и уйти навсегда».
Но она не вернулась.
Он никогда более не видел свою фарфоровою куклу по имени Аннушка.
Утром он проснулся в совершенно дурном настроении. После ночных страданий его душой постепенно овладело жуткое безразличие. Он, не торопясь, оделся, обулся и вышел на улицу. Сначала он бродил по набережной Мойки и с грустью думал о женском предательстве. А после, как водится, и о бесцельности жизни и о тленности всего сущего. Прогуляв на ветру около часа, он почувствовал смертельную усталость. Тогда он взял извозчика и поехал до Большой Конюшенной, в ресторан «Медведь».
И только подъезжая к ресторану, он понял, насколько же сильно он проголодался. В «Медведе» наш герой заказал уху из стерляди, судок с паюсной икрой, а так же парфе с пралине, буше а-ля рэн и суфле д'Орлеан. Ну и, как водится, ко всей этой весьма аппетитной закуске прилагался хрустальный графинчик с лафитником для вкушения ледяной водочки.
Причём, отобедал наш герой с большим аппетитом. А после решил не возвращаться уже на Гороховую, а поехать в дом супруги, на улицу Прядильную. Как не странно, в этот вечер Татьяна Николаевна находилась в весьма приятном и добром расположении духа. Она отчего-то не бранила его и не говорила никаких колкостей.
Удивленный Михаил Алексеевич обнаружил её сидящей возле камина и слушающей новенький граммофон. В шипящих и немного колючих звуках, идущих из цветочного раструба, слышался какой-то милый лирический романс.