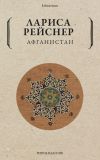Текст книги "Фронт"

Автор книги: Лариса Рейснер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Накануне. Ночью штурм Царицына, а сейчас все еще живые, радостно возбужденные. Что будет завтра – неизвестно, но сегодня хорошо.
В тесном и чистом штабном дворике цветут олеандры, и весь белый старомодный дом, где живет Азин, против воли пропитался его неистовой радостью. Сердитая богатая вдова, улыбаясь, разносит чай в пузатых чашечках, от малейшего движения дрожат высокие горки золоченого стекла; изразцовые листы комнатных растений простодушно и торжественно зеленеют на фоне белоснежных широких печей.
Чистота, олеографии с пухлой четой Адама и Евы в раю, и занавески на окнах, и ситцевые полога у постелей. И нужно же, чтобы под этой крышей, облитой с мирного неба серебряной осенней луной, собрались накануне штурма самые решительные головы: сморщенное, как уже увядший воздушный шар, личико Миши Калинина, окруженное, как колючками, взъерошенными волосами. И помолодевшая голова Азина, на которой лежит невероятная тяжесть ответственности, и комфлот. Через час домик на лунном берегу, быстрые лошади азиатской тройки, дорога к реке и последние рукопожатия – все унесено временем. Дольше всего звучит в памяти хрупкий голосок музыкального ящика, да, музыкального ящика старых годов, который целый час мешал заседанию из соседней, сердито запертой комнаты.
И сейчас, когда вокруг уже ночь и за кормой истребителя кипит пена, он все еще стоит на столе в опустевшей столовой и, прерываясь, лепечет свои колокольчиковые музыкальные фразы. Валик заржавел, ключ потерян, а он поет и смеется, и под хрустальной крышкой, улыбаясь, таится целый мир устаревшей грации и жалобной любви.
Всю ночь на реке безумствует грозная музыка войны. Первый начинает «Маркс», мимо него в туман и темноту, как призраки, проходят корабли. Один, второй, и еще, вдоль противоположного берега, где уже падают снаряды. Лесной яр сперва тоже полон золотых вспышек. Со дна реки встают густые столбы всплесков. Моряки тревожно замечают восход звезды, огромной, ровной и белой, белой, похожей на фонарь. Она так велика и бестрепетна, что сначала кажется сигнальным огнем, и посылают особую шлюпку его потушить.
Впереди разрывы краснеют во мгле, кажется, что без конца открывается и захлопывается дверца раскаленной печи. Стрельба перешла уже в тот единодушный, опьяняющий гул, который означает начало штурма. Каждый корабль окутан пороховой завесой, движется и борется самостоятельно, один на один с тем незримым противником, которого он нашел и вызвал в ночи.
За мыс выходит стайка истребителей, за ними черные тральщики, эти рыцари ночи и сумерек, идущие на свой пост со спущенным забралом – печальные ловцы мертвого груза.
К рассвету огонь стихает. Армии пора перейти в наступление, и катер, посланный за известиями, встречает на голой глиняной вершине первую нашу цепь, идущую к Царицыну.
Трудно об этом писать. Надо видеть эти черные фигуры, часто-часто перебирающие ногами, такие бесконечно слабые издали, идущие в первой, самой выдвинутой цепи, заранее обреченной, каким бы ни был исход наступления. Матросы с кораблей их тоже видят. Вдруг кто-нибудь вскрикивает – что? Ничего, задохнулся. И старшина кричит не своим голосом: «Не распускаться, сволочь!» А у самого губы прыгают: первая цепь, еще бы.
С рассветом начались налеты аэропланов. С шести утра до самой ночи непрерывное сбрасывание бомб, притом специально на реку. Обыкновенно эти налеты действуют удручающе. Но после бессонной ночи, после отчаянной борьбы, когда голова сладко и болезненно кружится и все друг другу говорят «ты», – нет! не страшно. Два гудка означают: «Вижу аэроплан неприятеля».
Один за другим корабли повторяют пронзительный свисток и снимаются с якоря. Начинается лотерея неудач.
На одно судно приходится в среднем четыре – восемь бомб. Видно, как они падают, сопровождаемые отвратительным визгом и глухими взрывами. То одна, то другая палуба покрывается осколками. «Бесстрашному» повредило нос, командир и еще трое ранены, команда спешит подвести пластырь под поврежденное место и отчаянно отбивается от бомбовоза, опять возобновившего нападение.
Один за другим – легкие катера, батареи, широкобедрые суда первого дивизиона исчезают в облаке пара и осколков – и счастливо из него выплывают. Истребители – с сердитым фырканьем моторов, в седых усах пены, батареи медленно и спокойно, сознавая невозможность укрыться, остальные – горячечно защищаясь и вышивая небо белыми клубами заградительного огня.
К вечеру на высоком берегу четко чернеет несколько одиноких фигур. Через час их уже сотня, и вся дорога покрыта беглецами. Наши отступают.
Но идут хорошо, с винтовками, за повод ведут усталых лошадей; верблюды, с обычной покорностью и грацией полных и немолодых женщин, влекут за собой орудия, повозки и людей. Штурм не удался.
На диване в канцелярии положили упавшую на берегу сестру милосердия – в трудные минуты из моря чужих людей всегда неожиданно и просто являются такие лица. При одном взгляде на них чувствуешь глубокое успокоение, и память о них не гаснет, как бы коротка ни была встреча. Они и не исчезают, а просто отодвигаются жизнью.
У этой девушки до смешного тонкий голос, из-под одеяла видны оборванные сапоги. Один глаз, щека и подбородок скрыты повязкой, кругловатый нос в веснушках и иссечен шрамам и. Самое зрелое и печальное в ней – ее отрывистый, нехороший кашель.
Шла она в свой полк откуда-то из глухого угла Украины, едва оправившись от ран. Мучительный и долгий путь. Чистилище больших дорог, ад поездов и эта жгучая боязнь оторваться от своих навсегда, потерять имена и лица, с которыми ее связала революция.
На Волгу, где дымятся сейчас милые ей кубанские костры, довела непреклонная воля и простодушная, ситцевая чистота души, перед которой невольно расступилось грязное человеческое море. С удостоверением вместе лежат письма из роты, которые начинаются с бесчисленных поклонов и по лестнице беспомощных прыгающих букв взбираются на какую-то огромную высоту. Она смотрит на эти письма боком, одним своим глазом, серо-синим, с темными крапинками, какие осенью выступают на дрожащих листах осины.
Такая она, навсегда обезображенная и милая.
Белогвардейские врачи, к которым она когда-то приползла после боя, не зная, кто они, отказались ее перевязать и в виде милости прогнали на улицу, под дождь, ночью. Тогда она сама, сидя на их крыльце, не в силах двинуться с места, сорвала со своего лица что-то холодное и мешавшее видеть – это была щека. К счастью, утром из лазарета бежал, и скрюченное существо у двери подобрали свои.
У революции, лицо которой никто еще не удостоился видеть, должен быть этот же сквозисто-синий глаз, и, может быть, повязка, и на выпуклых деревенских губах (такие губы целуют просто и прохладно) – розовая пена.
Ночью кают-компанию убирают букетами из красной осенней рябины, стол залит светом, и собеседники, смыв с высоких сапог грязь окопов или масло машин, спокойно совещаются о завтрашнем дне.
Случай расположил их так: слева быстрые глаза, бас и жестокая воля Шорина. Рядом с ним его штаб-офицер, мягкий и подробный человек, никого не способный стеснить, как походная карта, старательно сложенная и повешенная через плечо.
Дальше профиль, неправильный и бледный, выгнутый, как сабля, с чуть косыми глазами и смутно улыбающимся ртом, словом, один из тех, которые могут позировать художнику для тонкого и выносливого бога мести в казацкой папахе. Бесшумная походка, легкий запах духов, которые он любит, как девушка, и на черной рубашке красный орден – это и есть Кажанов, ставший почти легендой начальник десантных отрядов Волжской флотилии.
Голландцы, достигшие совершенства в групповом портрете, любили изобразить в центре картины, среди всех этих господ в черном платье и крахмальных белых воротничках, одну сосредоточенную и тонкую физиономию какого-нибудь славного молодого врача, вооруженного скальпелем, скептика и атеиста, стоящего к зрителю вполоборота со своим высоким белым лбом и насмешливой улыбкой.
В кожаной куртке и с кончиком «Известий», торчащим из кармана, эта фигура в наше время называется «член Реввоенсовета Михайлов».
Осколок разбитого чертом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами.
В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате революции немного скучно желание обмануть себя и других – изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным человечьим пятном. Но бурный девятнадцатый год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувства.
Дальше, но как рассказать Азина? Во-первых, он дикий город Огрыз, почти отрезанный от Камы; он – часовые, притаившиеся вдоль полотна; он – душный, жаркий вагон третьего класса, залитый светом бальных свечей с высоты двух гудоновских канделябр, взятых в разоренной усадьбе; он в непролазном дыму папирос, в тревожной бессоннице дивизионного штаба, где комиссар какой-то отбившейся части, пришедшей для связи за двадцать пять верст через заставы белых, – теперь свалился и спит на полу обморочным, блаженным сном. Он – изорванные карты на липких, чаем и чернилами залитых столах. Он – черный шнур полевого телефона, висящий на мокрых от росы ночных кустах, охраняемый одеревенелыми от холода, сна и боязни уснуть часовыми.
Азинскими шпорами изрезаны клопиные бархаты вагонов; им собственноручно высечены пойманные дезертиры; им потерян и взят с бою город Сарапуль и десятки еще несуразных городов; им ведена безумная, в лоб, кавалерийская атака против Царицына; им изрублены десятки пленных офицеров и отпущены на волю или мобилизованы тысячи белых солдат. Азин ездит верхом на горячих спесивых лошадях, не пьет ни капли, пока не кончено дело, страшно ругается со своими комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежовых держит свои невероятные, из ушкуйников и махновцев набранные части, дерется и никогда не бегает; плачет от злости, как женщина, если из-за раненой руки ему приходится лежать в самый разгар наступления.
Это Азин сам себе устраивает парадную встречу и, видя, что на берегу оркестр еще не готов, заворачивает с пароходом назад, чтобы через десять минут, обливаясь потом в своей великолепной бурке (это в июле-то месяце), все-таки принять почести, «Интернационал» и натянутые рапорты товарищей, успевших по поводу победы пришить пуговицы к единственным штанам и побрить три недели не мытые рожи. Так надо: без праздника, без музыки и встречи армия не почувствует роздыха, своих двадцатичетырехчасовых боевых именин, и наутро ее не сдвинешь с места на новые боевые недели.
Это Азин избивает нагайкой наглых своих и любимых денщиков за отобранного у крестьян поросенка, и Азин же гуляет, как зверь, целые ночи, ночи чернее сажи, с музыкой, с водкой и женщинами, но не иначе, как поставив все заслоны и пикеты, послав разведку, убедившись, что город крепко взят, и заслонив его со всех сторон. Азин просто, едва ли не каждый день водит в бой свои части, забывая, что он начдив и не имеет права рисковать своей жизнью.
Но над картой Азин стынет, как вода в полынье, слушается, как мертвый, длинных шоринских юзолент, вылезающих из аппарата с молоточной стукотней, с холодными и точными приказами, с отчетливо отпечатанным матом и той спокойной, превосходной грубостью, с которой старик Шорин умел говорить с теми, кого любил, кого гнал вперед или осаживал назад железной оперативной уздой.
Разве такого, как Азин, расскажешь? Любил, страстно любил свои части, любил и понимал всякого новобранца, извлеченного из-под родительских юбок, – юнца с оттопыренными ушами под непомерной фуражкой, в шинели до пят, и с одной мыслью: где бы бросить налитое тяжестью ружье? С такими умел воевать, с такими делал победы, голодал, валялся в тифу и всю Россию прошел из конца в конец, чтобы после Камы и Волги, после Царицына и Саратова нелепо погибнуть под Перекопом чуть ли не накануне его взятия, бесславно погибнуть в плену, да еще оклеветанным белыми, распустившими слух о его измене Красной Армии.
Это Азин – герой, солдат, пистолет, так воевал, так голыми руками в подкову согнул свою дивизию, таких чудес наделал и солдат и комиссаров себе воспитал, что и после его смерти 28-я дивизия оставалась Азинской, и на пыльные площади Баку, и к грузинской и к персидской границе подошла своим старым походным шагом пыльная, пестрая, оборванная, в лохмотьях и генеральских лампасах, боком, просто и железно сидя на своих низкорослых неизменных лошаденках, набранных от Перми и до Астрахани.
В этот вечер за чаем собеседники начали спор о героизме. Тема странная среди людей, давно привыкших к вой не и в большинстве награжденных всеми возможными знаками отличия.
Скептик в кожаной куртке, помешивая ложечкой в своем стакане, спокойно отрицал все признаки романтики в деле революции, ставшей для него ремеслом. Отличительная черта интеллигента: излечившись на фронте от фразеологии, он понемногу выздоравливает и мужает, счастливый, что может наконец без оглядки и сомнения подчиниться могучим и простым двигателям жизни. Чувство долга, братской солидарности, повиновения и жертвы становятся здоровой привычкой. И, боясь потерять это еще хрупкое внутреннее равновесие, интеллигент, ставший солдатом революции, крепко цепляется ногами за землю и без конца повторяет себе успокоительное «дважды два – четыре».
Слушая умного комиссара, солдат в генеральских эполетах потупил лукавые глаза и положил себе в стакан лишний кусок сахару. За последнее время вокруг его размеченных карт и твердых приказов все чаще жужжали вот такие же теоретические долгие беседы за полночь, суть которых он плохо понимал, но с бессознательной мудростью старого военного человека ежечасно опровергал всей своей работой.
Красным орденом на груди гордился и, читая сводки с фронта, между строк угадывал такую же, как у себя, ревнивую тоску о победе. Ни с какой стороны ко всему этому нельзя было применить того идейного середнячества, уравнения в сером цвете и торжества будней, которое сейчас, сидя пред Шориным, ровным голосом разрушало какой-то белый, высокий и праздничный строй его мысли. Азин, у которого на лице еще не потух гордый румянец стыда за какое-то незначительное поражение на фронте, рассказанное при стольких чужих людях; Калинин, слишком утомленный своей действительно бесплодной храбростью, которую он считал обязанностью коммуниста и комиссара, – оба они не решались говорить, наслаждаясь папиросой и тем, что кто-то спорит и можно молчать.
Но царапающая речь все больше и больше разрушала атмосферу тыла, света и покоя, вообще редких в этих местах.
Казалось странным, что милая жизнь, каждый раз после опасности еще более любимая и желанная, кажется такой голой и серой этому спорщику, готовому свои собственные мозги распластать и облить кислотой в припадке холодного любопытства.
Особенно Азин: ноги у него еще болят от седла, во всем теле разлилась сладкая усталость от осени, от красных и золотых деревьев, от зелени лугов, цветущих последней яркостью, от добрых глаз и плавной походки верблюдов, влекущих через степь тростниковые повозки. Утром его чуть не убили в разведке, а вечером столько невозмутимой земли, воздуха, горьких, возбуждающих запахов осени.
И еще такая нежность, – он не мог вспомнить, к кому она относилась: к матросам ли, встреченным на берегу, пришедшим из царицынского плена с шрамами на горле, или к письму, полученному так поздно и издалека. И вдруг кто-то тут сидит, отрицает сущность жизни, ее чудеса и дивный произвол. Отрицает героизм.
– Ах ты… – Азин заметил чьи-то предупреждающие глаза и из-за них не выругался.
Хотелось взять карту, найти на ней красный венок республики, в течение двух лет одиноко цветущий среди всего мира и героически обороняемый истощенным народом. Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать.
Астрахань – Баку
IДни шагают нестерпимо быстро, жизнь превращается в мелькающий сон, в котором смешались лица, города, Новые земли.
Вот оно, наше близкое вчера: Астрахань, едва согретая ранней весной, с мягкой пепельной пылью, с нежнейшими бледными травами на бесплодных полях, с покинутыми старыми монастырями, вокруг которых блаженно цветут яблони и персики, белые и святые под небом, которое к ним нисходит для любви. Невозможно представить себе более торопливого, напряженного, молчаливо светящегося цветения, целого бело-розового пожара среди совершенно голых и неподвижных холмов Каспийского побережья.
Вот самый город – полуразрушенный и сожженный, голодный и оборванный, как бывают голы только нищие Востока; город, лишенный света и тепла, боязливо отогревающий под солнцем апреля свои отмороженные крыши, стены, насквозь пропитанные стужей и сыростью, свои давно потухшие, незрячие окна и трубы без дыхания. Но как дорог революции каждый камень астраханской мостовой, каждый поворот ее улиц, неровных и искривленных, как отмороженные пальцы. Каких неимоверных трудов, каких жертв стоила Советской России Астрахань, эта ржавая и обезображенная дверь Востока.
Если защищался Петербург, защищался пламенно и единодушно, то он этого стоил, со своими площадями, освященными революцией, со своей надменной красотой великодержавной столицы.
Красный Кронштадт и петровское Адмиралтейство. Зимний дворец, в котором живут только картины и статуи, унылые заводы, в холоде и голоде продолжающие ковать оружие для Красной Армии, – они могут вдохновить на сопротивление. Каждый шаг пролетарских войск, идущих умирать за Петербург, будит металлический отклик по всей России, он незабываем, не преходящ. Но сколько нужно мужества, чтобы защищать Астрахань. Ни любовь к этому городу, ни революционная традиция – ничто, кроме чувства долга, не поддерживало ее бойцов. А много ли найдется людей, способных во имя голого, отвлеченного долга нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах.
И даже не долг, даже не долг спас Астрахань, а общее и бессознательное понимание того, что уйти нельзя, что нельзя пустить англичан на Волгу и потерять последний выход к морю.
Вся Астрахань с ее голодом и героизмом запечатлелась в одной прощальной картине: ночью на заводе Нобеля рабочие, прожившие всю зиму без хлеба, без тепла и одежды, оканчивали при ослепительном электрическом свете спешный ремонт. В док подняли целого гиганта: железную баржу-батарею, поврежденную английской миной. На реке холодно и темно, но далеко сияет электрический маяк кузнецов, и среди бесчисленных подпорок на развороченное, пробитое тело корабля с лязгом и грохотом падают целительные удары молота. И так всю ночь. Железо размягчается и припадает к железу: бешеные швы пересекают пробоины, и молодая сталь покрывает их несокрушимой гладью.
Это Астрахань и ее оборона.
Вот наконец и рейд, бледный, бурный, и остров кораблем, стоящих на якоре в открытом море. Ночью вдали является зарево – на скудных астраханских берегах горит камыш. На палубе судов отдыхают перелетные птицы, скрипят якорные канаты, и мачты, равномерно покачиваясь, описывают в воздухе ровные дуги.
IIОт Астрахани до Петровска морем. Суда в кильватер проходят минные поля, минуют брандвахты и наконец, играя, идут совершенно свободными, бесконечными, навсегда открытыми глубинами. После трех лет речной войны море бросается в голову, как вино.
Матросы часами не уходят с палубы, дышат, смотрят и, сами похожие на перелетных птиц, вспоминают пути далеких странствий, написанные па водах белыми лентами пены. Как чудо, выходят из воды горы. Как чудо, проходит мимо первая баржа с мазутом для Астрахани, а корабли все еще наслаждаются: то ускоряют, то останавливают свой согласованный ход, и мачты пляшут, как пьяные, и люди не могут ни есть, ни спать.
IIIОт Петровска до Баку железная дорога лежит у подножья гор. И вдоль этих гор, вдоль дороги – непрерывный живой поток. В облаке легкой пыли идут люди, кони, повозки, артиллерия. И как ни величавы предгорья Кавказа, их фиолетовая тень меркнет в этом неустанном, жадном, быстром беге наступающих войск.
Дымясь, точно струя кипятку, двигается конница. Удивительная посадка, удивительный шаг у этих всадников и людей, прошедших Россию от Архангельска до Астрахани, от Урала до Каспия.
В Баку перед тысячами и десятками тысяч зрителей, затопивших собой тротуары, плоские крыши, балконы и фонарные столбы, 1 Мая был дан торжественный парад.
Сперва продефилировали местные полки, добровольно перешедшие на нашу сторону, – великолепно одетые англичанами, ими же обутые, накормленные и вооруженные. Все в облике этих национальных гвардейцев европейское. Идут очень в ногу, держатся прямо, ряды выведены, как по линейке. И даже лошади не по-нашему круглы, сыты и крупны – не чета нашим горбоносым, маленьким, лохматым конькам, прошедшим тысячи верст своей легонькой бережливой рысцой. Нет, тут что ни всадник, то монумент от Николаевского вокзала. Пыль, грохот, музыка – и промчались, как дым. Балаханка блестит голубыми глазами и смеется: «Платком махнуть, и вся их войска разбежится. Одна прыть и видимость. Где же это наши?» И наши действительно идут. Запыленные, оборванные, почерневшие от солнца и усталости, но идут ровно и просто, без особенной муштры, настоящим походным шагом, которым прошли всю республику и предгорья Кавказа. Не торопятся, ни перед кем особенно не тянутся, никого не хотят удивить, а земля гулом отвечает этому вольному и железному течению полков. Откуда он у них, этот классический шаг, любимый Цезарем и тщетно искомый в тюремных казармах Европы? Каждый буржуа Баку и каждый рабочий из Балахан чувствует, поддаваясь неотразимому ритму упругих, вольно текущих масс, что их путь здесь, в Азербайджане, не остановится, что людская волна, в пыли и пене докатившаяся до Баку, не спадет, но пройдет дальше, далеко за его пределы.
Со своим вином, блеском и богатством Баку не поглотило ни армии, ни ее духа. Солдаты и матросы гуляли по нарядным улицам с независимым видом, и их спокойное любопытство пугало буржуазию больше, чем пугали бы большевистские грабежи и насилия. Армия прошла дальше, на ближайший меньшевистский фронт. Ни разложения, ни распущенности. Богатый город, ожидавший победителя с психологией продажной женщины, остался как-то в стороне. Его не тронули, почти не заметили.
Зато Черный Город и Балаханы ожили. На чистеньких улицах Баку все чаще видно выходцев из нефтяного квартала. Их бледные лица и промасленные лохмотья странно отражаются в нарядных витринах, за которыми навалены горы иностранных товаров. Правда, настоящей революции еще не было. Разница между нищетой и богатством, от которой мы успели за три года отвыкнуть, здесь выступает на каждом шагу. Нищета по-прежнему сочится из всех скважин, течет, как нефть, по всем сточным трубам, ею насквозь пропитаны улицы. Но Октябрь уже вошел в город, потерялся в темных закоулках предместий, и мусаватисты со злобой ждут близкой социальной бури.
Уже три ночи город не спит. Возможно восстание, резня, попытка буржуазного переворота. Три дня прожектор с моря обливает ближайшие горы безжалостно белым светом, ползает по трещинам и скатам, озаряет целые селения без жизни и движения – память последней армянской или турецкой резни. О, пусть бы началась, пусть бы скорее началась славная наша игра. В тишине бескровной, как бы Февральской, революции так душно дышать рабочим кварталам. Они не находят покоя, им снятся тревожные сны.
Только земля не знает тревоги. Ей стало легко – и блаженно спокойно. От закрытых нефтяных источников отвалили наконец камни, и из черных недр хлынули набухшие потоки. Как мать с переполненной грудью, ждала она Россию, и теперь, когда к ее черным сосцам припали тысячи жадных губ, она дает бесконечно много, счастливая, раскрепощенная, вечно молодая земля. По толстым жилам-нефтепроводам живая влага хлещет в резервуары, и корабли не успевают вывезти миллионы и миллионы пудов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?