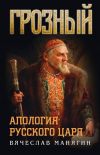Читать книгу "Смерть и воскресение царя Александра I"
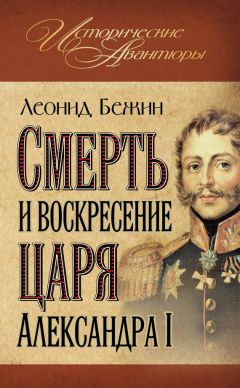
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В дыму сражения Александр потерял связь со штабом и остался почти без свиты: сопровождали царя лишь верный ему лейб-медик Виллие (он будет с Александром и в Таганроге), барейтор Ене, конюший и два казака. Он вполне мог попасть в плен, случись натолкнуться на французский отряд: горстка своих, почти без оружия, не отстояли бы. К тому же царь неуверенно держался в седле, не смог перескочить через ров, и барейтору пришлось самому для примера несколько раз преодолеть это препятствие, чтобы показать, как это делается. В конце концов, не выдержав всех испытаний, измученный, потрясенный, с расстроенными нервами, царь разрыдался, сидя под деревом и закрывая лицо платком. Майор Толь, издали следивший за ним все это время и ждавший повода вмешаться, предложить свою помощь, подскакал к царю, чтобы его ободрить и утешить. Это придало ему сил, и вскоре Александр поднялся, вытер слезы, молча обнял Толя и снова сел в седло.
К ночи добрались до моравской деревни, где остановился на ночлег и император Франц, также спасавшийся бегством от Наполеона. Александр валился с ног от усталости, по лицу струился пот, весь был в грязи, черен лицом, белье не менял двое суток. Отыскали избу, свободную от постоя, постучались, их приютили на ночь. Совершенно больной, разбитый, дрожа от озноба Александр упал на солому. Виллие хотел приготовить для него глинтвейн, чтобы царь получше уснул, но у хозяев не нашлось красного вина. Послали в избу императора Франца, но обер-гофмаршал Ламберти, учтиво раскланиваясь и сочувственно улыбаясь, сказал, что тот уже спит, а без его ведома он не смеет распоряжаться запасами. Оставалась последняя надежда на наших казаков, и те не подвели, отыскали в походных флягах, поделились последним. Виллие добавил к вину немного опиума, царь выпил, едва удерживая в руках бокал, стуча зубами по стеклу, и наконец провалился в глубокий сон.
Все это было, об этом свидетельствуют очевидцы, пишут историки и романисты (сцены с форейтором и майором Толем воссоздает в «Войне и мире» Толстой), но там, на холме, не таким представился мне Александр. Среди дыма, огня, выстрелов, взрывов только начинающегося сражения передо мной возникла закутанная в плащ фигура, и я угадал черты лица – те, которые затем распознал на купленном в музее портрете. Лица, словно бы овеянного некоей мечтательной голубизной, излучающего романтическую окрыленность, веру в возвышенные идеалы, торжество справедливости. Светлого, открытого, с правильными, рельефно вылепленными чертами, чуть затуманенным взглядом красивых глаз и тонкими выпуклыми губами – лица молодого Александра.
Угадал и понял, что я знаю. Знаю тайну, которая связывает два портрета. Тайну императора Александра I и старца Феодора Козьмича. Вернее (не побоимся и мы поставить тире), императора Александра – старца Феодора.
Глава пятая
Александр и… Александр
Знаю и поэтому после Праги и Аустерлица должен снова поехать. Романтический и сентиментальный созерцатель предметов, сохранивших свечение прошлых времен, я должен поехать по всем тем местам, где свершалось это событие, – может быть одно из самых значительных в русской истории, не уступающее по важности Бородинской битве, пожару Москвы, освобождению Европы от Наполеона и прочим событиям военной и политической истории девятнадцатого века.
Не уступающее как событие истории духовной, творимой не на изрытом ядрами поле, не в солдатской палатке и походном шатре полководца, а за решетчатым окошком монастыря, на дощатом полу, стертом от долгого стояния на коленях перед лампадкой, озаряющей медное распятие и тусклые лики. Иными словами, на том невидимом поле брани между добром и злом, на которое отважится выйти не всякий воин, а лишь силач, богатырь и умелец в ратном деле, которому не страшен огонь Змея Горыныча и свист Соловья-разбойника. Богатырь без коня и доспехов, с крестом на впалой груди, утонувшими в глазных ямах пылающими зрачками, бледным от ночных бдений лицом и головой, склоненной «в предстоянии и молитве», – он-то и творит историю, которая еще не написана нами и вехи которой мы едва различаем в тумане.
Думаю, что и Феодор Козьмич подолгу простаивал на коленях и молился, отводя несчастья и беды от своей многострадальной родины, и его незримое вмешательство прочитывается на многих событиях истории девятнадцатого века. Истории, которая творилась не только в Москве, Петербурге и Царском Селе – на аудиенциях, военных парадах и торжественных официальных молебнах, но и в Таганроге, Красноуфимске, Томске и других местах, где разворачивалась великая и уединенная духовная драма, – драма царя, сменившего скипетр и державу на суму и страннический посох, посвятившего вторую половину жизни исканию истины, а после смерти причисленного к лику святых. Причисленного и канонизированного наравне с прочими русскими святыми и, таким образом, разделившего посмертную судьбу Александра Невского, небесного покровителя Александра Благословенного. Удивительное повторение судеб: благоверный князь и праведный император! Повторение с тою лишь разницей, что уход Александра Благословенного таит в себе еще более жгучую тайну, чем величественное небрежение властью Александра Невского. Поэтому, побывав под Аустерлицем, вписанным в историю деяний Александра, я должен был побывать и там, где совершал свои деяния Феодор Козьмич. Побывать, чтобы соприкоснуться с иной – духовной, – историей, различить ее подземные токи, услышать родниковый шелест, распознать тихое журчанье ключевой воды.
И вот в девяностом году я готовлюсь к экспедиции: листаю старинные журналы и книги за столиком Румянцевской библиотеки, под строгой зеленой лампой, накрывающей шатром желтоватого света и почтенного Шильдера, и великого князя Николая Михайловича, и историка-энтузиаста Михайлова, и «Русский архив», и «Исторический вестник». Листаю, усердно делаю выписки, а затем с «головою, легкой от утомления», иду пешком по бульварам и чувствую себя счастливейшим на свете, оттого что скоро экспедиция, и я готовлюсь, и заветная книжечка пухнет от записей, и уже куплены билеты на поезд. Куплены билеты и подобралась компания: мой краснолицый, вечно хохочущий друг, знакомый драматический писатель с редкой бородкой, немного вьющимися волосами, небрежно повязанным галстуком и той рассеянной мечтательностью во взгляде, какая бывает у сельских священников или провинциальных интеллигентов, и миловидная художница с рыжеватой челкой и бусинками цыганских сережек в ушах – оформитель будущей книги.
Компания вполне пристойная, чинная, не в пример той, с которой я путешествовал по Чехии. К тому же все охвачены благородным порывом, стремлением проникнуть в тайну Феодора Козьмича, обнаружив архивный документ, свидетельство, связанный с ним предмет или хотя бы место, где он жил. Я давно убедился в том, что человек как бы намагничивает места своего присутствия, особенно человек выдающийся, редкий, необыкновенный, и даже если, кроме места, ничего не осталось, мы чувствуем этот магнетизм, это напряженное духовное поле. И – происходит соприкосновение, со-общение, мы что-то улавливаем, нам что-то передается: сигнал, ток, импульс. Поэтому хотелось разыскать хотя бы место – на большее я, признаться, не слишком надеялся. Предметы, архивные документы – какое там! Нас разделяет более сотни лет, и не мирных, спокойных, благополучных, отмеченных знаком Ангела, а кровавых, страшных, жестоких, прошедших под знаком Зверя. Место же – застроенная уродливыми, грязно-серыми домами площадка, холмик, овражек, – должно остаться. Должно – и нам хотелось. Мы наметили маршрут, упаковали чемоданы (самый большой оказался у нашей миловидной художницы), отец Геннадий, священник церкви Воскресения Словущаго, что на Успенском вражке (тогда улица Неждановой, а ныне, как и прежде, – Брюсовский переулок), благословил нас перед дорогой, осенил крестом, и мы отправились в Таганрог.
В Таганрог, где все начиналось и откуда с сумой и странническим посохом ушел в неведомое русский император. Ушел, чтобы посвятить вторую половину жизни… а после смерти быть причисленным… И вот думаешь: знал бы Пушкин… Пушкин, написавший свое убийственное: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Знал бы об этом начале: в какой-то воображаемый нами момент Александр, уже переодетый и изменивший внешность, стоит и смотрит туда, в некое ночное пространство, где горят звезды, мерцает в облаках луна и едва обозначен в тумане изгиб дороги. И вот он сейчас уйдет: сделает шаг – и канет. Канет, растворится во тьме и больше никогда не увидит своего дома, книг, кресел, письменного прибора. Почему-то в последний момент больше всего жаль мелочей – да, да, письменного прибора с какой-нибудь там замысловатой чернильницей, очиненными гусиными перьями (никогда не писал дважды одним и тем же, всякий раз брал новое, заранее для него приготовленное), душистым порошком, которым посыпали письма… И ему тоже жаль – несмотря на грозное величие минуты. Жаль этого тепла, этого уюта, этой привычной и милой жизни.
Если бы Пушкин об этом знал, он бы понял своего царственного тезку, ведь и сам Пушкин тоже ушел. Ушел, но по-иному – через дуэль и смерть. Его миссия была завершена, поэтому смешно и наивно думать, что дуэль затеяли Геккерен и Дантес. Ее затеял сам Пушкин – как свой уход; встал под пистолет и предоставил судьбе решать, быть или не быть. Но в уход Александра I он, скорее всего, не верил, хотя вокруг поговаривали и слухи до него, конечно, доносились. Поговаривали в окружении декабристов, с которыми Пушкин был близок, но вряд ли он относился к этим разговорам всерьез. «Есть основания предполагать, – говорил кто-нибудь из друзей, придвигаясь к нему вплотную и со значением понижая голос, – что Александр Первый не умер в Таганроге, а ушел неизвестно куда. В гроб же вместо него положили…» «Пустое!» – небрежно отмахивался Александр Сергеевич, и лицо его принимало рассеянно-безучастное выражение, означавшее, что его совершенно не занимает обсуждение подобных сплетен. Одним словом, Александр Павлович так и остался для Александра Сергеевича «слабым и лукавым властителем», который окончил дни в пыльном южном городке! Да, повез туда жену для поправки здоровья и сам неожиданно умер – такая нелепая участь, усмешка судьбы. Простыл на ветру, подхватил какое-то воспаление – и конец!
Именно конец, а не начало: так, скорее всего, осознавал это Пушкин. Если бы не так – вместо четверостишия о «слабом и лукавом властителе» могла родиться драма еще большего «скорбного закала», чем «Борис Годунов». Но, видимо, какие-то силы удерживали, не позволяли – силы и земные и небесные.
С земными, собственно, все ясно: Николай I, ставший императором в нарушение закона о престолонаследии и помазанный на царство при живом помазаннике. Ему, конечно же, было известно, что его брат лишь разыграл напоказ обществу, инсценировал собственную смерть, и вот он здесь, в Зимнем дворце, правит, а тот в глухом монастыре перед заветной иконкой молится. Поэтому задача Николая заключалась в том, чтобы сберечь, сохранить фамильную тайну. Сохранить любой ценой, а тут Пушкин, чья слава гремит по всей России и чьи стихи твердят наизусть и чиновники, и студенты, и лихие гусары, и провинциальные барышни: конечно же, нельзя допустить… Нельзя – любой ценой, любыми средствами… И вот оценим с этой точки зрения дату – 1837 год. В январе умер Пушкин, а через два месяца в деревне Зерцалы появился старец Феодор Козьмич. Совпадение, к которому мы еще вернемся, рассказывая о путешествии в Петербург и о встрече с человеком, который предложил свое – неожиданное – истолкование загадочных обстоятельств, связанных со смертью Пушкина.
Вернемся, а сейчас обратимся к небесным силам, державшим поэта в неведении о том, что случилось в Таганроге. При этом снова подчеркнем, что Пушкин свою духовную миссию завершал: уже написаны поэмы, маленькие трагедии, сказки, «Евгений Онегин». Уже создан, огранен, отчеканен во всем алмазном блеске русский литературный язык. Уже обозначены темы всей будущей русской литературы – от Гоголя, Тургенева, Достоевского до Ремизова. Император Александр же лишь приступал к выполнению своей духовной миссии – ему предстояло пройти подвижнический путь сибирского старца. Поэтому нельзя было, чтобы Пушкин стал выразителем миссии Александра: в этом случае он придал бы классическое завершение тому, чему еще предстояло развиваться. Придал бы и нарушил некую эзотерическую замкнутость, необходимую для накопления духовной энергии, – глубинное, тайное, сокровенное стало бы явным, и миссия Александра оказалась бы прерванной. Этого же небесные силы, устанавливающие некую метаисторическую согласованность человеческих судеб, допустить не могли. Вот и получилось, что старец вышел из затвора за несколько месяцев до (сентябрь 1836 года), а поселился в Сибири через два месяца после смерти Пушкина. Когда же готовилась дуэль, плелась интрига и для Пушкина уже распахивались небесные двери его будущего ухода, Александр, чья спина была исполосована плетью, вместе со ссыльными шел по этапу. Собственно, они оба шли, но каждый к своей цели, и уход Пушкина делал возможным явление Александра уже как Феодора Козьмича.
И еще один знаменательный факт обратного порядка: будучи в Таганроге, Пушкин останавливался в том самом доме, где через пять лет после этого якобы умер Александр. Так косвенно сблизила их судьба – именно косвенно, а не напрямую, ведь Пушкин не мог предвидеть, а Александр наверняка не знал (что ему Пушкин!). И точно так же через много лет она сблизила Александра с другим величайшим гением русской словесности – Львом Толстым.
Толстой по материнской линии состоял в родстве с князем П.М. Волконским, генерал-адъютантом Александра, с которым у императора были особо доверительные отношения. Кроме того, существуют указания на то, что молодой Толстой посетил однажды сибирского старца и провел целый день в его келье. Во всяком случае, академик Всеволод Николаев, автор изданной в Сан-Франциско книги «Александр Первый – старец Федор Кузьмич», пишет об этом как об известном факте: «…когда Федор Кузьмич жил на пасеке Латышева, т. е. в конце 50-х годов, старца посетил будущий знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой». Посетил по праву родственника Волконского, но для этого надо было знать, что Феодор Козьмич – это Александр…
Другие исследователи берут на себя смелость отрицать этот факт, и мы не будем вступать в бесплодную полемику, поскольку для нас подобные сближения, и даже сама их возможность, дороже фактов. Поэтому удовлетворимся некоей неясностью в этом вопросе, ведь и повесть Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузмича» осталась незаконченной. Незаконченной – словно кто-то воспретил, не позволил, нашел способ внушить, что лучше оставить повесть незаконченной, отложить перо и спрятать рукопись в стол; но об этом мы поговорим, рассказывая о путешествии в Петербург и встрече с человеком, который и в вопросе о Толстом предложил свое – неожиданное – объяснение…
Глава шестая
Александр и… Александр
(опровержение и версия)
На этом бы и завершить главу, поставить точку, но что-то удерживает, задевает, цепляет, не дает успокоиться. Встаешь из-за стола, кругами ходишь по комнате, убеждаешь себя: ну, что же ты?.. протягиваешь руку… нет, не дается. Так бывает: какая-нибудь мелочь, пустяк, а свербит, и приходится возвращаться к теме и писать новую версию уже законченной главы, споря с самим собой, не соглашаясь, себя же во многом опровергая.
Вот и меня сейчас неотвязно преследует имя: Волконский… Волконский… Толстой состоял с ним в родстве. Пушкин же свою последнюю квартиру на Мойке снимает в доме Волконского – да, того самого Петра Волконского, который входил в ближайшее окружение царя, был с Александром до самой его мнимой смерти в Таганроге. В Таганроге! Вот круг и замкнулся, и два этих дома – дом Волконского на Мойке и путевой дворец в Таганроге – связала таинственная нить. Тогда в Таганроге Пушкин еще не знал, что будет и что после него здесь поселится царь, теперь он знает обо всем, что было. И, глядя на стены своих комнат, воображая облик их прежнего владельца, не может отделаться от мысли о том, что они принадлежали человеку, посвященному в замысел Александра. И главное, он, Пушкин, словно бы судьбою ведом по его следу. Их жизненные круги соприкасаются, перекрывают друг друга, меж ними возникает намагниченное, заряженное поле, и ему передается ток, заставляющий вздрогнуть от внезапной догадки…
Теперь следует опровержение и версия: Пушкин был очень близок к разгадке династийной тайны Романовых. Он допускает, что Александр мог совершить то, чего сам Пушкин не мог, – уйти при жизни и таким образом духовно превзойти его, «вознестись выше». Сам Пушкин написал когда-то о своем нерукотворном памятнике: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Ан нет! Так красиво не получалось… Приходилось признать, что не вознесся, а, наоборот, склонился в смирении перед нравственным величием того, чей подвиг ознаменован Александрийским столпом. Потому-то и звучит как покаяние в поздней лирике Пушкина: «Напрасно я бегу к Сионским высотам». Напрасно! Тем не менее стремление не ослабевает, и поэт замышляет побег «в обитель дальную трудов и чистых нег». Он мечтает удалиться «в соседство Бога», в «тесные врата». И в этом тоже – отголосок покаяния, только надо его расслышать. И, наконец, он создает стихотворную повесть «Анджело» и пишет стихотворение «Родрик»…
И тут я должен на время прерваться и рассказать об одной книге – рассказать не потому, что это некая редкость, которую я, дитя везения, нашел по библиотечным каталогам и, перебрав в выдвинутом длинном ящике множество карточек, насаженных на металлический прут, заказал в фонде. Нет, она сама меня нашла, нежданно-негаданно появилась на моем столе, и принес ее незнакомый мне посланец из Петербурга, родины Александра Павловича. Книга называется «Ангел царя Александра» – сборник статей, составленный известным пушкинистом, знатоком девятнадцатого века Элеонорой Сергеевной Лебедевой. В книгу было вложено письмецо от нее: «Дорогой Леонид Евгеньевич! Ваше эссе «Усыпальница без праха» за эти 14 лет перечитывала много раз, и каждый раз впечатление только усиливалось. Теперь, когда информационная блокада вокруг имени Александра Благословенного, наконец-то, прорвана, хотелось бы увидеть Ваше произведение отдельной книжкой! Петербуржцы, например, после грандиозной эрмитажной выставки «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (2005) вполне готовы воспринять такой текст. Позвольте представить Вам скромный труд – мой и моих авторов «Ангел царя Александра», во многом вдохновленный Вами». Поясню: в 1991 году журнал «Новый мир» опубликовал мою повесть-эссе «Усыпальница без праха», которая, как я чувствую, оказала некое воздействие на умы. Во всяком случае, меня потом стали приглашать выступить, особенно часто на радио – рассказать о Феодоре Козьмиче; я получал письма от читателей, и однажды мне позвонил Андрей Владимирович Козлов, потомок фельдъегеря Маскова, разбившегося накануне 19 октября и похороненного вместо Александра…
И вот еще один отклик, отзвук, приглушенное эхо той публикации. И пусть даже отклик для меня лестный, я хотя и со смущением, но привожу его потому, что здесь важно совсем другое. Есть единомышленники, есть движение умов, увлеченных одной идеей, а движения умов в России – великая сила, уж мы-то знаем, научены многовековым опытом. И пусть на фоне иных книг о русских царях эта выглядит скромно, издана без помпезных излишеств, без золотого тиснения на корешке, и не разрекламирована на всех углах, она опережает свое время. Так, собственно, всегда и бывает: кто-то опережает, кто-то запаздывает. Иные историки (запаздывающие) все еще ломают копья, наезжают друг на друга, скрестив мечи, до хрипоты спорят об Александре и Феодоре Козьмиче, что-то доказывают, аргументируют, по выражению Даниила Андреева. А спорить-то уже и не надо… а надо приучать сознание читателей к тому, что император стал старцем, – это во-первых, во-вторых же… Ну, хорошо, стал, все согласились и… забыли, все пошло своим чередом? Нет, что-то должно измениться, что-то должно открыться, явиться в преображенном свете, ведь подвиг на то и подвиг, что он преображает.
Вот авторам сборника и открылось в Пушкине, высветилось вдруг потаенное, невыговоренное, зашифрованное.
Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Сны, вообще-то говоря, быстро тускнеют и забываются, но этот – особый, «чудный», не сон, а видение во сне – кого? По предположению одного из авторов сборника, – преподобного Серафима Саровского, с которым поэт встречался в 1830 году, после чего – в 1835-м – он и явился ему во сне. Явился незадолго до смерти и благословил – на крестный путь…
Видоизмененным Пушкин включил этот отрывок в стихотворение «Родрик» и таким образом спрятал, зашифровал его истинный источник. Есть и еще один способ шифровки – даты. Даты, встречающиеся в дневниках, записках, пометках на полях рукописей, поставленные под только что написанным или переписанным набело стихотворением, – они соотнесены с православными праздниками, посвященными тому или иному святому, или особенно значительными событиями в жизни поэта. И всякий раз это не случайно, далеко не случайно…
То же самое и рисунки к стихам, таинственные графические и смысловые обертоны, проступающие водяные знаки, казалось бы, давно знакомых строк…
Серафим Саровский, поминаемые церковью святые, в том числе и преподобный Савва Сторожевский, – вот круг мистических переживаний Пушкина, в центре же этого круга – царь, сменивший «златый венец» на «клобук».
В трагедии «Борис Годунов» Пимен говорит Гришке Отрепьеву:
… Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился;
Они его меняли на клобук…
Таким образом, Пушкин близок к разгадке настолько, что не различишь: он ли ищет ее или она его ищет, кружит над ним, высматривает.
Ну, во-первых, слухи – им можно не верить, с пренебрежением отмахиваться («Пустое!»), пока они не превратились в молву, а молва в России – тем более молва народная, – мистична… И такая молва вокруг имени Феодора Козьмича возникает, ширится, множится, дробится, прячется по углам, журчит ручейками и вновь сливается в единый многоводный поток. Во-вторых, сам Пушкин пытливо ищет встреч со свидетелями Александровской эпохи, приближенными ко двору, к царю, подолгу беседует с ними, подробно расспрашивает, жалеет о сожженных Николаем записках Елизаветы Алексеевны – словом, ведет себя как историограф, унаследовавший это звание от Карамзина. И, в-третьих (хотя это, может, самое главное), Пушкин мистически вчитывается в судьбу Александра, сближенную с его собственной судьбой.
Как мы уже отмечали, в своей поздней лирике он постоянно проигрывает, опробует на себе уход Александра. Уход – как побег:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
А разве не угадывается «самоотреченный» Александр в герое пушкинской поэмы «Анджело», «предобром старом Дуке»:
…докучного вниманья избегая,
С народом не простясь, incognito, один
Пустился странствовать, как древний паладин.
Пушкин говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не писал». Вряд ли собеседник его до конца понял, распознал глубинный смысл сказанного. Наверняка подумал, что для любого автора его последнее произведение всегда самое лучшее. Да и обращается-то Пушкин не столько к Нащокину, сколько к самому себе, своим потаенным мыслям, тому, что он о себе знает: «…ничего лучше я не писал». И в самом деле, Пушкин показывает, раскрывает в повести не столько привычное для девятнадцатого века борение страстей, сколько обнажает психологический конфликт, своей заостренностью, взвихренностью, взвинченностью предсказывающий Достоевского. Собственно, Анджело – это подлинный герой Достоевского, так же как и Клавдио, и Изабела. Анджело, влюбившись в монахиню – сестру, пришедшую просить за брата, настойчиво домогается ее любви, требует, чтобы она ему отдалась. Клавдио, страшась смерти, готов толкнуть сестру на этот гибельный шаг. Достоевский!
Но Пушкин знает о себе и другое: повесть лучше – в смысле чище, совестливее; повесть «Анджело» – искупление его вины перед Александром, на которого он писал желчные и едкие эпиграммы. Писал, «с толпою чувства разделяя», а вот теперь покаялся…
Покаялся хотя бы тем, что назвал Дука (Александра) предобрым. Хорошо известно, что каждое слово у Пушкина предельно значимо, строго выверено по смыслу, и это слово выбрано не случайно. Оно прямо отсылает нас к лексике православного обихода, где Иисус именуется пречудным, пресильным, прелюбимым, Богородица – пренепорочной, пречистой, превосходящей всех своей чистотой, а святые – преподобными. О том, что Александра во времена его царствования называли добрым, кротким, преисполненным любви и сострадания, свидетельствуют многие источники, записки и воспоминания современников. Но Пушкин называет его предобрым и таким образом придает религиозный статус его новому состоянию (после царствования), ставит свершения Александра выше обычных земных свершений, возводит его в чин святости.
Но, что самое поразительное, в повести «Анджело» содержится даже намек на то, что вместо Александра в гроб был положен другой. Этот другой появляется в короткой и этим как бы выделенной пятой главе третьей части:
Замыслив новую затею, Дук представил
Начальнику тюрьмы свой перстень и печать
И казнь остановил, а к Анджело отправил
Другую голову, велев обрить и снять
Ее с широких плеч разбойника морского,
Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме…
Поистине эта сцена заставляет невольно вздрогнуть (мороз по коже!), словно проступившая сквозь слой краски древняя тайнопись, словно библейское «мене, текел, упарсин» на пиру Валтасара. Нет, все-таки знал Пушкин… Знал и сумел высказать, через голову современников обращаясь к потомкам.
Точно так же и герой стихотворения о Родрике («На Испанию родную…»), созданного на основе испанских романсеро, поэмы Роберта Саути «Родрик, последний из Готов» и народной легенды о короле Родриго, «венец утратил царский», покинул поле боя и, как древний отшельник, уединился в пещере. Предав земле обнаруженные там мощи прежнего обитателя – древнего отшельника, он решил продолжить его подвиг. Отныне вся жизнь Родрика посвящена молитвам, суровому посту, борьбе с искушениями:
Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.
Но в пещере Родрика искушает лукавый, шлет ему прельстительные сны, оставляющие наутро чувство раскаяния и стыда. Родрик изнемогает в этой борьбе. Тогда-то и является ему древний отшельник:
В сновиденьи благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.
Он возвещает ему волю Всевышнего: покинуть пещеру и, вновь вооружась мечом, продолжить борьбу с врагами. Заканчивается стихотворение знаменательной строкой-метафорой:
В путь отправился король.
Что особенно сближает Родрика с Александром? Допустим, Пушкин не мог иметь достоверных сведений о том, где вершит свой молитвенный подвиг Александр, в какой из монастырей он удалился, поэтому отшельническая пещера в стихотворении – условная аллегория. Но одно он знал точно, помнил по временам лицейской юности: негодующий ропот, враждебное отношение к царю после захвата Москвы Наполеоном.
Стариков и бедных женщин
На распутьях видит он;
Все толпой бегут от мавров
К укрепленным городам.
Все, рыдая, молят Бога
О спасении христиан;
Все Родрика проклинают;
И проклятья слышит он.
И с поникшею главою
Мимо их пройти спешит,
И не смеет даже молвить:
Помолитесь за него.
Элеонора Лебедева сопоставляет этот отрывок из «Родрика» с письмом сестры императора Екатерины Павловны: «Мне невозможно более удерживаться, несмотря на боль, которую я должна Вам причинить. Взятие Москвы довело до крайности раздражение умов. Недовольство дошло до высшей точки, и Вашу особу далеко не щадят. Если это уже до меня доходит, то судите об остальном. Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем Вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что Вы погубили честь страны и Вашу личную честь. И не один какой-либо класс, но все классы объединяются в обвинениях против Вас. Не входя уже в то, что говорится о том роде войны, которую мы ведем, один из главных пунктов обвинений против Вас – это нарушение Вами слова, <…> данного Москве, которая Вас ждала с крайним нетерпением, и то, что Вы ее бросили. Это имеет такой вид, что Вы ее предали».
Да, герой «Родрика» – так же, как и герой «Анджело», – списан Пушкиным с Александра, в чьем облике им уже угадан Феодор Козьмич.
Петербургской исследовательнице Л.А. Краваль, одному из авторов сборника «Ангел царя Александра», удалось расшифровать рисунок Пушкина под автографом стихотворения «Не розу пафосскую», посвященного императрице Елизавете Алексеевне, супруге императора Александра: «Профиль в. кн. Константина Павловича, причудливо соединенный с чертами другого человека… В верхней части этой головы, возле виска, нарисован портрет старца с клинообразной бородкой и нимбом над головой, а в нимбе начертано: «ал I» (а – маленькая, а единичка скользит вниз, как выпавший из рук скипетр). Это значит, до Пушкина дошел слух (или это было предвидение, пророчество), что таковым старцем стал (или станет) император Александр I» .
Добавить нечего!