Читать книгу "Бархатный диктатор (сборник)"
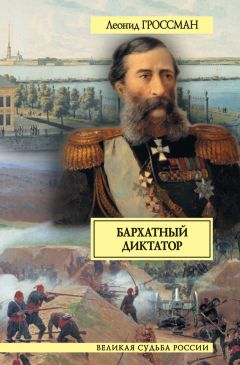
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Расширенными зрачками следит он за метаниями тела в траурной оправе виселицы. Он видит отчетливо все, что совершается там под мешком, в башлыке, туго затянутом бегущей петлей. Недаром дружил со студентами-медиками, ходил в лечебницы на разбор больных, зачитывался клиническими руководствами. Теперь он зорко следит за движениями умирающего и точно знает: вот помутилось зрение казнимого, зазвенело в ушах его, острая боль пронзила глотку. Вот слух прорезан свистом, гул наполняет череп, в глазах трепыхаются молнии, ожогом пылает гортань, свинцом наливаются ноги. Вот гаснет сознание. Судорожно сокращаются мышцы лица, по сине-багровым щекам пробегают гримасы агонии. Веревка сжимает тисками горловые хрящи, зубы впились в язык, по губам протекла сукровичная пена…
…Отбивают дробь барабаны.
И вдруг бурное, яростное дергание всего тела, кидающее повешенного в диких полуоборотах слева направо, назад, вперед, словно мечущее агонизирующего в невообразимых пируэтах какой-то дьявольской пляски смерти. «Крепкая гладкая веревка, узел на самом затылке, – вероятно, разрывы сонных артерий, вывих позвоночника»… И вот сумасшедший круговорот опутанного тела, последние конвульсивные сокращения мертвеющих мускулов – и все внезапно и резко прервано. Жизнь оборвалась под холщовым мешком. Труп наконец неподвижно повис.
– Вздернутый в одиннадцать часов восемь минут, осужденный застыл в одиннадцать двадцать, – спокойно констатировал корреспондент «Фигаро», следя за секундной стрелкой часов.
– Ровно двенадцать минут длилась агония, – заключил молодой англичанин, методически занося золотым карандашиком цифру в карманную книжку.
Сильный ветер покачивал тело.
Но теперь оно болталось, как мешок, грузно и мертвенно, без малейшей внутренней дрожи. Человека не было. Трагедия кончилась. Колебался на весу закутанный труп.
Обрывается пронзительное тремоло барабанов.
Неподвижно, томительно долго, безмолвно и каменно стынут на своих местах судебные власти, гвардия, палач, арестанты. (Согласно распорядку, в течение получаса после повешения все пребывают на своих постах и обряд казни не считается законченным.) Перед десятитысячной толпой меж длинных черных столбов бесконечно долго висит, покачиваясь на ветру, мертвое тело. Носки башмаков ужасающе прямолинейно вытянулись к земле.
И вот раздается наконец приказ прокурора:
– Снять тело с виселицы.
Белую куклу опускают в дощатый гроб. Полицейский врач с кокардой и в больших голубых очках выполняет последнюю формальность: он подтверждает властям, что человек, провисевший сорок минут с петлею на шее, по состоянию его артерий и положению зрачков, действительно умер. Немедленно же прокурор палаты твердой поступью с высоко поднятой головой сходит с площадки и садится в карету. Распорядители казни оставляют площадь. Гроб заколачивается. Одноконная ломовая телега увозит тело казненного на дальнюю окраину.
Медленно растекалась толпа по переулкам, проспектам и улицам. Стучали топоры, сносившие эшафот (к трем часам по приказу площадь должна была принять свой обычный вид). Сутулясь и пошатываясь, брел по Николаевской улице Гаршин. Что-то болезненно надорвалось в нем, мучительно и страшно исказилось. Словно резнули по живому. Все почему-то вокруг теряло смысл и значение, становилось как-то странно пустым, бесцельным и неважным. Люди, коляски, конки? Так, какое-то бессмысленное мелькание чужого, отходящего, далекого и ненужного, звучание и плеск из другого мира. И только эта острая боль, испуг и обида и страшный, огромный, безнадежный вопрос, раскрытый как рана… Слезы подкатывали к ресницам, что-то сжимало горло. Хотелось плакать и чему-то недоуменно смеяться. Ведь бессмыслица всегда смешна! Он шел, бормотал, разводил руками, восклицал и всхлипывал. Неимоверно высокой и режущей нотой стыл в ушах неотвязный визг военных флейтщиков. Брови приподымались с выражением невыносимого страдания. Губы шевелились спазматически, как у плачущего. Мальчишки по пути бежали за ним, передразнивая его жесты и заливаясь хохотом. Прохожие угрюмо оборачивались и сокрушенно покачивали головами.
Дом погибающих
Теперь грозное время. Наступают такие минуты, что только сильные духом перенесут их.
В. Гаршин. Письма к матери
Он лежал, прочно привязанный длинными рукавами смирительной рубахи к железным прутьям нумерованной койки. Припадок медленно проходил, смутные и яростные видения отступали перед более отчетливыми представлениями. Но в этом переходном состоянии действительные и верные образы еще искажались до состояния мучительного, хотя и тихого бреда. Ему казалось, что рукавами тюремного халата он крепко привязан к железным брусьям позорной колесницы. Или длинными холщовыми полосами смертного савана он прикреплен к черному столбу эшафота. Длится нескончаемая публичная казнь.
– Вам не больно? – раздался над ним участливый голос.
Он раскрыл глаза. Над ним стоял человек в больших голубых очках.
– Кто это? – с испуганным недоумением спросил больной.
– Я ваш врач. Я пришел облегчить вам ваши страдания.
– Вы хотите… вы хотите определить по состоянию артерий и положению зрачков, что я, повешенный и провисевший с петлею ровно сорок минут, действительно умер?
«Мысль приобретает отчетливость, и речи возвращается точность, – подумал врач. – Воспоминание еще по-прежнему фиксировано, но уже заметно проясняется. Сознание еще во власти поразившей идеи, но уже успокаивается, наступает переходное состояние. Приступ проходит. Если б вызвать перелом – смех или слезы – мог бы наступить светлый промежуток…»
– Напротив. Я хочу освободить вас от вашего плена и вернуть вас к жизни, – весело сказал доктор. – Развяжите рукава больному, – приказал он своим невидимым спутникам.
У кровати появились два огромных человека с чужими и замкнутыми лицами.
«Это палачи», – подумал больной. Но он был так слаб, что ничему уже не мог сопротивляться.
– Это мои помощники, – сказал доктор, следя за взглядом больного. – Это фельдшер и сторож, которому поручено заботиться о вас. Ну вот, вы и свободны! (Узкий, горячечный камзол из плотной ткани освободил пленника.) Теперь наденьте туфли и халат. Вот так. Пройдитесь по комнате… Давайте побеседуем.
Он сел спиной к окну и стад внимательно следить за своим пациентом, начавшим медленно и нерешительно расхаживать по камере от своей койки до двери. Задняя стена комнаты, совершенно гладкая и белая, без окон и дверей и без всякой мебели, заметно привлекала его тревожное внимание.
– Почему вы избегаете ходить в глубине комнаты? Ведь там вы в такой же безопасности, как и здесь у окна…
Больной мягко шагнул к врачу, согнулся, притаился и, указывая таинственно в глубь комнаты, почти шепотом стал говорить ему:
– Там, за этой стеной, живет старый граф, с которым у меня будет дуэль (и кроткое лицо больного вспыхнуло ненавистью). За нарушенное слово, за погибшую жизнь он ответит мне своею кровью. Дуэль на самых тяжких условиях, хотя бы на ятаганах – я готов! Я не боюсь смерти…
«Состояние мании еще не вполне миновало, – отмечал мысленно врач, – и все же возбуждение уже заметно спадает».
– Вы писатель, вы не созданы для убийств и кровавой мести, – твердо сказал он, – вы должны бороться мыслью и словом. В этом ваше призвание…
– Однако я проливал кровь вот этими руками, я – политический преступник. На моей совести изувеченные и уничтоженные жизни… Я был добровольным убийцей, никто не вынуждал меня идти на фронт, я сам призвал себя, я думал, что на войне можно жертвовать собою, не приобщаясь к убийству. Я стрелял вихревым огнем, обойма за обоймой, сотни патронов посылались моей волей, моей зоркостью, напряжением моих мускулов в сплошную массу людей, столь же неповинных в бойне, как и я сам. От книг, от ботаники, от химии, от художественных выставок я бросился очертя голову в ложементы, чтоб стрелять в людей… Все мы палачи, все мы забрызганы человеческой кровью, все мы связаны круговой порукой смертоубийства.
«Melancholia agitata, – думал врач, – беглость мыслей и нагнетание жалоб…»
– Вы только доблестно исполняли ваш долг гражданина, – с невозмутимым спокойствием отвечал он больному. – Во время войны, когда гибли наши братья, вы не захотели быть в безопасности, вы пошли на гибель, жертвуя собой. Теперь же вы вернетесь к вашему труду. Вы скоро совершенно оправитесь от вашего нездоровья и напишете новый замечательный рассказ. Я уверен в этом. Уже предвкушаю, как буду наслаждаться «Отечественными записками» с новой вещью Всеволода Гаршина.
Больной чуть улыбнулся виновато и беспомощно.
– Этого уже не будет. Я уже не могу ни служить, ни работать, ни писать… Я полный банкрот. Во мне все остановилось. Впереди нищета, болезнь, смерть.
– Болезни вылечиваются, работоспособность и бодрость возвращаются. (Голос врача звучал уверенной и правдивой интонацией.) Ведь вы – Всеволод Гаршин, вы слышите: Всеволод Гаршин, написавший «Четыре дня»! Вы знаменитый писатель. Россия полна вашей славой.
Речь звучала громко и властно и все же, как из другого мира, как из далекого прошлого, чуждо и безжизненно.
– Во мне сломалась пружина воли. Все напряженное, сильное, стремительное разбито во мне, распалось… я это чувствую. Остались обломки человека. Разве обломки могут творить, строить, бороться? Они могут только распадаться…
– Вы должны верить в себя, – все громче и решительнее раздавался голос врача, – вот вы уже возвращаетесь к жизни и, стало быть, к творчеству. Вы увидите – мы с корнем вырвем вашу болезнь…
И он сделал энергичный жест рукою, словно вырывал цепко ушедший в почву куст плевелов.
– Вырвать с корнем?.. Да, да, вырвать с корнем гибельные идеи… Вырвать с корнем из жизни источник зла – уничтожить человека, впитавшего в себя всю невинную кровь, все слезы, всю желчь человечества. Тогда все будет кончено, все спасено! Мир сразу освободится от всех виселиц, винтовок, окопов…
Он бессильно опустился на край своей койки и закрыл лицо бескровными и хрупкими, словно женскими, руками. Врач уже не возражал, не утешал, не успокаивал. «Пусть выплачется. Неподвижная идея разрешится слезами. Все, что накопилось и вызвало крайнее возбуждение мозга, найдет теперь выход…» И с профессиональной ласковостью психиатра он медленно гладил больного по его всклокоченным черным волосам, радуясь наступающему кризису. Периодическая мания приближалась к светлому промежутку.
* * *
Директор лечебницы для душевнобольных к каждому случаю своей практики подходил как воитель и сокрушитель страшных и гибельных сил: он вступал в борьбу с наваждением, с неподвижной идеей, с темным клубком мучительных и ложных представлений, завладевающих пораженным мозгом. Осмотрительно, осторожно, уверенно и неутомимо он сражался с этим тайным, вечно ускользающим врагом, упорно преодолевая его неуловимость и гибельные влияния на ослабевшую психику.
Вот почему, как на войне, ему нужно было иметь побольше сведений о противнике: чем обильнее и полнее знание о неприятеле, тем вернее шансы на победу. Директор клиники был неутомим в установлении истории болезни. Он любил повторять изречение одного старинного медика: «Невозможно излечить помешательство, если не знаешь, отчего оно появилось». Лейденское издание знаменитой «Nosologia methodica» с перечнем главных факторов безумия нередко служило ему для раскрытия глубоких истоков душевного заболевания: опьяняющие напитки, страмоний, опий, белладонна, перемежающаяся лихорадка, головная водянка, истощение от животных страстей, жестокие удары судьбы – все явления, занесенные в архаическую схему южнофранцузского факультета, учитывались петербургским психиатром.
Когда Гаршина доставили в его клинику, он сейчас же приступил к самой тщательной анкете о своем знаменитом пациенте. Он опросил родных и друзей больного о всех обстоятельствах, предшествовавших заболеванию.
Друзья писателя с горячей готовностью пришли на помощь врачу. Угрюмый и сосредоточенный Глеб Успенский («самому бы не худо полечиться у нас», – подумал, слушая его, психиатр) сообщил, как он встретился с Гаршиным в самый день повешения Млодецкого в небольшом собрании литераторов: охрипший, с глазами, затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, не договаривая, плакал и бегал на кухню под кран пить воду и мочить голову… «Он охрип именно от напряженной мольбы, от крика милосердия», – пояснял Успенский.
Деловитый и спокойный Эртель обстоятельно изложил доктору, что после посещения Лориса Гаршину пришлось в довершение ужаса самому, глазами своими увидеть завершительный акт политической трагедии. Он рассказал и о том, как торопливо, с каким-то трепетным чувством испуга и отчаяния, в нервическом и болезненном беспокойстве, хватая себя за голову и словно стараясь вспомнить ускользающие и важные события, заступник осужденного террориста, беспрестанно вступая в разговор с каким-то воображаемым собеседником, покинул наконец Петербург.
Внимательному и неутомимому в своих розысках врачу удалось восстановить и ход дальнейших мытарств полубезумного Гаршина. Сам больной рассказал ему с таинственным и многозначительным видом, не договаривая и отчасти изъясняясь намеками, о каких-то странных похождениях в Москве, где он будто был задержан, причем должен был тайно выбросить свои деньги из кармана, кому-то был предъявлен… Переписка с московскими властями выяснила полностью этот смутный эпизод. Оказывается, Гаршин, все еще чувствуя потребность заявить представителю власти свой протест против казни Млодецкого, решил высказаться перед известным обер-полицмейстером Козловым. Все более утрачивая ясность мысли, воли и поведения, он избрал для свидания с начальником полиции фантастически нелепый способ: в публичном доме целый вечер угощал он женщин, после чего – отказался оплатить счет. Его доставили в участок, где он потребовал личного свидания с Козловым. Допущенный в кабинет к обер-полицмейстеру, он заявил ему, как и в ночь на двадцать второе февраля в карамзинском особняке на Морской, что только примерами нравственного самоотречения можно обезоружить врага.
Все последующее удалось установить лишь урывками, клочками, моментами. Гаршин метался по городам и усадьбам, то выдавая себя за тайного правительственного агента, то мечтая об издании своих рассказов под общим заглавием «Страдания человечества». Смертельная тоска изнуряла его. В скитаниях своих он добрался до Тулы, а оттуда пешком добрел до Ясной Поляны. Розовеющие сторожевые башенки въезда в усадьбу чем-то порадовали его. Толстой принял странника. Гаршин запомнил, что они говорили долго, сидя рядом на глубоком кожаном диване в рабочем кабинете яснополянского дома. Он изложил знаменитому собеседнику свои планы об искоренении страдания и устройстве всемирного счастья. Не оспаривая и не противореча, Лев Толстой одобрил его мечту. И тогда, убежденный в правильности намеченной миссии, Гаршин покинул яснополянский дом, купил у первого встречного крестьянина лошадь и с географической картой в руках отправился по Тульской губернии проповедовать мужикам уничтожение зла.
Поездку эту сам больной вспоминал радостно и с увлечением. Он был преисполнен планов и замыслов, он безгранично верил в свое призвание, он нес людям великое освобождение, он чувствовал себя могущественным и счастливым. Крестьянская лошаденка, покоряясь его веселым окрикам, бодро несла его полянами и перелесками, ветер освежал его воспаленный лоб, запах влажной хвои пьянил и возбуждал, как вино. Он словно разорвал упругим ударом крыльев крепкий кокон, опутавший его косную хризалиду, и безудержно отдавался теперь своему первому головокружительному полету. Это было как бы новым рождением, очищающим и блаженным. Его мысль и ощущения необычайно прояснились и обострились до поражающей зоркости. Казалось, весь мир покорно вступал в его власть и отдавался его напряженной воле. Пространства не было для него, время словно согласовало с его мыслью свое течение, он стремительно несся вперед вдоль оврагов и косогоров, все быстрее и быстрее, твердо зная, что он обновит жизнь и осчастливит человечество. Мысли проносились вихрем, поражая стремительностью своего полета и радуя своим размахом и заразительностью. Целые поэмы стройно слагались и дружно теснились в его воображении, он понимал вдохновенную ярость гениальных творцов, он чувствовал себя равным величайшим из них, он знал, что для него нет невозможного. Это было полное и глубокое, ничем не омрачаемое счастье, которое даже нельзя было оплатить теперь годами мучений, затворничества и отчаяния…
За этим ослепительным озарением последующий ход событий терялся, спутывался, обрывался. И, наконец, всплывала откуда-то эта скомканная записка, набросанная растерянным, галопирующим по бумаге почерком. Гаршин из Орла сообщал своему приятелю:
«…Теперь я не вижу иного исхода для России, как в кровавой революции, центром ее я избираю Орел, генерал Дараган на нашей стороне, и сам я иду в народ подготовлять восстание…»
Так из отрывочных рассказов друзей, из случайных признаний самого больного, из официальных сообщений и случайных записей выступала во всех своих темных истоках и непонятных переломах удручающая повесть об одном безумии, неожиданно получавшая такой мрачный и прерывистый отблеск от событий протекавшей политической истории.
* * *
Иногда в полутьме раздавалось короткое и странное слово:
– Тшик.
Оно звучало угрозой убийства, лязгом гильотины, скользким шелестом ножа по сонным артериям… Тшик! – и отваливается голова. Но из книг по ботанике он знал, что этим коротеньким словом в Индии называют млечный сок, вытекающий из надрезанных головок снотворного мака. Каждый цветок дает только несколько капель тшика. Их собирают в сосуды, отстаивают, сгущают и получают опиум. Драгоценное снадобье Востока, за которое велись войны могущественнейшими империями. Эти сухие коричневые горошины дают силу рабочим возделывать безбрежные поля при самом скудном питании и неумолимо палящем солнце, они поддерживают скороходов, пробегающих тысячи верст с быстротою лошади, они погружают в сладостное забвение измученное и порабощенное население Небесной империи, отдающее ясность мысли, силу воли, крепость мускулов, – сознание и жизнь за маленькие трубки с застывшим тшиком… Безумье, самоубийства, преступления – все зарождается на сырых циновках полутемных лавок забвения, кишащих угнетенными, нищими, замученными и раздавленными жизнью.
Этот хрупкий летучий цветок во всех его видах и колерах был хорошо знаком ботанику Гаршину. Он тщательно расправлял в своих гербариях длинные стебли, покрытые зубчатыми листьями, и тонкие волоски гибкой цветоножки. Он с непонятной тревогой рассматривал огненные, крестообразно поставленные шелковистые лепестки с траурным черно-белым пятном у самого основания. Эти легкие, трепещущие кровавые лоскутки цветочной ткани, казалось, вобрали в себя все горести, преступления и боли, порождаемые дурманным млечным соком ядовитого стебля. Злодейства из-за угла, бичи надсмотрщиков, смертоубийственные обманы торгашей, неумолимая алчность великих империй, колониальные экспедиции и гибель крейсеров, разоренные провинции и горы трупов – весь этот ужас истории, казалось, отстаивался в тончайших кровеносных венах безуханного шелковистого алого венчика…
И вот выступает из пестрых растительных узоров бархатистого ворса странная восьмиугольная роза. Зловеще распустившись махровым цветом над головой диктатора, она вбирает в себя извилистыми стеблями всю обильную кровь эшафотов и казарменных плацев. Как она ярко тлеет и пышно распускается, разбухая и жирея на этой груде трупов! О, неужели же не найдется смельчака, чтоб сорвать, растоптать и уничтожить этот цветок-вампир, раскидывающий свои кровожадные лепестки, как некий геральдический знак над головами властителей и палачей?
* * *
Среди предтеч и наставников своей науки старший врач высоко ценил знаменитого Филиппа Пинеля, основателя теории о наследственном помешательстве. В основных тезисах своего врачевания петербургский невропатолог неизменно хранил завет великого француза: «Нельзя не признать наследственной мании, когда видишь целые семейства в нескольких поколениях, пораженные этой болезнью…» Этих сведений о предках писателя директор клиники ждал от его матери.
Екатерина Степановна Гаршина, переводчица, педагог и журналистка, хранила в памяти обширный запас воспоминаний, преданий и сведений о родственниках и предках своего сына по обеим линиям. Обстоятельно и последовательно, но волнуясь и прерывая поминутно свой рассказ, она сообщила врачу патологию двух родословных.
– Бабка моя – молдаванка (вероятно, от нее унаследовал Всеволод горящие черные глаза и цыганскую смуглость), считалась странной и разгульной женщиной. Дед – отважный моряк, совершивший четыре кругосветных путешествия, не признавал своими сыновей молдаванки…
Врач внимательно слушал и методически заносил отметки в свои длинные разграфленные листы.
– Но гораздо хуже обстояло дело в роду Гаршиных. Тесть мой был крутым и властным крепостником, он нещадно порол крестьян, портил их девушек, пользовался правом первой ночи, буянил, сутяжничал, свирепствовал в своих собственных и чужих владениях, обливая кипятком фруктовые деревья соседей. В страстях был неистов: жена его, умершая тридцати семи лет, рожала ему двадцать два раза; под конец помешалась. В семье считалось, что именно она внесла безумье в род Гаршиных.
Листы психиатра заполняются. История одного сладострастника и безумной приводит к обширному потомству неустойчивых и слабых организаций – ревнивцев, картежников, алкоголиков, людей вспыльчивых и страстных, неудержимых в своих разгулах и маниях. Все они кончали белой горячкой, сумасшествием, самоубийством.
– А как ваша личная семья?
– Покойный муж мой был кроток и слабоволен. Казался пришибленным и напуганным. Его даже называли Мишель Странный. Нередко мутился в уме. Тогда от нежности и ласки кидался в бурный гнев, писал проекты на имя государя, ища справедливости. Изобретал какую-то канатную железную дорогу.
– Это сказалось на его потомстве?
– Дети наши не все были здоровы. Сын Виктор, шестипалый, нервный, задумчивый, двадцати трех лет покончил с собой от несчастной любви к проститутке. Старший, Георгий – талантливый адвокат, но сильно пьет, кутит, увлекается женщинами, славится неукротимой дерзостью, иногда говорит о самоубийстве. Всеволод же, самый кроткий и безгрешный из всех, уже вторично теряет рассудок…
– Когда впервые это произошло с ним?
– Еще в старших классах гимназии. Кто бы мог ожидать этого? Не было юноши более рассудительного, трудолюбивого, начитанного. Мечтал о медицинской академии, прекрасно играл на виолончели, зачитывался знаменитыми психиатрами! Он словно предчувствовал, что ему придется обратиться к их помощи. С детства тянулся к книгам, к растениям, все собирал, отнизывал, рукодельничал. Большими удивленными глазами смотрел на мир…
И перед нею выступает черноглазый мальчик с тонкими чертами лица и лучистыми глазами, будущий поэт или артист, излучающий на всех окружающих свет и надежду. И вот он вырос, этот сказочный отрок, и стал затворником сумасшедшего дома, отверженцем в буром халате, с растерянным и злым выражением, среди помешанных и выродков с тупыми, искаженными и бессмысленными физиономиями. Этот контраст обещающей юности и чудовищной среды желтого дома был так ужасен, что от одного этого сопоставления у Екатерины Степановны перехватывало дыхание. Она чувствовала, что рыдание удушливым комком подкатывало и стыло в горле, что от своей беспомощности перед этим отчаянием, она не сможет даже здесь, при враче, овладеть своим горем и сдержать слезы… И как сын ее на больничной койке, она закрывает лицо бескровными и хрупкими руками.
Директор клиники выписывает на особых листках строгие латинские термины: dementia, debilitas, suicidium, abusus in Baccho, delirium tremens. Какое грозное наследство!
– Доктор, есть ли надежда спасти моего сына?
– Он несомненно поправляется и снова будет здоров. Текущий период затмения пройдет, не оставив заметного следа. Сын ваш будет снова работать, писать, творить. Чередование между манией и меланхолией будет заполняться длительными светлыми промежутками. Но как оберечь его мысль от кровавых впечатлений современной политики, как преодолеть и ослабить грехи, пороки, несчастья и болезни предков, подавляющие это впечатлительное сознание невыносимым грузом ушедших трагедий, – на это наша наука, к великому прискорбию ее служителей, еще не может дать утешительного ответа.
* * *
…Как тяжелы эти скитания по сумасшедшим домам! Орел, Петербург, Харьков… Методы столичных врачей, следивших за новейшими течениями медицины, еще не привились в русских провинциальных приютах умалишенных. Здесь еще господствовали жестокие принципы старинной психиатрии. Медленно изживались традиции Бедлама и Отель-Дье, Бисетра и Сальпетриер – мрачных зданий-темниц с казематами и карцерами, решетками и тюремными затворами, где больных избивали, морили голодом, держали в железных наручниках, лечили внезапным ударом ледяной воды по обнаженному черепу, применяли суровость и угрозы как средства психотерапии. В тридцатых годах сумасшедший у Гоголя жалуется на удары палкой, обливание головы холодной водой, жестокое обращение, внушающее больному мысль о мучениях великой инквизиции.
Сабурова дача, лечебница для умалишенных под Харьковом, еще жила печальными традициями прошлого. Больничная прислуга подбиралась случайно, без необходимого отбора и особой подготовки. Помещение своей мрачностью и огромностью нисколько не отвечало угнетенной психике больных.
«Положение Всеволода становится с каждым днем хуже, – писала Салтыкову-Щедрину, моля о помощи, мать Гаршина. – Лечебница, где он помещен, скорее может быть названа местом предупреждения и пресечения. По совершенно бессмысленной жестокости, Всеволоду не дают ни бумаги, ни карандаша, ни газеты. Меня к нему не пускают, хотя я переехала на дачу рядом с ним, и только раз случайно мне удалось увидеть его в окно. О, Михаил Евграфович, если бы вы слышали его крик: «Мама!» – когда он увидел меня. Как он схватил через решетку мою руку своими исхудалыми руками, как горько зарыдал. И через минуту два сторожа оттащили его от окна…»
Как-то на Сабуровой даче Гаршин стоял, ожидая ванны, в мрачном углу больницы, освещенном одним окном с железной решеткой куда-то в стену. Огромная пасмурная комната со сводами, с липким каменным полом, окрашенная темно-красною масляной краской. Вода с монотонным плеском струилась в каменную яму среди пола. Под это длительное звучание больной стал вспоминать детство среди родных, ранние свои купанья, ласку матушки. Неясно и отрывисто блуждало в памяти:
…И слушает, как падает струя
Из медных кранов в звучные бассейны
Широких ванн…
Вдруг сильный удар в грудь сбивает его с ног, и он падает на пол без памяти.
– За что ты меня ударил? Что я тебе сделал?
Гигант-служитель указывает на приготовленную ванну.
Не воспоминания ли о Семеновском плаце возникли в сознании больного Гаршина, как только попал он в обстановку лечебницы? Ванна с мрачными сводами, котел с целой системой медных трубок и кранов, огромный угрюмый сторож, мушка на затылке… «Что это? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним?..» И когда солдат грубым полотенцем, сильно нажимая, быстро сорвал мушку с затылка вместе с верхним слоем кожи, больному почудилось, что ему отрубили голову…
Медленно он приходил в себя. Возбужденность испуга и ужаса сменилась усталостью и безразличием. Гаршин, беспомощный и бессильный, бродил часами по саду или лежал, словно под тяжким свинцовым грузом, на своей больничной койке. Это было странное состояние. Казалось, под действием снотворного снадобья проносились с необыкновенной отчетливостью лица и встречи отдаленного прошлого. Словно опиум воскрешал перед ним отошедших людей и отзвучавшие слова. Ничто не было забыто. Память, напротив, прояснялась до последней степени в этом больничном одиночестве, сосредоточивалась на ушедших событиях и вычерчивала с поразительной отчетливостью все томившее в прежние годы его мысль.
Но надо всем господствовало одно страшное ощущение: он навсегда потерял себя. Тот, другой, отошедший – Всеволод Гаршин был силен, юн и прекрасен. Он писал короткие и потрясающие рассказы. И вот его нет. Есть больной № 37 в буром халате и туфлях, а иногда и в горячечном камзоле. Больной, у которого нет будущего, у которого отняли навсегда время, который может только вспоминать и отчаиваться.
Неужели же это он – «любимый писатель молодежи», наследник Тургенева, кумир и надежда всей читающей России? Возможно, что это и было, но так давно, словно в какие-то доисторические времена, навсегда отодвинутые от него страшной катастрофой. Память еще хранила бледные очерки этой глубокой древности, смутной и легендарной, как младенчество. Теперь черная пелена окутывала его. Ощутимо и реально было только режущее чувство стыда и страдания, пустоты и безнадежности, подавленности и тупого отчаяния. Там, где-то идет борьба, плещет жизнь, действуют и сражаются смелые люди с решительными жестами. А вокруг него – искаженные, уродливые, измученные и бессмысленные лица. Вопли и хохот, лай и молитва, выспренняя декламация и тихий плач. И буйные драки с грохотом табуреток, стуком мисок, звоном стекол, когда испуганные санитары отступают перед расходившейся оравой восставшей палаты. О, это море голов, несхожих и страшных! Стекленеющие глаза, коварные усмешки, перекошенные губы, тупые полумертвые взгляды. И он, знаменитый писатель, отброшен сюда, в этот самый унылый и ужасающий мир человеческой отверженности и подавленности…
– О вы, мучимые раньше меня, вас молю, избавьте… – шепчет он обескровленными губами, опуская на смятую подушку своей нумерованной койки измученную и воспаленную голову.
* * *
И вот вкрадчиво и медлительно доносится из дальнего угла камеры ласкающий и шелестящий голос:
– Пибоди и Мартини… Пибоди и Мартини… № 18635… Пибоди и Мартини… Четырехлинейный калибр…
Странные слова долго звучат, баюкая и привлекая своей необычной звучностью… Что это? Пибоди и Мартини… Итальянцы, певцы, акробаты? Ах, да! Система ружья, его собственная тяжелая и тонкая винтовка. Спутница по Бессарабии и Турции…
Да, винтовка Пибоди и Мартини № 18635 и над нею скелет в мундире. Война… Было время иллюзий, увлечений, веры в воинские подвиги. Детские впечатления. Отец служит в кирасирах. Запомнились в солнечной дымке раннего сознания огромные рыжие кони, гиганты в латах и бело-голубых колетах, покрытые касками с конскими хвостами. Разговоры и героические анекдоты о Севастопольской обороне. Сборы мальчика в поход. Причитания няньки над восьмилетним новобранцем.









































