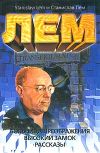Текст книги "Вторжение"

Автор книги: Леонид Кудрявцев
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Леонид Кудрявцев
Вторжение
Розовые колонны дворца право– и прямо– и левосудия медленно тонули во тьме. Наконец с тихим плеском они исчезли окончательно, и наступила тишина. Сначала на ногу Ипату, а потом на хвост сиамской, с отрезанными ушами и блудливой мордочкой кошки. Ее вой прорезал темноту и затерялся в кривых переулках в ожидании того, кто пожелает его найти. Между тем половинки темноты рухнули и пришел день. Он был очень вежливый, этот день, даже не забыл вытереть о горизонт ноги.
И все начиналось хорошо, но кончилось плохо. Потому что небо затянуло тучами и на землю посыпались веники. На лету они сдирали побелку со стен домов, а с деревьев сшибали листья, и по тротуарам текли неопрятные ручьи, которые собирались в неопрятные потоки, низвергавшиеся в неопрятную реку.
А еще у Ипата болел зуб. Да так, что хоть на стенку лезь. Он подумал-подумал, плюнул да и действительно полез. Но легче от этого не стало. Даже тогда, когда он лег на потолок и чтобы отвлечься стал вспоминать… вспоминать…
Например, что жена укатила куда-то на Эльфа-Ариадну и пообещала вернуться через пару тысяч лет. Очень мило с ее стороны. Прекрасный способ увильнуть от супружеских обязанностей, которые обычно состояли в том, что она жарила тривиальную яичницу, и не менее получаса в день зудела, чтобы он не курил в комнате, а выходил для этого на лестничную площадку.
И завтрашний компот получился из рук вон плохо. Главное – у кого? У всеми признанного мастера завтрашних компотов. Черт знает что такое!
Он хорошо помнил, что сделал все правильно. С филигранной точностью представил, как будет его варить завтра. Потом тщательно вымыл кастрюлю и осторожно-осторожно, с присущим ему мастерством и умением, проколов сущность, с меткостью снайпера просунул шланг в завтрашний день. Теперь оставалось только перелить компот из «завтрашней» кастрюли в «сегодняшнюю». И все! Дело сделано. Причем правильно, грамотно и хорошо. Вот только почему же компот получился невкусный?
Ипат даже попробовал ради развлечения поразмыслить над парадоксом, который возникает при изготовлении завтрашнего компота. Действительно, откуда все-таки берется компот, если завтра он его варить не будет?
Но тут зуб задал ему такого жару, что Ипат скатился с потолка и, бросившись к аптечке, стал искать в ней анальгин. И конечно же, перепутав, принял вместо него стрихнин. А обнаружив это, меланхолично подумал, что умирать когда-нибудь все же придется…
Лежать на полу и умирать от стрихнина было жутко неприятно, но Ипата поддерживала мысль, что теперь проклятый зуб болеть уже не будет. И точно, как только он умер окончательно, зуб болеть перестал. Совсем.
После этого Ипат некоторое время лежал на ковре и радовался, что все прошло удачно: и умер, как человек, и зуб больше не болит. Однако вскоре ему это надоело, и тогда он стал прикидывать, когда же его все-таки найдут. Ему представились собственные похороны, от которых уже заранее хотелось зевать, и он решил обойтись без них вовсе.
Для этого он сказал «чур не игрок», встал и, тщательно заперев входную дверь, позвонил своему лучшему другу Бангузуну.
– Привет, – сказал Бангузун на другом конце провода.
– Привет, – с трудом двигая непослушной нижней челюстью, ответил Ипат.
– Представляешь, я диплодока купил, – радостно сообщил Бангузун.
– Поздравляю, – сказал Ипат.
– Да, но в магазине меня надули. Диплодок оказался с купированными ушками и хвостом.
– Какая жалость, – посочувствовал Ипат.
– Да, но я все же решил, что оставлю его себе. Он такой милашка…
Они помолчали, потом Бангузун спросил:
– А как ты поживаешь?
– Да так себе, – сказал Ипат. – Где-то между плохо и очень плохо. И вообще, передай всем нашим, что я улетаю, минимум на год, на побережье черной дыры. Отдохнуть хочу. Так передашь?
– Передам, – рассеянно сказал Бангузун и отключился.
Все, дело сделано.
Ипат снова лег на ковер, но только на этот раз так, чтобы видеть себя в огромном настенном зеркале. Потом вздохнул последний раз и стал наблюдать за появлением трупных пятен на собственном лице. Это было забавно. Например, одно из пятен очертаниями сильно напоминало австралийский континент.
А вообще-то это было здорово. Лежать и ничего не делать. И он лежал… лежал… лежал…
И за год постепенно освободился от плоти, покрывавшей его костяк. Увидев это, он облегченно вздохнул.
Все получилось как нельзя лучше. И даже червей, съевших его мясо, склевывали птицы, прилетавшие в окно, которое он мудро забыл закрыть. Так что о чистоте можно было не беспокоиться.
Он встал, побрякал суставами и, довольно ухмыляясь, пошел в ванную. Помылся. Правда, вытираясь полотенцем, он порвал его об одно из ребер, но что поделаешь, такие неприятности теперь будут подстерегать его на каждом шагу.
А день-то какой чудесный!
Он сварил себе кофе и выпил его целую чашку. Правда, все что попадало в рот, тотчас же выливалось на стол, но от этого кофе не становился хуже. Напротив!
Напившись, Ипат тщательно вымыл чашку и позвонил Бангузуну.
– У, вернулся, – радостно сказал Бангузун.
– Вернулся, – не менее радостно сообщил Ипат.
– Ну и как?
– Отлично, все отлично… Что ты сейчас собираешься делать!
– Сейчас… – Бангузун на секунду задумался, потом сказал: – Сейчас я иду гулять вместе с диплодоком.
– Ну вот и хорошо. Значит, я тебя жду, заходи-вместе погуляем.
– Заметано, – сказал Бангузун.
Ипат положил трубку и огляделся по сторонам. Так!
Как вихрь пронесся он по дому, надевая на себя белье, штаны, рубашку с надписью от правого плеча к левому «серебристый хек в томатном соусе», старый плащ с пятью рукавами и почти новую стетсоновскую шляпу. Потом он распихал по карманам бутерброды и пиленый сахар, браунинги и чековые книжки, двадцать четыре тома Большой советской энциклопедии и восемь ниток бисера. А также многое другое. Один Аллах знает, что может понадобиться на прогулке. По крайней мере, нужно быть готовым ко всему.
На улицу он выскочил несколько рановато и поэтому, до того как пришел Бангузун, успел помочь одной старушке перейти через дорогу. У бедняжки болела третья нога.
А потом появился Бангузун, за которым топал диплодок, и оба они Ипату очень обрадовались. Да так, что от избытка чувств Бангузун толкнул Ипата и тот, совершенно случайно, повалил газетный киоск. И пока киоскер бегал и ловил листы «местной сплетницы», с которыми баловался еще не совсем проснувшийся утренний ветерок, Ипат выбрался из-под обломков киоска и, радостно хохоча, толкнул Бангузуна так, что тот сбил с ног диплодока. Тут уж захохотал диплодок, и они, все втроем, устроили прямо на улице небольшую «кучу-малу», во время которой Бангузун оторвал на одежде Ипата все пуговицы и сыграл на его ребрах «лунную сонату», а диплодок сорвал с одной из голов Бангузуна шапку и тотчас же ее слопал, а Ипат измазал диплодока чернилами с ног до головы, так что тот стал похож на ягуара.
Так могло продолжаться долго, но прохожие стали возмущаться, и пришлось «кучу малу» прекратить. Тогда Бангузун стал знакомить Ипата с диплодоком, теперь уже всерьез. И диплодок кланялся и даже сказал, что он
– «покорный слуга» Ипата на все оставшееся время. А потом наступил ему на ногу. Совершенно случайно.
От неожиданности Ипат закричал и увидел, что Бангузун, превратившись в оборотня, оскалил полуметровые клыки, и почувствовал запах. Горьковатый запах Лемурии.
И проснулся…
Он долго лежал на своей узкой холостяцкой кровати и пытался понять, что же это ему приснилось. Не было у него раньше таких снов. А что было? Детство, кусок юности и Лемурия, которую он помнил, в отличие от детства и юности, очень реально, потому что вернулся из нее всего лишь две недели назад. Вот она-то действительно все еще была с ним, жила в каждом его движении, глядела его глазами, говорила его губами, и довольно часто этот благополучный мир, в котором он теперь жил, особенно тогда, когда он доставал из старого шкафа свою военную форму и любовался погонами, петлицами и наградами, казался нереальным и ненастоящим, словно сделанным из папье-маше… Ткни пальцем, и под плотной оболочкой окажется пустота.
Тогда Ипат часами сидел возле шкафа, прислонившись к его полированной стенке, почти не двигаясь, разглядывая что-то широко открытыми, неподвижными глазами, пока звяканье проезжавшего по улице трамвая или запевший за стенкой арию Иоланты сосед не приводили его в чувство и он, вздрогнув, медленно освобождался от дурмана воспоминаний.
Как правило, после этого он вешал форму обратно в шкаф, на сделанную в виде скелетика летучей мыши вешалку и шел прогуляться или же садился пить чай с рогаликами.
А вечерами он лежал на диване, курил папиросу за папиросой и думал о том, что вот, проходит время и надо бы устраиваться на работу, а также забыть о том, что было. Потому что теперь у него другая, мирная жизнь. И можно даже познакомиться с какой-нибудь девушкой. Если, конечно, она захочет иметь с ним дело. А захочет ли?
Когда он задавал себе этот вопрос, ему вдруг становилось плохо, хотелось плакать, пить вино, чтобы забыться, и стрелять в холодную, мертвенно-бледную луну из крупнокалиберного пулемета, чтобы хоть кому-то отомстить. За то, в чем были виноваты все. Все, кто – вокруг, кто спешил по утрам на работу, рассеянно поглядывая на часы, думая о девушках и танцах, которые будут вечером. А также те, кто возил своих детей в колясочках по набережным и бульварам, рассеянно присаживаясь на скамейки, небрежно покачивая маленькое, завернутое в пеленки, сопящее во сне чудо, которого у него не было. А почему? Почему?
Уж не потому ли все знакомые при встрече с ним прятали глаза, говорили дутые жизнерадостные слова и норовили поскорее от него отделаться? Может быть, они чувствовали себя виноватыми? В чем?
А в том, что он был в Лемурии, а они нет. И потому для них он стал живым напоминанием. А кому понравится напоминание о такой вещи, как Лемурия?
Именно поэтому он и не мог познакомиться ни с одной девушкой. А может, просто забыл, как это делается. С ней же надо о чем-то говорить. А о чем? О рейдах, противопехотных минах, убитых товарищах и двух годах юности, которые вырвали из его жизни напрочь, а оставшееся место заполнили кровью, грязью и пороховым дымом?
И можно было только надеяться, что со временем все наладится. А пока он ждал. Если бы его спросили чего, он бы не смог ответить. Просто была в нем эта уверенность, что вот-вот что-то изменится, перевернется…
Так было до сегодняшнего утра, когда он, очнувшись от странного, чужого сна, долго глядел в девственно чистый потолок, а потом повернулся на правый бок и вспомнил о бабке Меланье.
Да, когда-то давно, тысячу лет назад, еще до Лемурии, он ездил к ней каждое лето и подолгу гостил. Разглаживая ладонью скомканные за ночь простыни, он вдруг вспомнил ее старую хижину, на пороге которой она так любила сидеть, задумчиво глядя на волны, подкатывающие почти к самому порогу, на суматошных чаек и еще на что-то, что должно было принести рыбакам богатую добычу. Это у нее работа была такая, у бабки Меланьи – глядеть на море, чтобы рыба ловилась лучше.
А еще у нее были теплые, шершавые руки, и когда она усаживалась на пороге хижины, Ипат мог уходить куда угодно на целый день.
Что он и делал.
Поначалу он бродил по берегу моря, любуясь волнами и собирая все интересное, что оно выбрасывало на песок. Но потом пристрастился к «походам в глубь побережья». Происходило это так: он уходил как можно дальше в дюны и садился на песок, в ожидании дождя. Иногда ему приходилось ждать час, два, полдня, но рано или поздно дождь все же начинался и тогда происходили удивительные вещи.
Под ударами тяжелых мутноватых дождевых капель ветки съеденных зноем акманов оживали, покрываясь молодыми клейкими листочками. Из земли мгновенно вырастали шары фумов. В подземных пещерах просыпались грогусы. Они выскакивали наружу и, приветствуя дождь мощным ультразвуковым криком, скакали по камням, безжалостно сдирая с них голубой мох. И пили, пили, пили воду, раздуваясь, и достигнув предела – разлетались разноцветными брызгами, которые тоже начинали поглощать воду и расти, расти… А боруны уже выкапывались из песка и, разлепив огромные желтые глаза, осторожно переступая десятью мохнатыми и костистыми лапами, набрасывались на грогусов и жадно их поедали. Тотчас с них сползала старая шкура и, свернувшись тугим комочком, убегала на поиски зеленого песка для самообновления.
Дождь, собственно, был коротким, на полчаса, не больше. И когда он кончался, в небо взмывали бледно-розовые нежнейшие бариморы. И спинокостные размеры, почистив панцири внутренними щетками и выкинув наружу лишний песок, пускались в путь, легко отталкиваясь от гибких ложноножек охотников за летунами. Шаловливый ветер тем временем забрасывал Ипата семенами размеров и хомоков, а также спорами драко. И поднимал на недосягаемую высоту икру мудрахов, делительницы джоэдов и похожие на точеные китайские пагоды колыбельки фамсов. Разглядывая все это, можно было сидеть целый день, но когда наступала темнота, вся эта праздничная жизнь умирала. Тогда Ипат возвращался в избушку бабушки Меланьи и, устроившись у окна на твердом топчане, долго не мог заснуть, слушая глухие, мерные удары моря…
Вспомнив все это, он встал с кровати и тщательно побрился. Так, теперь остается только одеться и собраться в дорогу.
Застегнув последнюю пуговицу, он сунул в карман нераспечатанную пачку сигарет, зажигалку в форме льва и толстый кожаный бумажник. Карман заметно оттопырился, стал похож на хорошо набитый живот. Может быть, даже слишком…
Наверное, поэтому, когда Ипат вышел на улицу, с твердым намерением отправиться в аэропорт и сегодня же улететь к бабке Меланье, карман стало пучить. Шагов через десять у кармана разыгрались колики. Так как без сигарет обойтись было невозможно, Ипат вытащил бумажник и швырнул его в ближайшую канаву.
Тотчас же тень какого-то проходящего мимо гражданина соскочила с тротуара и метнулась туда, куда он упал. Но ее хозяин был очень воспитанный. Он решительно взял тень за руку, и как она ни упиралась, как ни протестовала, потащил ее в сторону. На перекрестке тень все же зацепилась правой рукой за телеграфный столб, и пока гражданин пытался ее от него отодрать, сумела вывести на ближайшей стене большим пальцем правой ноги «свободу угнетенным…» Но тут гражданин изловчился и, скрутив ее приемом «двойной нельсон», благополучно утащил за угол. Оттуда через несколько секунд выскочила трехногая бабушка с диким криком: «Убили! Убили!»
Кто кого из них там убил, Ипата не интересовало. Никак не прореагировав на вопли бабуси, он пошел по улице дальше, рассеянно поглядывая по сторонам, чуть прикрыв глаза и побаиваясь в глубине души лишь того, как бы улица не возмутилась и не пошла в аэропорт по нему. Это было бы не очень хорошо. Можно сказать даже, что не совсем удобно. Кроме того, несомненно, в аэропорт он сегодня бы опоздал. А какой интерес приходить в аэропорт не с утра! Так и мест хороших не получишь, и потолкаться как следует не успеешь, да и последних новостей не услышишь. Однако обошлось. Улица с утра, очевидно, была в хорошем настроении, поэтому асфальт очень мягко, благожелательно ложился Ипату под ноги. И даже не пробовал столкнуть его в ближайшую канаву.
На небе светило треугольное солнце. И время от времени лопоухий медвежонок-панда вылезал из своей норы и тщательно протирал солнечный треугольник мягкой замшевой тряпочкой, смахивая космическую пыль и мелкие метеориты. Крупные он просто бросал вниз, на радость местным мальчишкам. Еще бы, ведь у старьевщика на метеориты можно было выменять заржавленный мушкет или проволочную саблю, а то и целую пригоршню орденов государства Бульдонезии.
А на земле все шло своим чередом.
Возле киоска «Союзпечати» суетились продавцы счастья, раскладывая свой товар на дощатые прилавки, поправляя полосатые тенты, прикрывавшие его от солнца, и рассеянно обсуждали между собой вчерашний футбольный матч. На устилавших прилавки вчерашних газетах вырастали кучки любовного счастья, счастья творчества и счастья игроков. А также огромные кучи счастья дураков.
Заспанные дворники гладили асфальт березовыми вениками. Очевидно, асфальту это нравилось, потому что иногда он чуть заметно вздрагивал и приглушенно хихикал. А по дороге шли дома, которых хозяева отпускали на ночь за город – попастись. Резво скакали деревянные бараки. Весело попыхивая трубами, валили трехэтажные общаги. И совсем уж солидно, вперевалку, топали блочные пятиэтажки, тяжело помахивая подвалами, забитыми по самые двери ароматным луговым сеном.
Ипат даже остановился, став одним из этих домов, почувствовав, как приятно возвращаться обратно в город после ночи, проведенной на широком лугу, где ты почти один и только иногда в ночном тумане мелькнет бок какой-нибудь глупенькой одноэтажки, которой не сидится на месте, а хочется побегать и полаять на луну. Просто так. То, что луна может ответить ей тем же, такое несерьезное строение сообразить уже не может. А жаль…
Наконец, последний дом свернул за угол. Ипата отпустило. Он снова был человеком. (Рост: метр восемьдесят шесть. Лицо открытое, спокойное. На подбородке небольшой шрам. Без определенных занятий.) Он даже улыбнулся молоденькой продавщице «пепси-коки), которая в ответ ему тоже улыбнулась.
И, наверное, поэтому Ипату совсем расхотелось улетать.
Собственно говоря, почему бы не остаться? Можно даже познакомиться с этой девушкой. Вечером сходить с ней на танцы. А там глядишь и… Но нет.
Одно дело просто улыбаться, другое – знакомиться. И скорее всего она его отошьет. А потом, часа через два, город скроется в оболочке сажи и копоти. Станет другим. Тем временем утро будет упущено, и он уже не улетит. А завтра еще черт его знает, что случится. Может, инопланетяне нападут! Да и пройти-то, собственно, осталось совсем немного. Рукой подать. Вот только завернуть за угол. Так, а теперь нырнуть в этот проходной двор. Слегка переждать, чтобы не попасть под копыта индрикотериев. Прошли. Ну вот, можно и дальше. Поворот. А сейчас прямо… Вот он, аэропорт.
Все же он немного опоздал. Десятка два энтузиастов уже отирались у касс, радостно похихикивая, и для разминки требовали у кассирши билет до Альфа-Альдебарана или до загадочной планеты Силэб. Кассирша вяло от них отмахивалась, хорошо понимая, что это так – семечки, и сладко позевывала в ожидании утреннего чая.
Ипат протиснулся к кассе и попросил, чтобы ему дали самый большой билет до бабушки Маланьи. С раздражением отложив в сторону помаду, которой подкрашивала нос, кассирша извлекла из стола пачку бланков, ножницы, пистолет марки «кольт», баллончик слезоточивого газа и, с ожесточением взявшись за работу, ровно через минуту и тридцать семь секунд вручила Ипату билет.
Где-то невдалеке натужно ревел совершающий посадку самолет. Ипат отошел от кассы и увидел, что пока он получал билет, людей в зале ожидания набилось столько, что яблоку негде упасть. Сквозь толпу продирались озабоченные мороженщицы. Возле ног Ипата уселся какой-то грязный, в телогрейке и кирзовых сапогах тип и, вытащив из уха гитару, ударил по струнам. По-блатному растягивая слова, да так, что некоторые с треском лопались, он запел старинную дворовую песню. Тотчас же толпа вокруг него уплотнилась. Ипата стиснули, и он понял, что попал в ловушку. А гитарист заливался соловьем, вкусно выводя: «А я тебя и-эх, да поцелую, а потом и – эх, да зарублю!»
И ничего другого не оставалось, как пройти по головам. Иначе так у кассы и прокукарекаешь до самого вечера.
Ипат ухватился руками за плечи своих соседей, подтянулся и забросил сначала одну ногу, потом другую. Выпрямившись, он вытянул для равновесия руки в стороны и пошел, пошел, пошел туда, где народу поменьше. Он шел по головам и внимательно смотрел под ноги: не дай бог попадется лысый. Тогда все – неминуемо поскользнешься. Но мог миловал, и через минуту он уже спрыгнул на пол в противоположном конце зала и зачем-то вытер руки.
Эх-ма! Ну вот и все. С билетом покончено. До самолета еще уйма времени. Можно и поразвлечься.
Он прошелся по залу и, остановившись возле девушки, которая бойко распродавала свежие номера «местной сплетницы», подмигнул ей. Та не осталась в долгу и ответила тем же. И некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, а потом Ипату подмигнул очередной номер «местной сплетницы», и пришлось идти дальше.
Возле центрального фонтана он остановился и, усевшись на его мраморный край, закурил. Рядом, тоже присев на краешек, судачили две бабуси. Сначала они говорили о погоде и засолке грибов, потом придвинулись друг к другу ближе, и одна из них громким шепотом сообщила:
– А вчера-то что было! На молокановской улице оборотня милицайты подстрелили…
– Да что ты! – выдохнула вторая бабуся.
– Истинный крест! Вот как бог свят… Иду я, значит, за молочком очередь занимать. Внучек, понимаешь, молочка требует. Уросливый пацаненок, надо сказать, но я к нему уже приспособилась. Главное, что молоко любит. А это для здоровья первейшее дело. Так вот, иду я, значит, за молоком. Петровну встретила. Покалякали о том о сем. Ну, пошли каждая в свою сторону. И только я за угол свернула… Вдруг: бах, тарарах – шум, выстрелы. И потом два милицайта волокут его, сердешного, за ноги по асфальту. Как есть оборотень. Все человеческое, а голова волчья. Ужас! Я так и обомлела. Стою ни жива ни мертва. Где-то, знаешь, только в селезенке у меня екает. Ну, думаю, дожилась. А один из милицайтов обернулся и говорит мне этак, знаешь ли, с усмешечкой: «Ты, бабуся, не волнуйся. Это один из Лемурии пробрался. Пользуются, гады, что война, вот и лезут». И потащили они его. Страх-то какой, господи! А я постояла да и дальше за молочком пошла…
Ипат усмехнулся.
Ведь как пить дать врет, старая. Делать ей нечего, вот и врет.
Он выкинул окурок в фонтан и, резко вскочив, быстро пошел к выходу из вокзала. За спиной хлопнула дверь, и Ипат, окунувшись в жару привокзальной площади, остановился.
Мимо шли и бежали люди. Вот торопится маленький старичок, помахивая длинной белоснежной бородой. За спиной у него огромный рюкзак, из которого высовывается головка огнетушителя. За дедом шествовала элегантная парочка. Провожавшие их родители плакали навзрыд и совали молодым в карманы пачки потертых денег. Какой-то жулик ловил всех за руки и предлагал прокатиться по городу. Совсем дешево, но зато какие красоты, а еще есть женщины… И еще… И еще… Кто-то кричал, а кто-то истерически смеялся. И все это людское море двигалось, шумело, торговалось, схлестывалось и рассыпалось в стороны, а потом снова собиралось в шевелящиеся комки.
Махнув рукой, Ипат вернулся в здание вокзала и протиснулся к телевизору. Передавали последние новости.
Сначала показывали обычный винегрет. Кто-то кого-то лупил резиновой дубинкой по голове, а над всем этим танцевали полуобнаженные красавицы, тут же прораставшие пшеницей и клонившиеся к земле тугими колосьями, по которым барабанил грибной дождичек, падавший обильным потом с плеч двух дюжих негров, безостановочно танцующих самбу на могильных плитах, украшенных витиеватой надписью «колониальное рабство», из-под которых во все стороны расползались жуки-рогачи, мгновенно взмывавшие в воздух и с утробным воем устремлявшиеся к Антарктиде, неся под своими надкрыльями атомные бомбы, готовые в любую минуту распуститься жгучими тюльпанами, чтобы устроить на всей земле на веки вечные всеобщую тишину.
Потом мелькнули голубые полосы, и вдруг показали Верховного Предводителя, бессменного борца за демократию, человека, укравшего Созвездие Павлина. Он давал напутственное слово новобранцам, тем, что должны были отправиться служить в Лемурию. Два мужика с квадратными лицами стояли возле него и бережно держали на шелковых подушечках напутственное слово. Оно было большое, затейливое и сверкало самоварным золотом. Из карманов Верховного Предводителя, как черти из коробочки, выскакивали фотографы и снимали его в фас и в профиль, сверху и снизу, на трибуне и возле… Снимали то, как он, вытянув руку вперед, увешанный наградами, как рождественская елка, чуть хлябая нижней челюстью, особенно когда употреблял длинные слова, пережевывал заученную жвачку, которую говорил и год, и два, и три, и пять лет назад. О демократии и международном долге. О том, что мы не должны оставить в беде маленькую страну Лемурию, где никак не может установиться демократия и где она должна быть, так как без нее не могут восторжествовать великие идеалы. А они неминуемо должны победить. И это невозможно, пока в Лемурии не существует даже правительства, а так, вече какое-то. Поэтому там некому командовать и некому исполнять, а также рапортовать и отчитываться. И что это такое, как не попрание демократии, когда простой лемурский народ лишают самых элементарных прав управлять и подчиняться. И они, те, кто туда идут, являются истинными носителями прогресса и гуманности. Они смело протягивают руку помощи маленькой, заблудившейся в прошлых веках, стране…
А внизу сдавленно дышала толпа новобранцев. Ипат же, забыв обо всем, внимательно в нее вглядывался и искал в ней себя, такого, каким он был два года назад. Наголо остриженного пацаненка, которого выловили на улице, остригли и снабдили новеньким автоматом. Да, тогда-то он верил в эти слова и благоговел. А потом, действительно, пошел защищать демократию. Еще бы не пойти, когда в руках автомат. Всамделишный. Из него даже можно стрелять. И патронов сколько угодно. С серебряными пулями…
А сейчас, два года спустя, Ипат глядел на этих будущих «защитников» и думал о том, что же с ними будет дальше. А что там думать? Дальше – просто. Загрузят в машины и повезут.
Ипат закрыл глаза и, опершись о стену вокзала, оказался снова в Лемурии…
Они ехали по самой обыкновенной дороге. Но чем ближе к кордону, тем она становилась чуднее. А после кордона – одни лишь сгоревшие становища и бескрайняя пустыня. Голубой песок. Тишина, покой и безмолвие. А еще длинная колонна машин. И в каждой из них солдаты, солдаты… И каждый думает сейчас о своем. И вспоминает… Может быть, старый дом, знакомый с детства двор и маму. Безусловно, какую-нибудь девчонку с расцарапанными коленками, которая будет писать ему поначалу каждый день, но уже через полгода забудет напрочь…
А потом на горизонте мелькнет гигантская мохнатая тень, да из кустов вылетит отравленная стрела и вопьется в горло твоему товарищу. Считай – повезло. И не только потому, что остался цел. Просто теперь ты знаешь, что едешь не к теще на блины, а действительно воевать. И это понимание даст тебе пусть мизерный, но все же добавочный шанс выжить. И вернуться…
А впереди, там, куда уходила колонна, бушевал закат. Иначе и не скажешь. Лучи заходящего солнца странным образом искажались в воздухе Лемурии и теперь походили на тысячи кровавых рук, которые тянулись к цепочке двигавшихся им навстречу машин. Это было странно и боязно. А еще существовала дорога. И на закате она начинала что-то нашептывать, и поначалу едва слышно, но чем темнее становилось, тем громче. Когда же наступала ночь, шепот переходил в явственное бормотанье. И так до самого рассвета, пока не вставало мрачное, всклоченное солнце. И тогда становилось видно, как туго приходится передним машинам. Об этом говорили то и дело мелькавшие на обочине дороги еще дымящиеся, полусожженные трупы. И чем дальше в глубь Лемурии, тем этих трупов становилось больше…
Временами казалось, что это будет продолжаться вечно, что они миллионы лет будут вот так ехать, ехать… ехать… миллионы лет… ехать…
И каждые два часа у какого-нибудь новобранца сдавали нервы. Тогда он начинал палить по дороге или же заливался идиотским смехом, колотя чем попало по головам своих товарищей. Колонна останавливалась, новобранца успокаивали и снова трогались в путь… путь… путь… И угрюмое молчание. Потому что говорить не о чем. И только иногда кто-нибудь сплевывал на дорогу и вздыхал:
– Эх, самолетом бы…
Но все уже столько раз это слышали, что даже не поднимали глаз на говорившего, и только если он повторял это как заведенный снова и снова, кто-нибудь лениво говорил:
– Заткнись…
И опять ехать… ехать… ехать…
И думать о том, что действительно самолетом все было бы проще. Но нельзя. Так уж устроено небо Лемурии, что ни один самолет не может в нем летать. Камнем падает вниз на границе. Говорят, будто в старину какой-то великий маг наложил на Лемурию проклятье. Это, безусловно, чепуха, бабушкины сказки. Но самолеты, между тем, не летают. Падают. И поэтому путешествовать по Лемурии можно только пешком или на автомобиле…
Ипат отвернулся от телевизора и, присев на край кадки, в которой стояла худосочная пальма, подумал, что из-за невозможности летать над Лемурией она так долго и была страной, о которой в прессе упоминают раз в год, да и то как о каком-то курьезе. Дескать, есть вот даже и такая. Ну и черт с ней.
А потом что-то изменилось в окружающем мире. Почему это случилось, так никто и не понял, но достоверно известно, что в один прекрасный день Верховный Предводитель, бессменный борец за демократию, человек, укравший Созвездие Павлина, имел пятичасовую беседу с министром внешней политики. А на следующее утро весь мир узнал, что в Лемурии, оказывается, большие беспорядки. И все газеты стали об этом писать. Подробно и красочно. А потом Великий Предводитель повелел ввести в нее войска. В целях защиты демократии. И наступил покой. Правда, по ночам стали приходить цинковые гробы да на улицах появились молоденькие увечные парни, у которых на груди поблескивали совсем новенькие ордена. И тогда по всей стране пошли гулять слухи. Они множились, мгновенно обрастая невероятными подробностями, и в скором времени никто уже не мог понять, где правда, а где вранье. А тем временем с экранов телевизоров упитанные дяди и тети-красавицы продолжали твердить, что все нормально, обстановка стабилизируется и вообще вся Лемурия с восторгом встречает войска, которые пришли ее освободить… и, может, даже спички в магазинах подешевеют…
А по ночам, гулко шлепая деревянными ножками по мостовой, приходили цинковые гробы и стучались в чьи-то двери. И все делали вид, будто их на самом деле нет. И все отлично. Многие в это даже верили. Год, два, пять… За это время обстановка в Лемурии стала еще лучше. И даже слухи утихли. К чему слухи, если и так все ясно? Даже гробы стали восприниматься как нечто привычное…
Ипат очнулся и ошарашенно посмотрел по сторонам.
Эх!
Он оттолкнулся от стены и пошел прогуляться по зданию вокзала, рассеянно перешагивая через ребятишек, которые прямо на полу играли своими прошлогодними снами. А их мамаши сидели на скамеечках и монотонно вязали длинные, скучные сплетни, тщательно отсчитывая петли и стараясь не пропустить ни одной достоверной подробности. Время от времени какая-нибудь из них поднимала то, что у нее получилось, повыше и спрашивала у своих подруг:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!