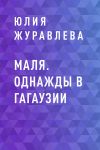Текст книги "Что память сохранила. Воспоминания"
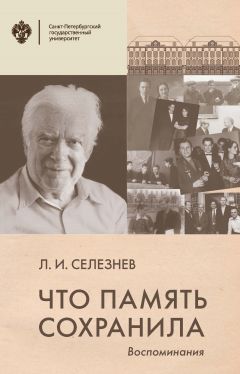
Автор книги: Леонид Селезнев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Генерал Пядышев
Что думал кот Никита, зализывая разодранную совой спину? Что он слышал, лежа в избе во время вынужденного покоя, когда не мог охотиться? А слышал он вот что. По избе ходил Хозяин (папа) и громко говорил, что у него нет лодки и что если бы таковая была, то в доме было бы вдоволь рыбы, и коту хватило бы мелочи, то есть, как думал Никита, очень вкусных окуньков, а это означало, что не надо было бы прыгать в воду – мокрую и холодную.
Уши были не только у кота. Услышанное мотали на ус, хотя усов у них в отличие от Никиты не было, присутствовавшие в избе двое мальчишек. Оказавшись снаружи, старший (лет десяти) сказал младшему (лет пяти), что знает, где есть лодка (видел, когда они ходили в лес). План грабежа созрел стремительно, и братья отправились за лодкой. Она была недалеко – метрах в ста по берегу, качалась, привязанная к купальне, с просочившейся сквозь щели водой.
Мальчики воду решили не откачивать, главное – действовать быстро. Было также решено лодку отбуксировать по воде и камышам к своим мосткам, что действительно заняло немного времени. Теперь у окушков появилась тень от привязанной к мосткам лодки, куда они и поспешили спрятаться от палящего солнца.
Выше по тропинке, у крыши без стен мама стирала что-то в тазике, мы с братом занимались ненужной возней. Вдруг на дороге появился военный, он был в фуражке, хорошо отутюженной форме, но главное – у него в петлицах было по две звездочки. Мы с братом знали, что это значило – звание генерала, но генералов до этого случая не видели. Генерал обратился к маме и сказал, что у него пропала лодка. Мама ответила ему, что ничего о лодке не знает, не слышала, не видела и т. п. Но наблюдательный генерал заметил, что присутствовавшие при разговоре мальчишки как-то смутились, чем и выдали себя.
Генерал счел нужным представиться маме: он наш сосед и зовут его Константин Павлович Пядышев, он начальник штаба Ленинградского военного округа. Пока генерал представлялся, мы с братом разглядывали его. Константин Павлович был сухощав, в ладно подогнанной форме, со столбиком усов под прямым носом, со спокойным взором он располагал к себе. Мама ответила просто: «Наташа». Генерал поинтересовался, когда дома будет отец, с чем и ушел.
Отец, когда приехал на выходные и узнал о лодке, пошел к генералу. Возвратившись, он рассказал, что сосед лодку ему подарил, к тому же она текла, и генералу обещали новую. Отец немедленно занялся подарком: зашпаклевал щели суриком, потом покрасил борта белой краской, и лодка стала как новая. Кстати, она долго потом нам служила.
У нас с братом появилось развлечение. Мы, уже на веслах, отправились к месту бывшей стоянки лодки. Там мы увидели не только купальню, но и эллинг, из которого две симпатичные девушки лет по 15–16 извлекли легкие байдарки, сели в них и пустились по глади озера. От них, одетых в белые с короткими рукавами футболки, на нас как бы повеяло бодрящим ветром, которого в тот день как раз не было. Позже оказалось, что девушки – Катя и Женя – были воспитанницами Пядышевых. Как разъяснила мама, у Пядышевых не могло быть своих детей – в результате скитаний по дорогам Гражданской войны.
Родители подружились с Пядышевыми довольно быстро, сочли естественным звать друг друга Ваня, Костя, Оля, Наташа. Стали ходить друг к другу в гости, чаще – мы к ним. И не только потому, что у них дом был более просторный (двухэтажный), но и потому, что у них было мороженое. Склонный всегда «пофилософствовать», старший брат Вовка быстро понял, что в радиусе двадцати километров это было единственное место, где делали мороженое. Готовил мороженое брат Константина Павловича, инвалид. Он ставил низкую скамеечку к стенке, садился на нее и крутил в бочоночке массу, принимая участие в беседе.
Эти беседы поражали нас с братом. Обычно спокойный, генерал Пядышев с раздражением говорил отцу, что Ворошилов и Буденный – бездари, нигде не учившиеся и не имеющие военного образования, что прославляемая конница Буденного – это вчерашний день в эпоху механизации войны, что единственный современно мыслящий высший военный начальник – это Тухачевский, но что ему не доверяют. Нас с братом удивляло, что все это говорил знающий дело генерал, в то время как официально имена «вождей» прославлялись, о них слагали и пели песни, – тем более удивляло, что говорилось это почти незнакомому человеку, имевшему отношение к пограничной службе. Но, видно, у генерала назрело, накипело в душе.
И еще летний случай. Узнав, что у брата скоро день рождения, Пядышев принес ему в подарок книгу В. К. Арсеньева «В горах Сихотэ-Алиня. Дерсу Узала», а мне подарил коробку оловянных солдатиков. Я не мог понять – почему, ведь день рождения был у брата. Мама объяснила, что Константин Павлович заметил, как я играю спичками на полу, выстраивая подразделения солдат, и пообещал подарить мне оловянных солдатиков, что и сделал, когда наступил подходящий момент. И все же я был поражен его обязательностью и щедростью – в то время оловянных солдатиков в детских магазинах вообще не бывало.
С началом большой войны контакты с Пядышевыми прекратились, что и понятно: у каждого были свои заботы и дела. Как-то мама сказала, что Константина Павловича назначили командующим Лужским направлением. Источник информации мог быть только один – Ольга Ивановна. Потом мама сообщила, что звонила Оля, сказала, что Мерецков прислал за ней самолет и она предлагает маме эвакуироваться «со всеми ее мальчишками». Мама ответила, что мы еще не решили, надо ли эвакуироваться, на чем разговор и закончился.

Старший брат Владимир, 1950-е годы
Дело, однако, обстояло не совсем так. Мама в силу понятных соображений умолчала, что отцу на работе уже предложили полуторку, чтобы эвакуировать семью, и было решено отправить нас на восток Новгородской области в Пестово, к дедушке, мамину отцу. Не помню точно, но где-то в октябре мама сказала, что говорила по телефону с Пядышевой. Ольга Ивановна приехала в Ленинград, в ее распоряжении самолет, и она предлагает эвакуироваться. В Москве паника, «никуда не достучаться, только с военными можно иметь дело, а с Костей случилось что-то плохое: когда Мерецков говорил о нем, то смотрел в пол». Мама отвечала, что мы только что вернулись из эвакуации, и никому там оказались не нужны, – с нее хватит, точка.
Прошло много лет, война осталась позади. Ольга Ивановна приехала в Ленинград, увиделась с мамой. Поделилась, как ей тяжело в Ленинграде без мужа, что все ей здесь о нем напоминает и поэтому она решила остаться в Москве, где ей дали «приличную квартиру».
Однажды, через много лет, когда я уже был на дипломатической работе в Индии, мне позвонил мой начальник, Иван Иванович Клименко, и сообщил: «Есть работа». Но, прежде чем идти в посольство, просил меня зайти за ним домой: «По ходу расскажу, в чем дело». Оказавшись в его квартире, я увидел, что Иван Иванович спокойно сидел в полураздетом виде и набивал патроны. Поясню, мы работали в Индии, и наши пернатые, прилетая туда на зиму, чувствовали себя в безопасности, совсем не боялись людей. Не только Иван Иванович, но и другие советские дипломаты пользовались случаем и удачно охотились на непуганую птицу.
Обстановка располагала к разговору. Иван Иванович, уже давно не спавший (или вообще не ложившийся спать), начал первым. Про то, как его призвали в армию, или, точнее, во флот, как определили в морскую пехоту и зачислили в комендантскую роту командующего Лужским направлением генерала Пядышева. Тут мое внимание обострилось, потому что прозвучала знакомая фамилия. Иван Иванович продолжал: прошли слухи, что в расположение Лужского оборонительного рубежа приезжает командующий фронтом маршал Ворошилов. Всем хотелось увидеть легендарного маршала.
Вероятно, у Пядышева было свое видение сложившейся обстановки. Прорыв немцами фронта у Нарвы – Кингисеппа создавал реальную угрозу окружения вверенных ему трех армий и корпуса ленинградских добровольцев, что генерал приравнивал к катастрофе на главном направлении продвижения немцев к Ленинграду. Поэтому последовал приказ об отступлении по всему участку Лужского оборонительного района.
Когда Ворошилов приехал, он вызвал к себе Пядышева и отчитал за то, что тот приказал отступать (вопреки существовавшему в Верховном Главнокомандовании мнению, что приказ об отступлении может отдать только командующий фронтом). Не стесняясь в выражениях, он назвал Пядышева предателем, «белогвардейской сволочью», командиром, нарушившим «святая святых» – приказ Верховного Главнокомандующего, запрещающий любую самостоятельность при принятии решения об отступлении. Ссылаясь на полномочия, данные ему Верховным, он заявил, что отстраняет Пядышева от командования Лужским направлением и приговаривает его к смертной казни через расстрел, что и было незамедлительно выполнено. Так бесславно закончился путь боевого генерала.
Я напомнил Ивану Ивановичу, что под его, Пядышева, руководством Лужский рубеж продержался полтора месяца (случай беспрецедентный в начальный период войны) и что, возможно, именно благодаря этому Ленинград выстоял под напором немцев. Иван Иванович согласился со мной, но добавил, что «так было» и что рассуждения постфактум не имеют существенного значения.
Война – блокада
День 22 июня 1941 года начался для нас в Васкелово. Накануне на выходные приехал отец, и мы договорились утром выехать на озеро половить щук. Утро выдалось солнечное, высоко в небе стояли небольшие кучевые облака. Лодка отошла от берега. Сверху, однако, донесся гул авиационных двигателей. На высоте верхних облаков шло звено бомбардировщиков, поблескивая на солнце. Отец удивился: они летели в сторону Финляндии и должны были достичь ее территории минут через 5–10. Обреченных щук мы выловили, пришли домой. Кто-то уже сообщил, что началась война с Германией. Отец среагировал своеобразно: он сказал, что Гитлер допустил большую ошибку, напав на Советский Союз, и что немецкие рабочие выступят на стороне социалистического государства. К сожалению, так думал не только он.
Не помню, сразу или чуть позже, мы погрузились в полуторку и поехали в город. Дело было вечером, по обочинам шли призывники. Вид у них был неприглядный. Из того, что нашлось в доме, они надели самое старое, поношенное, уже практически непригодное, ведь свои вещи они должны были сдать и взамен получить форму. Сами новобранцы выглядели печальными, угрюмыми, как будто знали, что большинство из них не вернется с войны. Еще вчера они о фронте и не помышляли, а занимались повседневными делами.
Мама очень обрадовалась, что отца не возьмут в армию: он был «белобилетник» из-за близорукости, а проще «негодяй» (то есть негодный к военной службе). На работе ему сказали, что он будет выполнять прежние обязанности (по строительству оборонных сооружений).
В первые месяцы войны мы были заняты подготовкой к эвакуации: власти считали, что всех детей надо вывезти из города. Отцу выделили на работе полуторку, которая должна была нас эвакуировать. Мы решили, что лучше ехать к дедушке, Ивану Степановичу, который тогда заведывал нефтебазой в Пестово на востоке Новгородской области. Путь был недалеким – около 250 километров.
В Пестово ехали по проселочным дорогам и глухим деревням, боялись немецких самолетов. Но когда приехали, дедушка сказал нам, что Пестово – крупный железнодорожный узел, и потому немцы будут его непременно бомбить. Вскоре так и произошло. Дедушка радел за дочь с внуками и отправил нас вниз по Мологе в Устюжну, где не было железной дороги.
В Устюжне нас поместили в большой двухэтажный дом на левом берегу реки. Хозяйка была недовольна вторжением, что и показывала постоянно: спали мы на полу на веранде, но не мерзли (благо было лето). Хозяйка следила за ходом военных действий и на вывешенной на стене большой карте с удовольствием расставляла флажки в направлении на восток, приговаривая: «Вот немцы придут и вышвырнут вас».
В конце августа в Устюжну неожиданно приехал отец. Его послали в очередную командировку на «старую границу», а он завернул к нам. Отцу очень не понравилось, как мы устроились, и он решил отвезти нас домой: «Ленинград все равно не сдадим!» Вместились кое-как в маленькую легковушку и поехали по проселку домой, все-таки попав под бомбежку около Чудова, рядом со станцией. Так мы прорвались в практически уже осажденный Ленинград. Но настоящие бомбежки ждали нас в городе.
8 сентября (эта дата установлена в истории блокады точно) мы с дворовым другом Валькой Птичкиным пошли погулять, а заодно и покататься на американских горках (они были построены вдоль Кронверкского протока – чтобы было страшнее). Когда мы летали на тележках вверх-вниз, раздался сигнал воздушной тревоги, и тележки остановились. Нам было предложено пройти по «шпалам» вниз, так было удобнее добраться до твердой почвы. Началась бомбежка. Путь домой лежал по знакомым улицам и переулкам, при взрывах мы прятались в подъездах.
После бомбежки мы увидели, что на месте американских гор поднимаются клубы дыма и огня. Оказывается, внутри «гор» службы красной конницы хранили сено, которое немцы сумели поджечь. Пламя поднималось столбом на несколько сотен метров. Другой огненный столб наблюдался в отдалении: взрослые говорили, что горят Бадаевские склады с продовольствием. В итоге получилось, что мы с Валькой оказались последними посетителями аттракциона.
Возникает вопрос: почему мы пошли гулять, а не поспешили в школу? Дело в том, что как дисциплинированный ученик и отличник я в первый же день сентября пошел в свою школу на улице Подковырова, 28. Там уже собралось несколько ребят, но из нашего класса никого не было. Из здания школы вышла незнакомая учительница и сказала, что в школе теперь госпиталь и потому занятия переносятся в другую школу. Сама повела группу собравшихся ребят по Левашовскому проспекту, а потом через мост на Крестовский остров. Мы стали собирать желтые дубовые листья «на махорку» бойцам. Учиться так и не пришлось, потому что и в другой школе тоже был развернут госпиталь.
В конце октября выпал первый снег – как предвестник суровой зимы. Мы вместе с ребятами из нашего двора бегали, играли в снежки, и я с удовольствием ел рыхлый свежевыпавший снег. Мимо проходила случайная прохожая, которая сказала мне: «Вот поешь снега, заболеешь дифтеритом». Так и получилось. Вечером стало болеть горло, мама вызвала по телефону скорую помощь, она быстро приехала и увезла меня в детскую больницу на Косой линии Васильевского острова. Меня госпитализировали.
В больнице меня «как взрослого» поместили около окна, сказав при этом: «Будет страшно при обстреле, иди в подвал». Потом оказалось, что место очень удобное. Было видно, как на крыше фабрики-кухни (была такая на Большом проспекте) рвались снаряды, окрашивая вспышкой снег в розовый цвет (немцы, очевидно, били по Балтийскому заводу, но ошибались, допускали «перелет»).
Мама приходила ко мне каждый день, и в окно было видно, как она подходит по протоптанной в снегу дорожке, держа в руке сумку. Я заранее знал, что «ко мне пришли». В тот день снаряды ложились слишком уж близко, младших детей вывели из палаты в подвал. Я, как повелось, остался. Раздался взрыв, сопровождаемый вспышкой, я накрылся с головой одеялом, а когда стих шум, откинул одеяло и ничего не увидел: в палате висела сплошная завеса пыли. На моей и соседних кроватях из одеял торчали осколки стекол. Я решил, что пора идти в подвал. Первая мысль была: а не разучился ли я ходить, пока лежал здесь. Пошел между кроватями в коридор – там тоже все было усыпано осколками. Когда достиг конца коридора, на меня с распахнутым одеялом в руках выскочила какая-то тетка и закричала: «Он живой!» Укутала одеялом и понесла вниз.
Весь подвал был сплошь заставлен раскладушками, на которых лежали дети. Я услышал голос мамы: «Покажите мне его!» Я никогда не видел маму в истерике, врачи дали ей что-то выпить. Когда мама успокоилась, то сказала, что увидела мой угол обрушившимся от разрыва снаряда и уже не верила, что я жив. А до этого, когда ехала в трамвае по Большому, в предыдущий трамвай попал снаряд, и она видела «гору окровавленных трупов». Было от чего впасть в истерику! Но всё обошлось: меня скоро выписали. В следующий раз я попал в больницу с инфарктом в 2014 году, до того ни разу не болел.
Пока писал эти строки, подумал: почему? Вспомнил забавный случай. Читал в Манчестере (Англия) лекцию о блокаде. Среди вопросов, заданных мне, оказался такой: «А как в блокаду было с медицинским обслуживанием, были ли медикаменты?» Я ответил для себя неожиданно: «А в блокаду ленинградцы научились не болеть!» Это была правда. Отец в блокаду забыл мучившую его до войны язву двенадцатиперстной кишки, мама – свой ревматизм; да и других случаев заболеваний я не припомню. Слышал, что у блокадников выработался своеобразный иммунитет ко всем болезням. Видимо, сказалось постоянное нервное напряжение.
Наступила суровая, холодная и голодная зима. Закономерен вопрос: а как нашей семье удалось выжить? Напомню, что от голода умерла примерно половина жителей Ленинграда, остальные выжили. Для нас решающим обстоятельством было то, что отца не призвали в армию. Как штатский отец получал рабочую карточку, паек от которой шел семье. Отец часто посещал военные части, командиры которых всегда проявляли русское гостеприимство, и с учетом обстановки он не отказывался. Были и другие обстоятельства, о которых расскажу. Помогло также то, что весной отец купил большую машину дров. Их нам хватило до конца блокады.
Мы получали рабочую карточку за отца до конца октября. В начале ноября его отправили в командировку эвакуировать Тихвин, и он пропал. Мама пошла к нему на работу и получила отцовскую карточку за ноябрь. Но когда и в ноябре отец не объявился, очередной поход за карточкой оказался неудачным: маме отказали, раз ее муж и наш отец пропал без вести. Помню, как на Новый год мы украсили фикус имевшимися дома елочными игрушками, как поджарили кусочки хлеба на буржуйке, подправляя их ножом, чтобы не они растеклись, таким сырым был блокадный хлеб. Это было наше новогоднее угощение.
Наступающий год не сулил нам ничего хорошего. Кстати, 1 января листья на фикусе свернулись и пожелтели. Январь в Ленинграде – самый плохой месяц. Помню, мы лежали с братом в кроватях одетые – так было теплее. В углу у двери стояло отхожее ведро со светлячком (это было ленинградское изобретение для полной темноты – люминесцентный значок размером с пятачок, без него на улице можно было столкнуться с идущим навстречу человеком). Ведро по утрам выносилось и выливалось во дворе. Я лежал и думал о том, что еще предстоит ехать с санками за водой на Невку: сначала по Ленина, потом по Левашовскому (всего около полутора километров в один конец).
Берег был крутой, и самое трудное заключалось в ловкости, с которой следовало поднять ведро с водой на дорогу. Этим, а также «повинностью» тащить санки со мной и двумя пустыми ведрами (туда) занимался старший брат Володя. Обратно (с водой) мы тащили санки уже вдвоем, в одной упряжке. По пути отдых-привал был всегда один и тот же. Перед войной в конце Левашовского проспекта был построен «американский» хлебозавод, и мы, сидя на санках, вдыхали необыкновенно вкусный аромат свежеиспеченного хлеба.
Когда приходила с работы тетя Люба, мы отправлялись с ней в подвал на заготовку дневной порции дров. Мама давала Вовке отдохнуть: ведь он поднимал ведра с водой на четвертый этаж. В подвале мы с Любой пилили метровые плашки (два распила – три полена), потом я их колол колуном, и, наконец, набивали поленья в мешки, чтобы поднять их наверх в квартиру. Все это проделывалось ежедневно.
Мои «размышления» прервал громкий стук в наружную дверь (звонок не работал из-за отсутствия электричества). Это была не Люба – у нее были ключи, да и слишком рано для нее. Громкий стук раздался снова, по двери стучали кулаком или ногой. Я встал и пошел открывать. Мама крикнула: «Спроси кто». Я спросил, за дверью послышалось: «Свои». Открыл дверь и увидел отца, а с ним несколько мужчин.
Отец был в валенках, в дубленке явно с чужого плеча, она была ему очевидно велика. За ним стояли здоровенные мужики. Их «огромность» усиливалась тем, что они были обуты в меховые унты, к тому же все они были в меховых куртках, и, главное, у всех были большие заплечные мешки. «Все живы?» – спросил отец. «Все!» – ответил я. Отец кивнул: «Теперь будете жить». Далее он представил «меховых парней»: «Это летчики, мы прилетели из Хвойной».
Мама отвела летчикам (их было трое) вторую комнату. Кроватей не хватало, и они спали на полу вместе с отцом. Когда они стали вынимать поклажу из мешков, меня неприятно поразило, что в первую очередь они вытащили несколько бутылок водки, потом – пару кирпичиков хлеба, наконец, надежду всех надежд – американские банки со свиной тушенкой, на которых было написано: «stewed pork». Я тогда не знал английского языка, но запомнил эти слова навсегда. Они означали жизнь. Летчики в компании с отцом опустошали бутылки, но ели мало, похоже, за еду им было стыдно перед нами, и они выносили из своей комнаты открытые банки с тушенкой и передавали их маме: «Это мальчишкам».
Бывает просто радость. Бывает большая радость. То, что произошло тогда, – огромная радость, более того, в тех условиях – счастье. Не зная, как выразить охватившие меня чувства, я встал на голову, хорошо это помню. И откуда только силы взялись?!
Оказавшись в кругу семьи, отец откровенно рассказал историю своего исчезновения. Едва их самолет сел на аэродроме Тихвина, на него стали садиться один за другим немецкие самолеты с десантом. Выпрыгивающие из немецких самолетов солдаты сразу открывали огонь из автоматов. К счастью, отца и его группу встречали на «эмке», а рядом с аэродромом был лес, куда и рванули запоздавшие эвакуаторы. Затем бросили машину и пешком стали пробираться подальше от Тихвина, откуда доносилась стрельба. Когда вышли к своим, передать в Ленинград информацию о том, что с ними произошло, оказалось невозможно. Пришлось ждать оказий, но их все не было.
Летчики поддержали нас в самый критический момент. И когда понадобились наши усилия в общей работе по уборке города, мы были не только морально, но и физически готовы к этому, как я считаю, подвигу ленинградцев – обессиленных, измученных блокадой, тем не менее вышедших во дворы и на улицы для уборки и спасших тем самым свой город от эпидемий. Речь идет о последних двух днях марта.
Опять раздался стук в дверь, но на этот раз он никого не испугал. За дверью стоял наш управдом. Он спросил у мамы: «Кто завтра выйдет на уборку двора?» Мама показала на нас с Вовкой. Я уже упоминал, что ведра с нечистотами выливались во дворе, все это замерзло. Управдом объяснил, что надо будет колоть ломом лед и куски вывозить на улицу, а затем сбрасывать в открытый канализационный люк.
День выдался великолепный, солнечный. Когда утром мы подошли к управдому, он передал нам свежий лист фанеры, новенькую плетеную веревку, совершенно новые лом и совковую лопату. Он сам ломом пробил углы фанерного листа, привязал к ним веревку и сказал: «Готово!»
Мы с братом хорошо потрудились: брат колол ломом замерзшие нечистоты, я лопатой сваливал куски льда на фанеру, потом вдвоем мы волокли лист до открытого на улице люка, сбрасывали куски льда в люк и отправлялись обратно.
Уборкой улиц занимались все горожане. Все понимали, что осажденный город, вопреки утверждениям немцев, не «умрет от эпидемий». Еще раз подчеркну: я считаю, что это был настоящий подвиг жителей блокадного Ленинграда, и горжусь тем, что мы с братом внесли в него свой вклад. Не помню, чтобы когда-либо родной город был таким чистым, как в начале апреля 1942 года. Наступила весна, и мы поняли, что выжили и будем жить.
У отца в приятелях был командир авиационного полка, базировавшегося совсем рядом с городом, в поселке Кузьмолово. Отец решил отвезти нас туда на лето, благо немцы Кузьмолово не обстреливали. Летчики рассказали нам, что местные жители прошлой осенью убирали картошку небрежно, торопились из-за того, что боялись прихода немцев или финнов. Поэтому был смысл в повторной уборке. Мы с братом накопали примерно 2–3 килограмма картошки. Мама решила, что всю собранную картошку надо пустить на новые посадки. Нас научили сажать картофель «глазками», так что у нас кое-что осталось и на «прокорм».
На летное поле нас, естественно, не пускали. Но мы видели, как машины-полуторки, оснащенные «стартерами», подъезжали к стоявшим в молодом сосняке истребителям и помогали запустить двигатели. К летчикам у нас был «свой подход». Мы заметили время, когда летчики дружно выходили из столовой и при виде нас – мальчишек – доставали из бездонных карманов галифе кто кусок сахара, кто печенье, кто сухари.
В ответ на наши вопросы летчики говорили нам, что Ил-2 – отличный самолет, но садится в канавы, не долетая до посадочной полосы, потому что сложен в управлении, и такие асы воздушных боев, как Жуков или Харитонов, предпочитают летать на поставляемых по ленд-лизу американских «эйркобрах» или английских «спитфайерах», поскольку те превосходят в скорости и наши, и немецкие самолеты.
Еще для немцев неприятным сюрпризом явились изобретенные и изготовленные в нашем городе радиотехнические системы – радары, способные обнаружить вражеские самолеты на большом расстоянии. Они были установлены на основных направлениях подлета немецких бомбардировщиков, где бы они ни взлетали, в Латвии или в Эстонии. Наши истребители перехватывали их на подступах к городу, в результате немцы несли тяжелые потери и были вынуждены отказаться от авиационных налетов.
Выжить в осажденном многомиллионном городе совсем не просто. Пережить голод и холод, множество личных трагедий еще труднее. Особенно когда жизнь и смерть как бы меняются местами и нельзя однозначно судить, хорошо это или плохо. Поясню примером. В нашей квартире помимо нас пережила блокаду семья Токаревых (фамилия и имена мной изменены – скоро читатель поймет почему), простая рабочая семья. Еще перед войной их сын, наш ровесник, поступил в ремесленное училище (Токаревы жили более чем скромно). Но очень уж хотелось Токаревым, чтобы их старшая дочь, красивая Люся, получила высшее образование. В середине 30-х Люся поступила в Первый медицинский институт и закончила его перед войной. Вскоре состоялась ее свадьба с Василием – однокурсником. Мы всей квартирой радовались, что так случилось и появилась новая красивая пара.
Но началась война, и Васю призвали в армию. Люся осталась одна. В самый трудный период блокады, в конце ноября – начале декабря 1941 года, у Люси родился мальчик. Он все время кричал у нас за стеной, и мама спросила Люсю, почему он постоянно плачет. Люся ответила, что от голода, потому что она его не кормит. Мама была поражена. И вот Люся раскрыла ей свою философию жизни: «Если я буду его кормить, то не выдержу и умру сама, а без матери он все равно не выдержит и умрет. Если я не буду его кормить, то выдержу сама, а вернется Вася, и я нарожаю столько детей, сколько захотим». Где-то в январе младенец замолчал (значит, умер). Люсе отдали пустующую комнату Бусловых (те уехали в Москву) и она стала водить туда офицеров: с них, помимо прочего, «за услуги» требовалось расплачиваться продовольствием. Часть «дохода» Люся отдавала семье, что поддерживало ее в самые голодные дни.
Люся выжила, и когда закончилась война, снова воссоединилась с Васей. Васе как фронтовику дали квартиру, а Люся (как рассказывали Токаревы) родила не то одного, не то двоих детей. Так что все завершилось «хеппи-эндом», и Люсина философия жизни оказалась как будто бы оправданной, хотя, на мой взгляд, вопрос все-таки остается открытым…
Из эпизодов блокады запомнилось, как по Большому проспекту Петроградской стороны вели пленных немцев, вид у них был жалкий. И тут я заметил, что стоявшие на тротуаре женщины стали исчезать и вновь возвращаться – кто с куском хлеба, кто с вареной картофелиной в руке, чтобы передать их вчерашним злейшим врагам, немецким солдатам. Такое не забывается. И еще: когда мы жили в Кузьмолово, в поселке остановились три танка, и танкисты пригласили нас внутрь посмотреть. Мы согласились, залезли в танк и сразу испугались: изнутри танки были «обложены» снарядами. Я решил, что танкистом наверняка не буду.
Из памятных дней запомнились все три исторических дня: день прорыва блокады, когда весь город высыпал на улицы и ликовал, день снятия блокады, когда война для жителей Ленинграда вроде бы закончилась, и, конечно, День Победы – солнечный, ветряный день… Над Большим проспектом Петроградской стороны пролетали самолеты и разбрасывали листовки со словами из приказа Сталина: «Германия капитулировала! Мы победили!» Всем было радостно, весело. Хотелось петь и плясать, многие так и делали.
В заключение скажу о вкладе, который внесла наша семья в увековечение памяти о героической обороне Ленинграда. По состоянию на 2016 год единственный музей, посвященный блокаде и защитникам города-героя, – это музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Марьино, открытый в 1985 году и посвященный операции «Искра» (12–18 января 1943 года). Не будет преувеличением утверждать, что этот музей-диорама – главное детище моего старшего брата, художника Владимира Ивановича Селезнева, члена Союза художников СССР. Начиная от замысла и кончая его воплощением, он остается основным творцом музея-диорамы, о чем я должен свидетельствовать как один из наиболее близких к нему людей в эти годы.
Прежде всего отмечу, что замысел музея-диорамы был встречен в «инстанциях» более чем прохладно. Брату напрямую сказали, что коль скоро по указанию ЦК был закрыт музей блокады Ленинграда в Соляном городке, где были собраны оригинальные экспонаты блокады и битвы за Ленинград, и ни слова нигде не говорится о его восстановлении, инициатива брата «не к месту». Тогда брат, согласившись с тем, что диорама будет создана бесплатно, обратился к общественным источникам помощи. В первую очередь таковые нашлись среди ветеранов Великой Отечественной войны. Генерал армии А. В. Хрулёв, бывший начальник тыла РККА (1941–1951 годы), как и другие генералы армии, возведенный в ранг генерального инспектора Министерства обороны, оказался явным сторонником замысла брата. Он и другие генеральные инспектора оказали своим авторитетом несомненную помощь в продвижении проекта.
Я помню такой эпизод. Как-то мы с братом оказались в одном гостиничном номере в Москве, и он решил позвонить по телефону Хрулёву. Когда в трубке прозвучал ответ, что Андрея Васильевича нет дома, Володя обратился к ответившему по имени, спросил о здоровье членов семьи, назвав всех по именам, что убедило меня в его близком знакомстве с семьей генерала. Сказался и организаторский талант брата: он собрал вокруг себя группу художников – участников прорыва блокады – Бориса Котика, Николая Кутузова, Федора Савостьянова, пригласил в группу Константина Молтенинова, поскольку он «как никто умел писать снег».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?