Текст книги "Умереть и воскреснуть, или Последний и-чу"
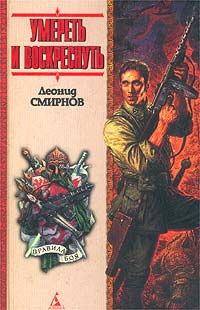
Автор книги: Леонид Смирнов
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мечта наивная, но живучая… Серебряные пули были последним средством – я пущу их в ход, если вервольф доберется до двери и шагнет за порог. Если сумею… Не только я давил на вервольфа, но и он на меня. Мы оба боролись с вязким мировым пространством. Я навел порчу на оборотня, а он оплел меня невидимой глазу паутиной.
– Ты ведь пришел в Кедрин не просто так и девушку зарезал не случайно. Ты по мою душу пришел. А разве я тебе чем-то насолил? Значит, тебя послали, – пытался я разговорить вервольфа.
Тот упорно молчал.
– Скажи, кто это был? Глупо страдать за чужие грехи, – продолжал я напирать. Оборотень только усмехался в ответ.
Преодолевая логическое сопротивление, он с видимым усилием двинулся к входной двери – брел, словно бы раздвигая грудью воду. Сейчас вервольф не мог победить меня в открытой схватке, но время снова работало на него. Он уходил, каждым шагом втаптывая в пьшьные половики мою надежду покончить с ним раз и навсегда. Надежду обезопасить город, облегчить душу и триумфатором вернуться домой.
На пороге сеней вервольф обернулся и подмигнул. В этот миг он был как две капли воды похож на моего отца – видно, надеялся, что я не смогу стрелять в родного человека. К способности чудовищ принимать человеческий облик не так легко привыкнуть, зато, обретя опыт, перестаешь обращать внимание на эти превращения – видишь только суть.
Я схватил автомат, чтобы дать очередь по ногам вервольфа, и внезапно вспомнил о тибетском амулете графа Паншина-Скалдина – обереге от Стратега зверей. Вернее, я не забывал о нем и прежде – трудно забыть о вещице, которая круглые сутки висит у тебя на шее. Вот только я никогда всерьез не рассчитывал на его волшебные свойства – не люблю вещи, снятые с покойников. Да и сработает ли тибетский амулет здесь – в кедринской непролазной тайге, где хвойные деревья-исполины оплетены густыми зарослями ивы, ольхи и орешника? Как говорится, каждой ягоде – своя кочка… Сам не знаю, зачем я его носил.
Подняв руку, я не сразу нащупал пуговицу. Рывком расстегнул ворот. Вервольф вздрогнул и замер с поднятой в шаге ногой. Когда я достал из-под рубахи амулет, держа его пальцами за нижний край, оборотень опустил ногу, прижался спиной к стене – теперь уже по собственной воле. Он вжимался в потемневшие от времени бревна, словно пытаясь укрыться в них. Когда я поднял оберег на уровень глаз, нацеливая на врага мое оружие, вервольф вдруг чисто по-волчьи взвыл и рухнул на колени, сжав руками раскалывающуюся от боли голову:
– А-уа-у-ууу!!! Убе-е-ери его-о-о!!!
Держа амулет перед глазами, я медленно двинулся к оборотню. Он отшатнулся, пополз прочь на карачках. Перевалившись через порог, оборотень истратил последние силы, повалился на пол в сенях и корчился от нестерпимой боли. Однако он не был ни ранен, ни просто избит. Его всего-навсего сглазили.
Сейчас вервольф не мог покрыться шерстью и отрастить клыки – Луна была не в той фазе. Да и не помогло бы ему это. Зато умение насылать на людей морок всегда при нем. Вот только забыл оборотень о нем – порча выгрызала его волчью половину натуры, и от чудовищной боли не было спасения. Ее нельзя описать словами, человеку не понять, что испытывает вервольф, теряющий свою звериную ипостась.
Во входную дверь замолотили кулаками.
– Откройте! – кричали с улицы. – Вы живы там?! Откройте, барин!
Я был жив. Живее некуда. Зато вервольфу жить осталось считанные минуты, а так много нужно было у него спросить.
– Кто тебя послал?
Молчит.
– Отвечай, не то отдам солдатам. – Больше пугать его было нечем. – Повторяю вопрос: кто тебя послал?
Вервольф кривил лицо. Я не сразу понял, что он пытается рассмеяться.
– Глу… Глу… Глупее вопроса… – Ему было трудно говорить. – Ты меня удив… ляешь.
В дверь уже колотили прикладами. Звякали затворы.
– Откройте! Дверь сломаем!
– Все в порядке! Оставьте меня в покое! – заорал я во всю глотку.
Солдаты меня не слышали или не хотели слышать. Голоса снаружи становились все громче, настойчивей. Люди теряли последние остатки терпения и здравого смысла. Вот-вот начнут палить в дверь из винтовок.
– За тебя будут мстить?
– Да… – с трудом выдавил вервольф.
Бум! Бум! Бум! Под ударами топоров дверь ходила ходуном. Она была прочна, но дерево есть дерево: косяк затрещал, здоровенные гвозди, на которых держался засов, начали вылезать из толстенного елового бруса. В моем распоряжении были секунды.
– Ты хотел вытереть о нас ноги или просто питался чем и где придется?
На мгновение показалось, что вервольф сыто облизывается.
– Приятное… с полезным… – последнее, что он успел сказать.
Скоба засова с душераздирающим треском и скрипом стонущей стали оторвалась от косяка. Дверь распахнулась. Грохот, топот ног, крик, мат. Солдаты застыли на лету, словно натолкнувшись на прозрачную стену. Слишком боялись его, хоть и лежащего на полу, беспомощного. Отшатнулись разом, ринулись назад, на крыльцо, – кто успел развернуться, кто задом наперед. Бились в дверном проеме, пихая и давя друг дружку. Вервольф остался в сенях один. Гримаса радости перекосила его губы. В последний раз он победил жалких людишек.
Солдаты остановились на крыльце. Потные, перепуганные, злые как черти. Очухавшись, они снова набились в сени и яростно щелкали затворами.
– Не стреляйте! – кричал я. – Мы его допросим!
А солдаты в ожесточении палили. Пули щепили бревна, доски пола и одна за другой прошивали тело вервольфа, а он все не умирал. Оборотень лежал на спине, раскинув руки. Ноги его были согнуты в коленях, словно он пытался встать.
Лица у солдат были перекошенные – не от ненависти, а скорей от страха. Магазины кончались, они судорожно перезаряжали винтовки и карабины, роняли патроны на пол, матерились; руки у них дрожали.
В дверь, распихав солдат, вломился Зайченко. Он приволок «кедрач» и, держа пулемет за сошки, длинной очередью вычертил на груди вервольфа странный каббалистический знак. Пули входили в плоть оборотня, не выбивая ни капли крови, будто рождественского кабана шпиговали лесными орехами.
И все это время – несмотря на адскую боль и страшные удары, сотрясавшие его тело, – вервольф неотрывно смотрел на меня. Он выискивал взглядом мои глаза, что-то хотел передать мне напоследок – говорить уже не мог. А потом вдруг потерял меня из виду, глаза его забегали, выискивая утраченную цель, стали закатываться, открывая увитые багровой паутиной белки.
Я смог расшифровать его послание, лишь когда все было кончено и солдаты крючьями выволокли труп из дома. В голове у меня возникли огненные строки: «Ты будешь жить долго. Дольше всех. И ты позавидуешь мертвым. Ты будешь молить о смерти и не получишь ее». Где-то я слышал все эти страсти, вернее, читал. Затем я обнаружил еще три фразы: «Я буду приходить к тебе, напоминать. Память слаба. Останутся метки на стекле». На этом все.
Тогда я не стал принимать слова вервольфа всерьез – и без того было тошно. Убедил себя, что нагадить он хотел перед смертью, укусить побольней напоследок – разве не ясно?
Глава восьмая
Родные стены
Спустя неделю после смерти оборотня остатки отряда подходили к Кедрину. Штабс-капитан Перышкин на своей Звездочке ехал впереди, за ним следовал Зайченко с импровизированным штандартом – прикрепленной к древку деревянной рамой. Она была обтянута кожей вервольфа, которая из-за множества пулевых отверстий походила на решето.
Фельдфебель сам содрал с оборотня шкуру. Я был против глумления над трупом, но на сей раз к моему мнению не прислушались: уж больно перетрусили за время похода и воякам надо было избавиться от своего страха.
Мы с инспектором замыкали колонну. Господин Бобров приободрился и временами даже что-то насвистывал. На меня он отчего-то старался не смотреть, избегал разговоров, и в конце концов я потерял терпение. Необходимо было выяснить, в чем дело.
Решившись, я чуть пришпорил лошадь. Я сроднился с Пчелкой за эти долгие недели и даже перестал замечать едкий запах конского пота, который уже давным-давно насквозь пропитал и меня самого.
Преодолев разделяющие нас три метра, я коснулся инспекторского плеча. Он вздрогнул, повернул голову, молча вопрошая: что случилось?
– Поговорить надо, Сергей Михайлович.
– Валяй! – в несвойственной ему манере ответил Бобров.
– Что вы бегаете от меня как от чумы? Или на меня противно смотреть?
– Резонный вопрос, – помолчав, ответил инспектор. – Нет, ты тут ни при чем. Это я сам себе противен. Такие дела, голубчик…
– В чем же вы замарались?
– Хм. Хр. – Бобров как-то весь перекосился, а потом вздохнул глубоко, вобрал в себя побольше воздуха и заговорил тихо и тускло: – Использовал я тебя. И подставить должен непременно. Имею такой приказ. Сначала ты убьешь оборотня – желательно не сразу, чтоб помытарить отряд и потерять побольше людей. А затем я обвиню тебя в их гибели. Да и гробить специально никого не пришлось – все само собою вышло…
Я не пришел в бешенство и даже не разозлился, потому что сил не осталось. Противно мне стало – только и всего.
– Так что же вам мешает довести дело до конца?
Он молчал, все ниже клонясь головой к холке коня. «Уж не помер ли часом?» – испугался я и закричал:
– Сергей Михайлович! Вы меня слышите?!
– Не кричи, не глухой, – раздался его спокойный голос. – Думать мешаешь над ответом. Совесть вроде давно отмерла. Чести откуда взяться – не дворянского ведь сословия. Привязался к тебе, наверное…
– И что теперь с вами будет?
– Ушлют куда-нибудь в Шишковец, а может, наоборот, наградят и – с повышением – задвинут в Каменск. Кто ж их разберет?
Пустые дачи с заколоченными или распахнутыми настежь дверями; оставленные на полях подгнившие кочаны капусты; компостные кучи. Голые кривые стволы яблонь, переплетенные прутья малинника. Эта печальная картина нас не пугала. На дальних подступах к Кедрину мы столкнулись с конным патрулем и уже знали, что город не вымер.
Кедрин был словно в осаде, но жители его никуда не делись, все были там, в пределах городской черты. Туда же вывезли и селян из трех ближайших волостей, набив в заводские бараки как сельдей в бочки; многих подселили к горожанам в дома и квартиры. Возможностей организовать лагеря беженцев в городе не было – ни свободного места, ни палаток. Да и холод по ночам собачий.
В Кедрин согнали и домашнюю скотину. Она непременно сдохла бы с голоду, и «отцы города» приняли мудрое решение – резать. Убили тем самый двух зайцев: и горожан с беженцами будет чем кормить первое время (продовольствие ведь доставляют только аэропланами), и добро не пропадет. А потом крестьянам обязательно заплатят. Бумажными, само собой, – не золотом же… И чем выше будет в стране инфляция, тем городу лучше.
Наше возвращение в Кедрин вряд ли можно было назвать триумфальным. На санитарном кордоне отряд встретили автоматчики, одетые в оранжевые костюмы химзащиты. Действовали они столь решительно, что мне даже показалось: вот-вот пустят нас в расход, чтоб не возиться с такой заразой. На самом деле за время осадного положения карантинщики насмотрелись всякого, а человечьим сердцам свойственно быстро ожесточаться. Но убивать нас они вовсе не собирались.
Из-за карантина по черной сибирке нас продержали в «отстойнике» тридцать один день. Эта гнусная болезнь, которая трижды за столетие вылезает из солончаковых пустынь Северной Парфии и лишь по недоразумению получила название нашей страны, в былые времена выкашивала каждого третьего. От нее распухают в поросячьи рыла и чернеют лица, а потом сгнившие куски плоти начинают отваливаться, обнажая кость. Но человек до самого конца чувствует лишь слабое недомогание и со слезами восторга вдыхает удивительный, сладостный аромат собственного тления.
В «отстойнике» нас переодели в дурацкие белые балахоны – дань старинному обычаю, расселили в два барака (офицеры и унтеры отдельно, рядовые отдельно), так что нас оказалось четверо, включая Зайченко. Штандарт у него, понятное дело, отобрали и вместе с нашим обмундированием, амуницией и оружием сожгли в огромном костре.
Хорошо хоть родным сообщили, что мы живы и здоровы. Потом раз в неделю нам приносили письма из дому. От нас же записки не брали. По идее могли бы установить в бараке телефон, да вот не стали – не уважили. Знать, не достойны.
Кормили нас скудно, но, судя по всему, теми же продуктами, что ели сами. Каша, пустые щи, морковный чай, снова каша. Делать было совершенно нечего, и, если бы охрана не смилостивилась и не выдала нам колоду карт, мы, наверное, чокнулись бы от тоски и печали.
Играли в основном в преферанс и бридж. Зайченко пришлось на ходу осваивать правила, но голова у него варила отлично, насобачился – еще как. Играли на грядущие премии за уничтожение вервольфа. Обещано городским головой было ни много ни мало по тысяче червонцев офицерам и по пятьсот – рядовым.
Компания картежников подобралась славная: штабс-капитан оказался матерым окопным – вернее, блиндажным – игроком; инспектор, как выяснилось, в течение двадцати лет один вечер в неделю обязательно проводил за ломберным столом; у меня была профессиональная память, логический ум и инстинкт охотника; ну а фельдфебель все схватывал на лету – таких на фук не возьмешь. Так что рубка шла славная, и никому никого раздеть не удалось.
Наконец двери «отстойника» открылись.
– Живой, сынок… – были первые слова отца, ожидавшего меня у дверей префектуры.
Мне он неожиданно показался обессиленным, постаревшим. Вроде бы и седины на висках прибавилось, и волосы на макушке поредели.
– Вот ты и стал взрослым, сынок, – прижав меня к груди, пробормотал отец. – С боевым крещением тебя.
На миг я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, которого несет на руках любимый папа, – беспомощным и абсолютно счастливым.
– Что у вас случилось? – без долгих церемоний спросил я, когда он выпустил меня из объятий.
Отец пристально посмотрел на меня, спросил глазами: а нужна ли тебе еще и эта ноша, сынок? Потом его усталое лицо разом переменилось – в глазах зажглись привычные огоньки. Вот тут я понял, чего мне в нем не хватало.
– Ничего срочного. Долговременные пакости. После поговорим. Неспеша. А пока – домой. Мама наша тебя ждет не дождется.
Но прежде чем попасть домой, мы побывали в Городской Думе. Парадные мероприятия пройдут там завтра. А сегодня инспектор, штабс-капитан и я приехали туда не за наградами. Мы дружно навалились на городское начальство, заставили вызвать всех до единого радистов и допросили их с дристрастием. Те в один голос клялись, что двадцать восьмого сентября наш отряд на связь не выходил.
Городской радист отстучал нам тогда всего четыре фразы:
– И мор, и глад – все божья благодать. С кровью в мир вошли – с кровью и уйдем. Когда мертвецы переговариваются, земля хохочет. Твой же денщик тебе кишки намотает.
Последняя была адресована сидевшему на ключе поручику Белобородову, который вскоре погиб – действительно от руки собственного денщика. Получается, с нами говорил или Оракул, или сам вервольф, у которого рации не было.
– Не там ищете, господа, – заметил отец, наблюдавший за допросом.
И все же я особенным образом проверил двоих связистов, дежуривших в день последнего нашего радиосеанса. У и-чу имеется верный способ выяснить, говорят ли тебе правду. И ведь на самом деле не врали парни. Чудеса, да и только…
– Пора, – начиная терять терпение, произнес отец.
Мы попрощались с Бобровым и Перышкиным и рванули на моторе домой. Прокатились с ветерком, да так, что на одном из поворотов едва не опрокинулись. Вот было бы обидно! И вся история страны пошла бы тогда со-овсем по-другому…
Я, грешным делом, думал, что дома меня встретят как героя, но я просто был в долгой отлучке по делам, меня очень ждали и вот наконец дождались. Были и смех, и слезы, были объятия и даже борьба на ковре. Младшенького Андрюху хлебом не корми, дай покувыркаться – интересно, в кого это и кем он станет, когда вырастет?
Я принял горячую ванну (бог ты мой!), оделся во все чистое. Оказывается, добротная, тщательно выстиранная и любовно выглаженная одежда способна привести в восторг почище золотой чемпионской медали. А потом я плюхнулся на застеленную постель. Перина как пух. Раскинул руки, покачался на упругих пружинах. Блаженство. Тридцать три раза блаженство!
Теперь у меня была своя комната! Раньше я жил вместе с близнецами, а здесь обитали мои двоюродные братья. Сейчас они отправлены по обмену учиться в интернат и-чу в Бангалоре.
В дверь постучали, но заглядывать в комнату не стали. Пора. Я вскочил на ноги, причесал влажные волосы и шагнул в коридор. Самые приятные минуты в жизни – предощущение счастья: на пороге, за один шаг, за один взмах руки, за один вздох до…
Вокруг праздничного стола собрались все Пришвины. В последние годы такое случалось не часто. Давненько я… Уж и сам порой не верил, что вернусь сюда, в эту суету и уют. Лишь сидя в окружении родных, поднимая рюмку можжевеловки (впервые на правах взрослого вместе с родителями), я почувствовал, до чего же я по ним по всем соскучился. И не расплакался я только потому, что все свои силы, волю свою, тренируемую который год, бросил сейчас в бой. Слишком стыдно. Я ведь теперь категорически взрослый. Больше нельзя пускать слезу. Ни-ког-да.
Тостов было много, я вскоре опьянел и перестал пить. Негоже терять контроль над своим телом, еще в походе я решил: никто не увидит меня дурным и слабым. Отец внимательно следил за мной весь вечер и явно был доволен старшим сыном.
Позже, когда торжественный обед был закончен, а время пить чай еще не пришло, народ разбрелся по дому и саду. Мать взяла меня за локоть и отвела в оранжерею. Меня окатило вечерней прохладой облетевшего сада, потом я окунулся в парной воздух оранжереи, будто войдя в деревенскую баню. Вскоре попривык, и он уже не казался мне столь влажным и горячим.
Глаза матери были грустные, всезнающие, но ведь даже Великие Логики не в силах заглянуть в будущее сквозь туман неопределенности. Она не сразу решилась заговорить, а потом сказала, что успела меня похоронить и даже поставила в церкви свечку за помин моей души.
Я удивился: куда это вдруг подевалась ее поразительная вера в то, что все будет хорошо? Оказывается, у нее и у отца было одно и то же видение: горкой наваленные тела мертвых солдат в мокрых серых шинельках и поверх всех лежу я – на спине, раскинув руки. В белой рубахе, почему-то без штанов, с багровым шаром между ног.
Затем мы вернулись в дом. Дети снова были в гостиной, ожидая, когда вынесут наше коронное блюдо – торт «Кедровый» со взбитыми сливками, орехами и саксонским шоколадом, и не было для них сейчас ничего важнее. Они даже перестали ссориться и драться, боясь, что кого-нибудь в наказание могут лишить долгожданного лакомства. Сидели за столом и вертели в руках десертные тарелки, звенели чайными ложками и серебряной лопаточкой для торта. А дед пригрелся в кресле-качалке у камина и задремал. Умиротворяющая картина. Я запомнил ее надолго. До сих пор помню во всех деталях, потому что все это было в последний раз – назавтра гостиной у нас не стало.
Ночью дом обстреляли из реактивного бомбомета. Два снаряда упали в саду, как будто стрелок поначалу нарочно мазал. Разворочена была одна из маминых розовых клумб, уже укутанная еловыми ветками и закрытая деревянным ящиком, разбиты стекла в оранжерее. От холода погибли лучшие цветы.
Третий снаряд угодил прямиком в гостиную, где, по счастью – в отсутствие гостей и подселенцев, которых власти боялись к нам посылать, – сегодня никто не спал. Взрывом разворотило тот самый старинный раздвижной обеденный стол, за которым только и могла разместиться вся семья целиком и где так удобно было раскладывать крупномасштабные карты. Было разбито огромное зеркало в оправе из драконьей кости – еще одна семейная реликвия, – и расколот бабушкин комод красного дерева. Из книжных шкафов вылетели узорные стекла. О порванной обивке диванов и разлетевшихся по гостиной опилках я уж не говорю.
Повскакав с постелей, мы с отцом, не сговариваясь, открыли стрельбу из окон. Дома ведь полно охотничьего оружия. И, как потом выразился квартальный надзиратель, злоумышленники пришли в испуг и спешно ретировались.
Чутье подсказывало нам, что враг уже далеко, опасность миновала, но мы выпускали в ночную черноту обойму за обоймой. Просто-напросто сдали нервы.
– Хватит!!! – не выдержав, закричала мать. – Еще больше детей напугали!
И мы прекратили. Пришвины собрались в холле второго этажа. Отец кутался в настоящий барский халат. Я успел натянуть тренировки. Мать была в ночной рубашке до полу, на плечах платок ангорской шерсти. Дед, утепленный клетчатым пледом, выглянул из дверей своей комнаты, которую он называл бункером.
– В кого палили, ребятки? – весело осведомился он.
– В наемников, – буркнул отец. – Трое их было. Уехали на моторе.
– Может, ты и номер его знаешь?
Отец покачал головой. Потом он долго спорил по телефону с Никодимом Ершовым: вызывать ему полицию или за расследование возьмется Гильдия. Спор был решен сам собою – в префектуру позвонили соседи.
Едва рассвело, на «пээре» в сопровождении двоих молодых детективов прикатил господин Бобров – бодрый, энергичный, ухоженный. Будто и не было нашего трехмесячного похода, проливных дождей с ледяным ветром, бессонных ночей, ложных тревог и всамделишных нападений, беспорядочной пальбы и снайперского отстрела верховых.
Будто не было и нашего странного разговора на подъезде к городу – о несостоявшейся подставе и грядущей опале.
– Доброе утро, господа. – Сегодня он был нарочито вежлив. – Как жаль, что ваше семейство продолжают преследовать неприятности. Что такое не везет и как с этим бороться…
– Нас, конечно, убивать не собирались, а только хотели припугнуть, – спокойно заговорил отец, впустив полицейских в дом. – Но я бы не стал называть хорошо спланированную и неплохо оплаченную акцию невезением.
– Все-то вы знаете… – недовольно пробурчал инспектор. – И зачем только нас с постелей поднимали?
– Фамилии хотелось бы узнать и адреса, – тем же ровным шлосом отвечал отец. – А уж дальше мы сами разберемся.
– Так дела не делаются, – показав глазами на детективов с лисьими лицами, отрезал Бобров. – Коли маховик закрутился, все будет строго по закону.
Отец не стал возражать. Он подмигнул мне, стоящему на лестнице, которая вела на второй этаж, и я подмигнул в ответ. Из огня да в полымя… Вернуться из затянувшейся, почти самоубийственной экспедиции, выдержать изнурительный карантин и, попав наконец домой, тут же нарваться на бомбометчиков. Разве мог я предполагать такое, подъезжая на рысях к Кедрину?
Разгромленная гостиная произвела на троицу впечатление. Проныр детективов Бобров послал осматривать дом и сад, а сам уселся на плетеный стул на веранде, запахнул расстегнутую было шинель и, когда мы с отцом сели поблизости, заговорил тихо, но с нажимом – словно упорно вбивал нам в головы свою негнущуюся правду:
– К моему великому сожалению… По возвращении я обнаружил, что позиции и-чу стали очень шаткими. И я настоятельно рекомендую не вступать в конфликт с властью в связи с этим нападением. Не устраивайте самостоятельных расследований. Тем более – самосуда. На сей раз я не смогу глядеть на ваши «проказы» сквозь пальцы. Я вынужден буду немедленно… – перевел дыхание, – арестовать вас и по завершении следствия передать органам правосудия, у которых на Гильдию испокон веку имеется огроменный зуб.
А сейчас – особо. Если найдется на кого свалить все кедринские беды, это сделают непременно и с большим шумом. Возможно, не обойдется и без губернских эмиссаров, мечтающих сделать карьеру, а значит, жаждущих крови. Города им не жаль – уедут, закончив командировку, и не вспомнят никогда. А тут потом хоть трава не расти… – Посмотрел на наши мрачные лица, и ему сразу стало легче. – Не играйте на руку мерзавцам. А я уж в свою очередь тоже постараюсь… – Инспектор не договорил.
– Мать честная! Это что такое?! – воскликнул детектив, осматривавший дом снаружи. – Идите сюда! Скорей!
Мы гурьбой вывалили из дверей и скатились по парадной лестнице. Долговязый «лис» махал нам рукой. На оконном стекле кухни обнаружились борозды – словно кто-то алмазными резцами цапанул. У меня ледяной клешней перехватило горло, так что минуту было не вздохнуть. Отец, прищурившись зачем-то, разглядывал оставленный ночным гостем след.
– Что скажете, мастер? – с любопытством в голосе осведомился господин Бобров.
– Если бы я не знал, что активный вервольф мертв, я бы решил… – Отец не договорил, с тревогой глядя на меня.
– Неужто еще один?.. – только и смог выдавить я из себя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































