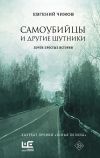Текст книги "Грустные и веселые события в жизни Михаила Озерова"
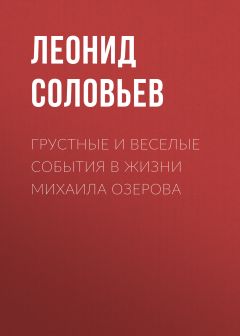
Автор книги: Леонид Соловьев
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Она должна была сказать Михаилу простую вещь – что осталась в четырнадцать лет сиротой и попала в плохую компанию. Дело кончилось, как обычно, – лагерями. Там Клавдия заработала полное снятие судимости, восстановление в гражданских правах и путевку со стипендией на профтехнические курсы. Остальное известно – для Клавдии началась настоящая жизнь. Большой, сияющий, светлый мир впервые открылся ее изумленным глазам, полный простых, но величественных чудес. Восходы и закаты, сверкающий короткий дождь, шумящий в полдень по молодой листве, и потом – семицветная радуга, поля и реки, тенистые густые леса, лунные ночи, соловьи, костры и песни над тихой заколдованной водой, милые хозяйственные хлопоты на вечеринках и пикниках, пироги в складчину, самовары, веселый цех с грузным седоусым начальником, подругами и товарищами, танцы в саду, драматический кружок и стенгазета в клубе и, наконец, самое большое чудо – Михаил. Даже недостатки его казались Клавдии достоинствами – нетерпеливость, вспыльчивость, особенно властность, которую она бессознательно поощряла: ей нравилось быть покорной и послушной ему.
Но его туманных стремлений и надежд Клавдия в глубине души не одобряла, видя в этом опасное чудачество. Все есть у парня, что ему еще нужно? Почему она, Клавдия, счастлива, довольна этой жизнью, а его все тянет куда-то? Она не понимала, что для нее эта жизнь была уже достигнутой высотой, а для него – только началом подъема; она завоевала эту жизнь, а он получил, как будто в подарок, готовую – сам ничего еще не завоевал и никуда не поднимался. Хотя сейчас они стояли в жизни рядом, но Клавдия смотрела больше вниз, в прошлое, наслаждаясь своей теперешней высотой, а Михаил, за неимением прошлого, смотрел вверх, в будущее, и тосковал по нему. Она уже испробовала силу и крепость своих крыльев, а он еще нет, она была спокойна, как всякий человек после большой победы, а он горячился и петушился, как перед боем. Клавдия, впрочем, надеялась, что со временем Михаил отрезвеет. У нее были на будущее простые и ясные планы – она хотела семьи. В ней текла мирная, честная кровь заботливой хозяйки; даже в разгульном воровском шалмане она пыталась, повинуясь инстинкту, заводить примус, кастрюли, скатерти, занавески, но ее дружок в плисовых штанах и сапожках, туго набитых мясом, все это немедленно пропивал, даже одежду и одеяла…
В Зволинске никто ничего не знал о Клавдии. Во всех ее анкетах против графы о судимости стояла черточка. Клавдия имела законное право не отвечать на вопросы подруг и товарищей о прежней жизни; если зачеркнуто, значит зачеркнуто. Где надо – знают, а остальным знать вовсе ни к чему. Она хорошо понимала, что всем доверяться не следует; земля населена не только друзьями, но и сплетниками, и дураками, и негодяями. На профтехнических курсах Клавдия получила жестокий урок – сказала, что приехала из лагерей, и этим отравила себе всю жизнь, даже хотела бросить курсы. Соседка по общежитию стала прятать на ночь свои часы, другая соседка – пышная, белая, с круглыми фарфоровыми глазами и толстым шепелявым языком, очень добрая, но столь же глупая, каждый день приставала с расспросами о похождениях: вся жизнь Клавдии представлялась ей цепью сплошных похождений на манер Соньки Золотой ручки или Рокамболя. Нашелся, конечно, и парень, встречавший Клавдию странными усмешками, нашлась жалостливая повариха, выбиравшая для Клавдии лучшие куски и причитавшая над ее тарелкой. Все это было одинаково нестерпимо. А в довершение всего явился развязный и прыщеватый молодой человек с фотоаппаратом и сказал, что намерен напечатать в местной газете статью под заглавием «От убийств и грабежей – к честному труду», необходим портрет Клавдии. Тут уж Клавдия не выдержала – были слезы, крик, валерьянка; молодой человек с фотоаппаратом благоразумно смылся; прибежал доктор. Клавдию кое-как успокоили. С этого дня все обидчики, вольные и невольные, притихли. Хороших, умных ребят было на курсах гораздо больше – они взяли Клавдию под защиту и помогли дотянуть до выпуска.
– Куда хочешь поехать? – спросил директор.
– Куда-нибудь подальше. – Подумав, Клавдия добавила: – И чтобы я одна…
Директор размашисто подписал путевку в Зволинское депо.
– Вперед будешь умнее. Тебя за язык не тянули. Получай. Едешь далеко. И одна. Давай руку.
На новом месте все было очень хорошо до тех пор, пока любовь с Михаилом не зашла так далеко, что Клавдии волей-неволей нужно было рассказать ему о себе. Она все выбирала момент поудобнее и никак не могла выбрать: для таких объяснений подходящих моментов, к сожалению, не существует. Не могла же она огорошить Михаила в самом начале, только что выслушав его бурное признание? Через месяц она думала, что говорить еще рано, так же думала и через два месяца, а на третьем почувствовала тревогу и беспокойство, убедившись, что любит всерьез. Много раз она окольными путями испытывала Михаила, чтобы заранее знать его ответ в решительную минуту, но он, открывая ей все, оставлял именно этот уголок, точно в насмешку, наглухо запертым и непроницаемым.
Она вспомнила сегодняшнее купание. Уже в третий раз Михаил порывался к ней, и все труднее было устоять, а главное – зачем. Но она боялась, что после никогда не решится сказать и будет ждать, когда он сам узнает. Нет! Она не согласна жить в таком унизительном, вечном страхе; пока что она еще свободна и, если Михаил откажется, сумеет перенести. Видали не такое! Очень ясно представилось ей, как все это будет: он, пряча глаза, глухо скажет: «Надо расстаться», – и с притворным зевком протянет руку. Она спрыгнула с подоконника, охваченная гордостью, негодующим волнением. Она заранее ненавидела Михаила. Лицу было жарко, выступил пот. «Я пойду и скажу!» Она кинулась к двери, но вспомнила, что Михаил сейчас на работе – не дома. Обессилев, она легла на кровать.
Она лежала долго, потом встала, зажгла лампу на тонкой выдвижной ножке, подошла к зеркалу: «А все-таки я красивая!» Эта мысль немного успокоила ее, она одернула кофточку, подкрасила губы, напудрилась, повязала шелковую косынку, что очень шла к ее синим глазам, примерила несколько улыбок – пошире, поуже, с блеском зубов и без блеска, остановилась на одной и долго изучала себя в зеркале, решая важный вопрос – очень она привлекательна или не очень, сможет Михаил отказаться от нее или не сможет. Решила, что очень привлекательна и он отказаться не сможет, – повеселела.
Донесся мягкий голос знакомого паровоза. Клавдия тихо подумала: «Поехал! Счастливого пути!» – и долго прислушивалась к затихающему железному ливню, что уходил все дальше и дальше в ночные поля.
3
Профиль пути на участке был сложным и трудным, особенно в сторону Москвы. На девятнадцатом километре от станции начинался крутой подъем; чтобы преодолеть его, нужно было все время с момента выезда держать в котле очень высокое давление пара.
– Михаил, сегодня мы будем делать еще одна маленькая экономия – полчаса.
Медленно, уверенно и точно ходили, отблескивая медью и сталью, дышла, шатуны, кривошипы и штоки, провертывая с тугим усилием пять пар тяжелых колес; в топке глухо ревело белое пламя, зыбкая стрелка манометра, подрагивая, висела над красной чертой, в стеклянной трубке колыхался водяной столбик; потный котел гудел и вибрировал, сдерживая напор атмосфер. Вытягивая на подъем тяжелый состав, паровоз дышал глубоко, мощно и ровно; впереди, в белом свете фонарей сияли рельсы. Вальде неторопливо и мудро поучал Михаила:
– Когда вы будете самостоятельно водить поезда и встретите такой подъем, то помните – самый главный правило – не дергать. Машинист, который дергает и горячит себя на подъем, не есть машинист, а есть сапожник. Сцепка может лопнуть, и вагоны пойдут назад в такой крутой спуск, и будут одни брызги! Это очень страшная штука – обрыв на такой подъем!
Ударил грохотом встречный поезд, мелькнул, обдавая Михаила горячим ветром, частя по его лицу обрывками света. Поезда разошлись – и опять всплыл спокойный голос Вальде:
– Вы есть молодой человек, Михаил, и в жизни вашей сейчас начался очень крутой подъем. Никогда не дергайте. Поднимайтесь вверх ровный ход и следите, чтобы в котле у вас…
Вальде указал на свою широкую, выпуклую грудь.
– Чтобы здесь у вас было всегда высокое давление.
Паровоз вышел на горизонталь и, набирая скорость, веселее и чаще стучал колесами. Вальде взглянул на часы.
– На этот подъем мы уже сэкономили шесть минут. Что вы делаете, Михаил! Никогда не открывайте перед семафор топка – очень слепит ваши глаза, и вы не различаете путевой сигнал.
…В одну из таких поездок Михаил был мрачен и молчалив. Вальде, конечно, заметил это.
– Что с вами?
– Так… Ничего.
Заметила и хозяйка, когда Михаил вернулся домой.
– Вы нездоровы, Миша?
– Нет, здоров. Просто так…
Он умылся, прошел в свою комнату и долго сидел, не притрагиваясь к чаю, накапливая в сердце обиду и гнев. На ветке, что заглядывала в окно, самозабвенно дрались взъерошенные воробьи, к ним с картузом наготове подкрадывался хозяйский сынишка; его босые ноги оставляли на рыхлых грядках глубокие следы. И слышался сердитый голос хозяйки:
– Куда, куда тебя черти несут? Грядки топчешь, чтоб тебя разорвало!
«Клава, – писал Михаил, – я не ожидал от тебя такого поступка. Почему ты не сказала мне прямо, что тебе нравится другой? Ты думаешь, я ничего не вижу? Если ты меня разлюбила, должна сказать прямо, а не двурушничать…»
Письмо не выходит. Вялые слова бессильны тронуть сердце Клавдии, в намеках не хватает горечи и насмешки.
Михаил порвал письмо, решив поговорить лично.
Он намеревался сегодня спросить Клавдию напрямик, что думает она об ухаживаниях Чижова, счетовода из конторы депо, и не пора ли ей сделать окончательный выбор. Этот Чижов уже целый месяц ухаживает за Клавдией. В его длинном лице, без улыбки и без румянца, в просто зачесанных волосах, в желтых немигающих глазах с крошечными зрачками было что-то неуловимое – этакий слабый, необъяснимый и неприятный запах его души. В депо не любили Чижова и звали почему-то «Кастанай». Он был молчалив, скрытен, даже купался всегда отдельно, на мелком месте, и в воду заходил не выше пояса, боясь утонуть. Потом тихим и ровным ходом ехал на своем стареньком велосипеде обратно, осторожно огибая каждый камушек и слезая с велосипеда перед каждым мостиком.
Михаил знал Чижова только по редким встречам в конторе, где приходилось иногда ругаться из-за неправильно подсчитанных премиальных. Не поднимая головы, Чижов листал ведомости, перекидывал бледными, приплюснутыми на концах пальцами костяшки счетов и, наконец, говорил:
– Вам причитается еще сорок рублей, а всего за месяц четыреста семьдесят.
Он протягивал ордер; в его желтых глазах светился какой-то странный огонь, и пальцы дрожали.
Вот этот самый Чижов и был соперником Михаила.
…Когда стемнело, Михаил в новом костюме и при галстуке явился в сад. Было очень душно – июньский вечер без ветра, без влаги; листья деревьев поникли в изнеможении, но звезды горели над электрическим заревом высоко и чисто, обещая ночью прохладу. В полутемной аллее Михаил замедлил шаги. За деревьями на танцевальной площадке играла музыка. Михаил знал, что Клавдия сейчас там и, наверное, не одна. Ну что же, очень хорошо, когда-нибудь надо поговорить всерьез! Он не из таких, Михаил Озеров, чтобы колебаться, трусить, бесконечно ждать. Он требует все или ничего! Он и так слишком долго молчал!
Он вышел из темноты на свет, к деревянному кругу. Лицо его выражало решимость и непреклонность. Среди танцующих он увидел Клавдию; так и есть – она шла в паре с Чижовым. Губы ее были полуоткрыты, глаза влажны, через тонкий шелк блузки просвечивали красные ленточки на плечах. Она ничего не замечала, увлеченная танцем, счастливая с другим. Она, может быть, и берегла себя для другого? Если бы Михаил не занимался так долго воспитанием своей воли, то ужасная мысль эта подбросила бы его на метр кверху. Но он только крепче стиснул кулаки в карманах и судорожно проглотил слюну, – нет, он не согнется, Михаил Озеров, он ничего не боится в жизни, готов ко всему! Теперь понятно, что хотела сказать ему Клавдия на реке.
Музыка оборвалась, толпа на деревянном круге поредела. Клавдия увидела Михаила, бросилась, радостная и раскрасневшаяся, к нему. Он встретил ее ледяным взглядом.
– Нам нужно серьезно поговорить, Клава.
– Даже серьезно!.. О чем это?
Он молча взял ее под руку, повел в сторону, подальше от фонарей. Чижов долго смотрел им вслед желтыми немигающими глазами.
Михаил и Клавдия шли молча. Широкая аллея незаметно переходили в тропинку, заросшую высокой травой; здесь в глубине сада не было электрических лампочек, светила сквозь деревья луна.
– Что-нибудь случилось, Миша? – спросила, наконец, Клавдия.
Он глухо ответил:
– Ты сама знаешь.
– Ничего я не знаю. Говори прямо.
– Брось, Клава. Я не дурак, и не разводи со мной дипломатии.
Она высвободила свою руку.
– Ты, Миша, стал ужасно грубый. Во-первых, я ни в чем не виновата – он ко мне подошел и пригласил, а тебя не было. Я хотела отказаться, да как-то неудобно…
– Конечно, конечно, – криво усмехнулся Михаил.
Клавдия вспыхнула.
– Ты не имеешь права со мной так разговаривать. Я тебе не жена и никто…
– И слава богу! – подхватил он. – Слава богу, что не жена.
– Ах, вот как! Еще не поздно, Миша. Мы оба свободны.
Михаил остановился, в упор посмотрел на Клавдию. Она смело встретила его взгляд.
– Ты не выспался, Миша. У тебя плохое настроение.
– Я могу уйти!
Он ждал, что Клавдия остановит его. Она спокойно подала руку. Он затянул пожатие, все еще ожидая каких-то слов, но Клавдия молчала. Он отпустил ее руку – не надо! Она вдруг поняла, что это всерьез, и рванулась к нему, но было уже поздно: он уходил размашистым шагом, высоко подняв голову. И в его походке, в том, что он ни разу не обернулся, Клавдия впервые по-настоящему почувствовала мужской гнев. Она бы крикнула, вернула, но помешал Чижов. Появившись откуда-то перед Клавдией, он заглянул ей в лицо и сказал:
– Идемте танцевать, Клавочка. Не беспокойтесь, я провожу вас домой.
…Это была первая серьезная размолвка между Михаилом и Клавдией. Прошла неделя, а они все еще не помирились, даже не разговаривали. В кино менялась программа – Михаил и Клавдия не видели новых картин, в саду каждый вечер играла музыка – Михаил и Клавдия не танцевали. Они совсем позабыли любимое место на реке, и теперь бородатый рыболов мог спокойно расставлять по берегу свои корявые удочки.
В душе Михаила тлела слабая надежда, что Клавдия опомнится и придет к нему с повинной головой; три вечера он отдежурил впустую на скамейке против большого трехэтажного дома. По утрам дворник, подметая улицу, ворчливо дивился: кто это мог набросать около одной скамейки столько окурков и почему все они брошены недокуренными даже до половины? Михаил не знал, что в эти же самые томительные часы Клавдия, тоскуя, ждет не дождется его на танцевальной площадке, вздыхает, грустит и, наконец, отчаявшись и ожесточившись, идет, назло ему, танцевать с Чижовым.
На следующий день услужливые друзья, встретив Михаила, докладывали:
– А Клава вчера в саду была и танцевала.
– Меня не интересует, с кем она танцевала, – отвечал Михаил. – Она вообще больше не интересует меня.
Встречаясь иногда с Клавдией где-нибудь в депо или в клубе, он безразлично и холодно кланялся ей и быстрым шагом проходил мимо без единого слова, без рукопожатия, унося на лице скорбную улыбку мудреца, познавшего всю тщету земных надежд. Ему было не легко – он даже похудел, бедный! Клавдия тоже измучилась, улыбка исчезла с ее лица. «Какие мы дураки, форменные дураки!» – думала она по ночам, сидя в одной рубашке на подоконнике, вся в лунном дыму. Давным-давно следовало бы им помириться и обменять свои мучения врозь на радость вместе, но между ними стояла гордость, эта вечная помеха в любовных делах. Как дорого порой обходится людям эта гордость: бессонные ночи, тоска, мрачное раздумье и, наконец, последняя, памятная на всю жизнь встреча, когда глаза, руки – все говорит: «Да, да!», но губы, искривленные гордостью, упрямо и жестко повторяют: «Нет!», или еще страшнее: «Никогда!» И сколько раз потом человек пожалеет об этом слове, глядя на пожелтевший дорогой портрет с прощальной надписью на обороте.
– Что случилось, Михаил? – спрашивал Вальде.
– Ерунда.
– Женщина, Михаил. Это обязательно женщина.
– Ничего подобного. Просто болит голова.
– Я знаю, когда у здоровый молодой человек начинает вдруг болеть голова. Она простужает себя, когда молодой человек напрасно ждет на свиданье. Но она никогда не простужает себя, если на свиданье приходят оба. У меня, Михаил, есть одна книга, там есть одно такое письмо, что если девушка читает его, то брызгает слеза и сердце рвет себя на мелкие части. О, какое это письмо! Его сочинил великий Дон Жуан! Если хотите, Михаил, я переведу это письмо на русский язык. Оно начинается так: «Дорогая, зачем я буду жить, если я есть сжигаемый в пламя любовь и есть убиваемый, как пуля, голубые глаза!..»
– Право же, ничего не случилось, товарищ Вальде.
– Еще я хотел сказать: у меня дома в палисадник есть много цветов. Приходите, и мы нарвем один красивый большой букет. Он может иногда хорошо помогать от головная боль.
…И снова ночь, храп хозяев за перегородкой, ветер, темнота за окном, и в страшной вышине, в разрыве тяжелых туч – одинокая голубая звезда. Это были часы тех раздумий, что оставляют морщины на лице. Михаил достал из ящика первую тетрадь сценария. В перечне действующих лиц под номером вторым значилось: «Клавдия, красивая девушка, 20 лет, среднего роста, блондинка, стриженая». Он зачеркнул эти строчки: «Мария, прекрасная девушка, 18 лет, брюнетка, высокого роста, с длинными волосами».
Все было кончено. Он один пойдет по дороге славы. Подруга не будет опираться на его сильную руку. Тем лучше! Довольно грустить, ты раскис, Михаил Озеров, разве зря ты занимался воспитанием воли по системе профессора Штейнбаха! Завтра свободный день, значит можно писать всю ночь. Осталось немного – всего две части, но почему не указал в своей книге профессор Штейнбах верного средства сразу забыть серые глаза, стриженые волосы, смуглые руки и короткое имя? Вот, например, в пятой части Иван Буревой разговаривает с девушкой по имени Мария, а перо само пишет заглавное «К». И почему нельзя легко зачеркнуть эту букву, чтобы не сжималось и не падало сердце?
4
Счетовод Чижов был человек завистливый и алчный. Лютая зависть терзала его душу беспрестанно, подобно зловредному чирею. Каждый рубль в чужих руках казался Чижову вытащенным из его кармана.
Особенно мучился он в дни составления полумесячных ведомостей на зарплату, когда против фамилий начальника депо, инженеров и машинистов писал цифры от пятисот и выше, а против своей фамилии – девяносто. Он завидовал пассажирам спальных пульмановских вагонов, прохожим в новых костюмах, читая газету – завидовал летчикам, изобретателям, спортсменам, артистам, стахановцам и уж совсем вконец добивало его коротенькое сообщение о каком-нибудь счастливце, выигравшем по займу пять тысяч. Словно пораженный вдруг электрическим током, он, бледнея, замирал на месте и долго сидел, покусывая тонкие губы, а в желтых немигающих глазах его медленно разгорался тусклый и мрачный огонь.
Да, ему нелегко жилось, счетоводу Чижову. Казалось, все человечество нарочно сговорилось поминутно тревожить его чирей. Он хотел в ответ презирать человечество – и не мог, потому что зависть несовместима с презрением, – ему оставалось только злобствовать.
Палимая постоянным жаром, истомленная беспрерывной лихорадкой, душа Чижова пожелтела, высохла, сморщилась и к моменту описываемых нами событий представляла собой уже не цветник, а скорее гербарий чувств. Но это не помешало ему влюбиться, если только можно назвать любовью тот беспокойный зуд, который он ощутил в себе недели через две после знакомства с Клавдией. Почти каждый вечер он встречался с нею в саду, танцевал, сидел на скамейке; говорил он мало, все больше молчал, глядя в лицо Клавдии так пристально, что она не выдерживала – отводила глаза.
Эту молчаливость Клавдия отметила про себя как неоспоримое достоинство Чижова. Разговаривать ей совсем не хотелось, все время она думала о своем.
Но Чижов был не такой человек, чтобы зря тратить время на игру в молчанку.
Однажды он удивил Клавдию вопросом: умеет ли она шить? Разговор происходил на скамейке, под общипанной акацией, ронявшей сухие стручки. На деревянном круге ревел оркестр и шаркали десятки ног. Клавдия пошутила в ответ:
– Вы хотите мне заказать что-нибудь? Я заказов не принимаю.
– А для себя? – серьезно спросил Чижов. Улыбки не было на его лица.
– Конечно, умею. Я все умею…
– Угм, – отозвался Чижов и замолчал на весь вечер. Он был уверен, что Клавдия отлично поняла скрытый смысл его вопроса.
Домой возвращались поздно, в первом часу. Луна пряталась в облаках, было темно, дышал ночной ветер. Чижов осторожно взял Клавдию под руку.
– Здесь кочки. Не споткнитесь.
Она шла, опустив голову. Чижов все плотнее прижимал ее локоть. Она даже не замечала. Все мысли ее были заняты Михаилом. Где он сейчас? Наверное, давно уже спит или сидит над своим сценарием. И вдруг охватило Клавдию такое нетерпение увидеть его лицо, услышать голос – хоть беги прямо сейчас, ночью, к нему домой! «Надо мириться. Не могу больше», – подумала она, краснея от стыда за свою слабость, но это был радостный стыд – не тяжелый. И тут же она решила уступить Михаилу во всем, позабыв даже гордость. «Ничего, – утешала она себя. – Когда-нибудь придет и он ко мне первый. Завтра напишу письмо, что я виновата. Пусть, хоть я и не виновата, но пусть… Я потом когда-нибудь скажу, что не виновата. Я напишу письмо…» Всю дорогу она сочиняла это письмо. Порой в ее мысли врывались со стороны чужие слова – это были слова Чижова. Он говорил что-то, но Клавдия слышала только обрывки и сейчас же теряла нить его голоса.
– Оклад у меня сто восемьдесят. Конечно, подрабатываю сверхурочными рублей семьдесят. Если поднажать – можно сто.
«Поднажать – можно сто», – поймала Клавдия. В это время она обдумывала, как лучше начать письмо: «Дорогой Миша» или просто «Миша». Ответила наугад:
– Совершенно верно… Конечно…
Чижов кашлянул, закурил папиросу, покосился при свете спички на голую шею Клавдии. Они уже свернули в переулок. Здесь было темно от деревьев, упруго рокотали в сырой канаве лягушки. Прощаясь, Чижов дольше обычного задержал в своей руке ее тонкую руку.
– Родители мои живут в городе Юрьевце, на Волге, – рассказывал он. – Виды там роскошные и климат здоровый… Дом – собственный, сад в полгектара. Одних яблок продают на восемьсот рублей с лишним. А в урожайный год – больше тысячи… Я единственный сын, наследник…
Помолчав, он добавил:
– Отцу – семьдесят лет. Матери – шестьдесят восемь.
Клавдия услышала только последнюю фразу. Сказала, открывая калитку:
– Совсем уже старенькие.
Чижов понял ее слова по-своему, как деловой, вполне законный вопрос.
– Года три, больше не вытянут, – ответил он. – Чуть ходят, больны оба. Желаю вам приятных сновидений. Спокойной ночи!
Из густой пахучей темноты палисадника донеслось:
– Спокойной ночи!
Но эта ночь была совсем не спокойная. В комнате Клавдии до рассвета горел огонь. Клавдия писала. Ее пальцы были вымазаны в чернилах. Письмо получилось длинное и бессвязное. «Позову его просто в сад, там все скажу на словах. Он меня любит, он придет. Скажу, что виновата, хоть и не виновата – пусть!..» Вместо письма Клавдия запечатала в конверт коротенькую записку с приглашением прийти в сад и потушила лампу, но уснуть все равно не смогла. Так и встретила утро с открытыми глазами. Птицы начинали в кустах свою суетливую работу, с крыши на подоконник падали, сияя и блестя в первых лучах, крупные капли росы.
А на другом конце поселка в хмуром казенном многоквартирном доме ворочался на скрипучей, расшатанной койке Чижов. Это была его последняя одинокая ночь. Вчерашний разговор Клавдии убедил его в том, что она согласна выйти замуж. Впрочем, он и раньше не сомневался в ее согласии, иначе зачем бы она стала тратить время на ежедневные встречи в саду? Человек солидный – тридцать четыре года, пьющий, но мало, имеет профессию – чем не муж? Тем более, предвидится наследство – собственный дом и сад в полгектара. Клавдия тоже была невеста вполне подходящая, как это выяснил Чижов, справившись в конторе о ее заработках и расспросив знакомых о ее поведении. К тому же она Чижову очень нравилась. Но комната, комната!..
Чижов обвел взглядом свою комнату. Действительно, это была комната мрачная, как подвал. Особенно неприглядной казалась она сейчас в сером утреннем свете: желтый потолок, голые, истыканные гвоздями стены, облупившаяся штукатурка, сизые окна, отсвечивающие мутной радугой. Обстановка небогатая – стол, табуретка, койка, вешалка и больше ничего! Точь-в-точь тюремная камера, не хватало только решетки в окне. «Довольно стыдно и даже нахально приводить жену в такую комнату», – подумал Чижов.
Он встал и, не теряя времени, принялся за ремонт. Разбудив соседа маляра, он попросил у него ведро и кисти. «Комнату отделываю», – пояснил Чижов. «Ага-а, – протянул заспанный маляр, поддергивая розовые подштанники, – жениться надумали, стало быть». Он был опытный маляр и знал, что люди не отделывают комнат просто так, от одной фантазии. Вернувшись в постель, он сообщил новость жене. «Поди ты! – заворчала жена. – Кто это пойдет за него, за Кастаная?»
Но когда на следующий день Чижов, весь заляпанный мелом, позвал ее вымыть в обновленной комнате пол и протереть стекла, она поверила. Подоткнув юбку, обнажив жилистые ноги, она принялась за работу. Чижов умылся, переоделся в белое и пошел в город. В походке его была медлительность, несвойственная ему раньше, на лице – торжественная строгость.
Вернулся он с подводой, нагруженной двухспальной кроватью, столом, гардеробом, двумя стульями и картиной в золотой раме. Поверх всего восседал босоногий возчик в красной вылинявшей рубахе, чернобородый и могучий. Телега завернула во двор. Сдержанному погромыхиванию колес отвечали мелодическим звоном пружины кровати. Чижов, потный и встрепанный, шел сзади – в правой руке был у него новенький сияющий примус, в левой – абажур для настольной лампы и чайник. Сейчас же изо всех окон высунулись любопытствующие физиономии. Возчик остановил лошадь, распутал веревки. Вдвоем с Чижовым они взялись за гардероб, огромный и такой тяжелый, словно это был несгораемый гардероб. Он занял сразу четверть комнаты, другую четверть заняла кровать. Потом в комнату были внесены стулья, картина – и дверь закрылась. Головы, торчащие из окон, начали многозначительно переглядываться, кивать, и пошел работать по всему двору телеграф улыбок и подмигиваний.
За дверью между тем послышался неясный гул, он все нарастал, усиливался и был слышен далеко – то грозно гудел и грохотал в тесной комнате могучий, негодующий бас возчика. Слова сливались, но было ясно, что возчик требует справедливости и, может быть, уже бьет Чижова. Дело в том, что возчик и Чижов друг друга стоили и при найме подводы нарочно договаривались о цене туманными словами, причем один надеялся содрать побольше, а другой дать поменьше. Коса нашла на камень, в комнате началась война. Гул все усиливался, наконец распахнулась дверь, и возчик появился на крыльце, весь пылающий гневом, с красным лицом, с растерзанной вздыбленной бородой.
– Вот они, люди! – сказал он с невыразимой горечью, как человек, обманутый в своих лучших надеждах. – Гардеробы покупают! – Он скорбно усмехнулся и добавил матерное.
Женщины начали поспешно закрывать окна, но это ничуть не смутило искателя справедливости. В порыве негодования он швырнул деньги на землю и загремел с новой силой:
– Книжки читает! Образованный! Сволота несчастная!
И долго еще он бушевал, стоя один посреди двора, поминая вперемежку налоги, овес, крест и печенку; был он страшен – люди попрятались от него в комнаты, куры – в курятник, собаки – в сарай, и только лошадь, видимо давно уже привыкшая к характеру своего хозяина и к его вечным поискам справедливости, мирно дремала у крыльца, изредка передергивая ушами. Наконец, утомившись, возчик подобрал деньги, уселся на телегу и, дабы выразить крайнюю степень презрения, уехал прямо через палисадник и огороды, оставляя за собой на капустных грядках две глубоко промятые колеи. Вслед ему неслись проклятия жильцов, но он даже не обернулся, величественный в своей драной рубахе, надуваемой ветром.
…Комната волшебно преобразилась. Чижов смотрел зачарованными глазами. Стены и потолок сияли ослепительной белизной, стекла в закрытом окне, казалось, исчезли совсем, – так чисто протерла их жена маляра, – и было странно, что звуки со двора доносятся глухо и ветер, играющий с листвой, не залетает в комнату. Гардероб отсвечивал красноватым лоском, стулья – черным, пол – желтым. И, глядя на широкую кровать с пружинным матрацем и никелированными шариками, на картину в золотой раме, на все это сияющее великолепие, Чижов понял, что если бы даже и захотел, то не смог бы переменить своего решения жениться. Такая комната не годилась для холостяка. Здесь все говорило о счастье вдвоем. В такой комнате любой самый закоренелый холостяк женился бы через месяц.
Чижов открыл гардероб. Пахнуло кисловатым запахом свежего дуба, смолой. Гардероб был пуст. Чижов повесил туда свой костюм, пальто, зимнюю шапку, но гардероб все равно оставался пустым. Его могли заполнить только платья. На столе не хватало скатерти, на постели – второй подушки. Чижов подумал с нежностью о Клавдии: такая милая, все молчит, только морщит брови. Что-то непонятное происходило в нем, какое-то размягчение души; если бы он посмотрел на себя в зеркало, то сам удивился бы новому свету в своем лице и глазах. И улыбка была у него хорошая, без ехидства, и губы не кривились на сторону – уже давно он так не улыбался. И странно было ему думать, что до сих пор он мог жить в одиночку, без Клавдии, в своей заплеванной, вонючей конуре. Все прошлое сливалось в одно серое, безрадостное пятно, точно бы до сих пор вообще ничего не было, целых тридцать четыре года ничего не было, а все начнется только завтра. Теплые приятные мысли охватили его: вот сидит хороший, добрый, простой человек, счетовод Чижов, все его любят, и он всех любит, и солнышко светит, и птички поют, травка растет – экая благодать!
Начиналось чудо, и, может быть, худосочная, воспаленная душа Чижова навсегда бы исцелилась любовью. Но этому чуду не суждено было завершиться, а начало его увидели только мальчишки, что гоняли голубей на крыше, немилосердно грохоча по железу босыми ногами. Когда Чижов вышел на крыльцо, мальчишки, присев за трубами, приготовились к бою: они знали, что сейчас Чижов будет ругаться душным, хриплым голосом. Обычно они отвечали ему дерзостями: «Кастанай! Кастанай! На-ко-ся выкуси! Большой, а дурак!» На этот раз они вместо ругани услышали кроткие слова:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!