Читать книгу "Стихи"
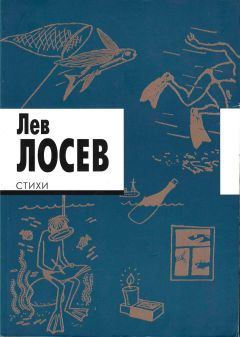
Автор книги: Лев Лосев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Доходят ли до тебя мои письма?
Я по-прежнему…
М.
По воскресеньям дети шли проверить,
по-прежнему ли плавают в бассейне
размокший хлеб с конфетною оберткой,
по-прежнему ли к проволоке вольера
приклеены пометом пух и перья,
по-прежнему ли подгнивает кость
на отсыревших от мочи опилках,
по-прежнему ли с нечеловеческой тоской
ревет кассирша в деревянной клетке.
Все оставалось на своих местах.
Палила пушка, но часы стояли.
Трамвай бренчал, но не съезжал с моста.
Река поплескивала, но не текла.
И мы прощались, но не расставались.
И только пресловутый невский ветер
куражился на диком перекрестке
меж зданий государственной мечети,
конструктивистского острога и
храмоподобья хамовитой знати,
насилуя прохожих в подворотнях,
так беспощадно плащи срывая, что
казался одушевленным.
Но ветер вдруг в парадной помер.
Подошел трамвай мой номер.
Все задвигалось, пошло.
И это все произошло
с поспешностью дурацкого экспромта.
Друг в прошлое запрыгал на ходу,
одной ногой в гноящемся аду,
другой ногой на движущемся чем-то.
«Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед…»Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
(переживший монгольское иго,
пятилетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига,
и под звуки падепатинера
Меттерних против нас танцевал;
под асфальтом все те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;
Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил с корешами посылки
и один персонально убег).
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка —
не пропить, так хоть ворот рвануть.
Памяти МосквыДлиннорукая самка, судейский примат.
По бокам заседают диамат и истмат.
Суд закрыт и заплечен.
В гальванической ванне кремлевский кадавр
потребляет на завтрак дефицитный кавьяр,
растворимую печень.
В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент,
прикупить нету денег.
Потому и застыл этот башенный кран.
Недостройка. Плакат
«Пролетарий всех стран, не вставай с четверенек!»
Памяти ПсковаКогда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы йогов,
умеющих задерживать дыхание
с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
(в ведомостях блокноты со стихами),
торчал в райцентре, где меня уж нет.
Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял свое и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.
Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им.
И я им говорил: «А ну дыхни».
«Понимаю – ярмо, голодуха…»«Понимаю – ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», – говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда – страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.
Чудесный десантВсе шло, как обычно идет.
Томимый тоской о субботе,
толокся в трамвае народ,
томимый тоской о компоте,
тащился с прогулки детсад.
Вдруг ангелов Божьих бригада,
небесный чудесный десант
свалился на ад Ленинграда.
Базука тряхнула кусты
вокруг Эрмитажа. Осанна!
Уже захватили мосты,
вокзалы, кафе «Квисисана».
Запоры тюрьмы смещены
гранатой и словом Господним.
Заложники чуть смущены —
кто спал,
кто нетрезв,
кто в исподнем.
Сюда – Михаил, Леонид,
три женщины, Юрий, Володи!
На запад машина летит.
Мы выиграли, вы на свободе.
Шуршание раненых крыл,
влачащихся по тротуарам.
Отлет вертолета прикрыл
отряд минометным ударом.
Но таяли силы, как воск,
измотанной ангельской роты
под натиском внутренних войск,
понуро бредущих с работы.
И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульянке, Гражданке, Энтеббе.
И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный нами понтон
на отмели подле Кронштадта.
Памяти Литвы(вальс)
Дом из тумана, как дом из самана,
домик писателя Томаса Манна,
добрый, должно быть, был бурш.
Долго ль приладить колеса к турусам —
в гости за речку к повымершим пруссам
правит повымерший курш.
Лиф поправляет лениво рыбачка.
Shit-c на песке оставляет собачка.
Мне наплевать, хоть бы хны.
Видно, в горячую кровь Авраама
влита холодная лимфа саама,
студень угрюмой чухны.
И, на лице забывая ухмылку,
ясно так вижу Казиса и Милду
в сонме Данут и Бирут.
Знаете, то, что нам кажется раем,
мы, выясняется, не выбираем,
нас на цугундер берут.
Вымерли гунны, латиняне, тюрки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не повымереть. Кто не повымер.
«Умер» зудит, обезумев, как «immer»,
в долгой зевоте jamais.
Вальс «Фактория»У моря чего не находишь,
чего оно не нанесет.
Вот так вот, походишь, походишь,
глядишь, Крузенштерн приплывет.
С приказом от адмиралтейства
факторию нашу закрыть,
простить нам все наши злодейства
и нас в Петербург воротить.
С Аринами спят на перинах
матросы. Не свистан аврал.
Пока еще в гардемаринах
спасительный тот адмирал.
Он так непростительно молод,
вальсирует, глушит клико.
Как бабочка, шпилем проколот
тот клипер. И так далеко.
«Под утро удалось заснуть, и вновь…»А лес в неведомых дорожках —
на деле гроб.
Так нас учил на курьих ножках
профессор Пропп.
Под утро удалось заснуть, и вновь
я посетил тот уголок кошмара,
где ко всему привычная избушка
переминается на курьих ножках,
привычно оборачиваясь задом
к еловому щетинистому лесу
(и лес хрипит, и хлюпает, и стонет,
медвежеватый, весь в сержантских лычках,
отличник пограничной службы – лес),
стоит, стоит, окошками моргает
и говорит: «Сия дуэль ужасна!»
К чему сей сон? При чем здесь Алешковский?
Куда идут ремесленники строем?
Какому их обучат ремеслу?
Они идут навстречу.
Здравствуй, племя
младое, незнакомое. Не дай
мне Бог увидеть твой могучий
возраст…
В полосе отчужденияВот
он
мир
Твой
тварный —
холод, слякоть, пар.
ЛЕНИНГРАД ТОВАРНЫЙ.
Нищенский товар.
Железного каната ржавые ростки.
Ведущие куда-то скользкие мостки.
Мясокомбината голодные свистки.
На лоне природыЧего там – каркай не каркай,
проворонили вы ее.
Над раздавленной товаркой
разгуливает воронье.
Красная лужица сохнет ярко.
И меткая ветка горда, уроня
источенное червями яблоко
на задроченного врачами меня.
1937–1947–1977На даче спят. В саду, до пят
закутанный в лихую бурку,
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.
* * *
Плакат с улыбкой Мамлакат.
И Бессарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник —
его прокуренный зубешник
все, все сумел перемолоть.
Не досчитаться дядь и теть.
В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса – «Таня». Книга – «Соть».
* * *
Господь, Ты создал эту плоть.
Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.
И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
«Возьми с собою сто рублей».
* * *
И по такой, грущу по ней.
«Под одеяло рук не прячь,
и вырастешь таким, как Хомич.
Не пи…ди у папаши мелочь.
Не плачь от мелких неудач».
«Ты все концы в войну не прячь».
(«Да и была ли, Ерофеич?» —
«Небось приснилась, Спотыкач».)
* * *
Мой дедушка – военный врач.
Воспоминаньем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой, в огромность
квартиры, наводящей грусть.
1974Знаешь ты, из чего состоит
отсырелый пейзаж Писарро,
так бери же скорее перо,
опиши нам, каков этот вид
штукатурки в потеках дождя,
в электричестве тусклом окно,
расплывающееся пятно
на холстинном портрете вождя,
этот мокрый снежок, что сечет
слово СЛАВА о левом плече
и соседнее слово ПОЧЕТ
с завалившейся буквою Ч.
Эта морось еще не метель,
но стучится с утра дотемна
в золотую фольгу, в канитель,
в сероватую вату окна.
Так бери же скорее перо,
сам не зная, куда ты пойдешь,
отступая от пасти метро
к мельтешению шин и подошв.
Ошалев от трамвайных звонков
воробей поучает птенца:
«Десять лет до скончанья веков
Ты родился в начале конца».
В кабинете Большого Хамла
поднимаются волны тепла,
и закрыто окно от дождя
трехметровой прической вождя.
Над чайком восходит парок.
Он читает в газете урок.
И гугнивый вождя говорок
телепается между строк.
Но владельцу роскошных палат
невдомек, что уж сутки подряд
дожидался Инфаркт в проходной.
«Нет приема, тебе говорят».
«Ничего, я зайду в выходной».
Коль до трещинки грязной знаком
штукатурный пейзаж Утрилло,
то бери поскорей помело,
облети этот город кругом.
Под тобою на мокрых путях
поезда, и блестит диабаз,
и старухи в очередях
выжидают последний припас,
перед тем как удариться ниц
в сероватую вату больниц.
Воробей где-то рядом поет,
с лету какает птенчик на Ч,
и следит твой прощальный полет
слово СЛАВА о левом плече.
Автобус из НарвыЭто так, в порядке бреда.
Едут рядом два техреда.
Предприятье «Фосфорит»
отравляет всю природу,
то есть почву, воздух, воду,
скоро всех нас уморит.
Тряская дорога. Пово-
рот. Кривит усмешка снова
рот. Уж триста лет подряд,
соревнуясь – кто зловонней,
Руссий, Пруссий и Ливоний
предприятия дымят.
Над откосом подожженным
возвышается донжоном
старый замок и в упор
видит русского соседа.
Между ними не беседа
через речку, а укор.
Русский замок – маразматик,
в обветшалый казематик
заползает вялый слизнь.
Это так – помарки в гранки,
заготовочки, болванки,
как и вся, вообще-то, жизнь.
«Спой еще, Александр Похмелыч…»Спой еще, Александр Похмелыч,
я тебя на такси отвезу…
Разгулялась пузатая мелочь,
подвывает, пускает слезу.
Он не станет. Его не упросит
даже эта в шуршащем шелку.
Он себе одному преподносит
что осталось у нас коньяку.
Табака, коньяка и катара
прогулялся по горлу наждак.
В свой чехол заползает гитара.
Заграничный напялен пиджак.
Изучает на скатерти пятна
наш певец, и усат, и носат,
и уже никому не понятно,
что творилось минуту назад.
Не наполнится сердце любовью
и на подвиг нас не поведет,
и тиран исторической бровью
истерически не поведет.
Водка выпита. Песенка спета.
Мы поели того и сего.
Как привязчива музыка эта.
Но важнее, важнее всего —
нет, не юмор, не хитрое что-то,
не карманчики с фигой внутри —
просто дерганье струн на три счета:
раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
«Я похмельем за виски оттаскан…»Я похмельем за виски оттаскан.
Не поднять тяжелой головы.
В грязноватом поезде татарском
подъезжаю к городу Москвы.
Под ногами глина чавк да чавк.
Вывески читаю: главк да главк.
Иностранец, уплативший трешку,
силится раскупорить матрешку.
В чайке едет вождь, скользя по ближним
взглядом приблизительно булыжным
(он лицом похож на радиатор
чайки). Нежно гладит гладиатор
(Главк), как кошку, мелкую бутылку,
благодать сулящую затылку.
…………………………………..
Я пойду в харчевню «Арарат».
Там полно галдящих и курящих.
Там вино, чеснок, бараний хрящик
по душам со мной поговорят.
«Под стрехою на самом верху…»Под стрехою на самом верху
непонятно написано ХУ.
Тот, кто этот девиз написал,
тот дерзнул угрожать небесам.
Сокрушил, словно крепость врагов,
ветхий храм наших дряхлых богов.
У небес для забытых людей
он исхитил, второй Прометей,
не огонь, голубой огонек —
телевизоры в избах зажег.
Он презрел и опасность и боль.
Его печень клюет алкоголь,
принимающий облик орла,
но упрямо он пьет из горла,
к дому лестницу тащит опять,
чтобы надпись свою дописать.
Нашей грамоты крепкий знаток,
он поставит лихой завиток
над союзною буквою И,
завершая усилья свои.
Не берет его русский мороз,
не берет ни склероз, ни цирроз,
ни тоска, ни инфаркт, ни инсульт,
он продолжит фаллический культ,
воплотится в татарском словце
с поросячьим хвостом на конце.
«Вот и осень. Такие дела…»Вот и осень. Такие дела.
Дочь сопливится. Кошка чумится.
Что ж ты, мама, меня родила?
Как же это могло получиться?
По-пустому полдня потеряв,
взять дневник, записать в нем хотя бы
«Вторник. Первое октября.
Дождик. Первое. Вторник. Октябрь».
К моему портрету,нарисованному моим сыном Дмитрием
Очки мои, покидающие
лица моего границы,
два светлосиреневых глаза,
очерк носа неясен,
водопадом из шоколада
вниз борода струится, —
наверное, никогда еще
не был я так прекрасен.
С бумаги струйки беглые
сбегают полосами,
от сырости бумага
совсем лишилась глянца,
а щеки мои белые,
как два японских флага,
и два больших румянца
восходят над усами.
Жалобы котаГоре мне, муки мне, ахти мне.
Не утешусь ни кошкой, ни мышкой.
Ах, темно в октябре, ах, темней
в октябре, чем у негра под мышкой.
Черт мне когти оставил в залог.
Календарный листок отрываю.
Увяжи меня, жизнь, в узелок,
увези на коленях в трамвае.
Или, чтобы скорее, в такси.
И, взглянув на народа скопленье,
у сердитой старухи спроси:
«Кто последний на усыпленье?»
«Умер проклятый грузинский тиран…»Умер проклятый грузинский тиран.
То-то вздохнули свободно грузины.
Сколько угля, чугуна и резины
он им вставлял в производственный план.
План перевыполнен. Умер зараза.
Тихо скончался во сне.
Плавают крупные звезды Кавказа
в красном густом кахетинском вине.
«На Аничков я вышел мост…»На Аничков я вышел мост,
увидел лошадиный хвост
и человечий зад;
промеж чугунных ног – шалишь,
не признак мужества, а лишь
две складочки висят.
А тот, кто не жалея сил
(бедня-) конягу холостил,
был сходства не лишен
с железным парнем из гб,
с чугунным пухом на губе,
хотя и нагишом.
Тут мимолетный катерок,
как милицейский ветерок,
промчался, изменя
Фонтанки мутное стекло.
Я понял: время истекло.
Буквально – из меня.
Я обезвременен, я пуст,
я слышу оболочки хруст,
сполна я порастряс
свои утра и вечера,
их заменить пришла пора
квадратами пространств.
Ступенек столь короткий ряд,
на коих, нет, не говорят
последние слова.
(И в этом смысле самолет
напоминает эшафот.)
Куда направлен твой полет,
шальная голова?
Отлети как будто легко я по трапу бежал,
в то же самое время я как будто лежал
неподвижен и счастлив всерьез,
удивляясь, что лица склоненных опухли от слез
и тогда вдруг что-то мелькнуло
в помертвелой моей голове,
я пальцами сделал латинское V
(а по-русски, состроил рога)
Помолитесь за меня, дурака.
Продленный день
и другие воспоминания о холодной погоде
На острове, хранящем имена
увечных девочек из княжеского рода,
в те незабвенные для сердца времена
всегда стояла теплая погода.
Нина Мохова
I
Я ясно вижу дачу и шиповник,
забор, калитку, ржавчину замка,
сатиновые складки шаровар,
за дерево хватаюсь, суевер.
Я ясно вижу – злится самовар,
как царь или какой-то офицер,
еловых шишек скушавший полковник
в султане лиловатого дымка.
Так близко – только руку протяни,
но зрелище порой невыносимо:
еще одна позорная Цусима,
японский флаг вчерашней простыни.
А на крыльце красивый человек
пьет чай в гостях, не пробуя варенья,
и говорит слова: «Всечеловек…
Арийца возлюби… еврей еврея…
Отсюда шаг один лишь, но куда?
До царства Божия? до адской диктатуры?»
Теперь опять зима и холода.
Оленей гонят хмурые каюры
в учебнике (стр. 23).
«Суп на плите, картошку сам свари».
Суп греется. Картошечка варится.
И опера по радио опять.
Я ясно слышу, что поют – арийцы,
но арии слова не разобрать.
IIПродленный день для стриженых голов
за частоколом двоек и колов,
там, за кордоном отнятых рогаток,
не так уж гадок.
Есть много средств, чтоб уберечь тепло
помимо ваты в окнах и замазки.
Неясно, как сквозь темное стекло,
я вижу путешествие указки
вниз, по маршруту перелетных птиц,
под взглядами лентяев и тупиц.
На юг, на юг, на юг, на юг, на юг.
Оно надежней, чем двойные рамы.
Напрасно академия наук
нам посылает вслед радиограммы.
«Я полагаю, доктор Ливингстон?»
В ответ счастливый стон.
Края, где календарь без января,
где прикрывают срам листочком рваным,
где существуют, обезьян варя,
рассовывая фиги по карманам.
Мы обруселых немцев имена
подарим этим островам счастливым,
засим вернемся в город над заливом —
есть карта полушарий у меня.
Вот желтый крейсер с мачтой золотой
посередине северной столицы.
В кают-компании трубочный застой.
Кругом висят портреты пустолицы.
То есть уже готовы для мальца
осанка, эполет под бакенбардом,
история побед над Бонапартом
в союзе с Нельсоном и дырка для лица.
Посвистывает боцман-троглодит.
На баке кок толкует с денщиками.
Со всех портретов на меня глядит
очкастый мальчик с толстыми щеками.
IIIЕвгений Шварц пугливым юморком
еще щекочет глотки и ладоши,
а кто-то с гардеробным номерком
уже несется получить галоши.
И вот стоит, закутан до бровей,
ждет тройку у Михайловского замка,
в кармане никнет скомканный трофей —
конфетный фантик, белая программка.
Опущен занавес. Погашен свет.
Смыт грим. Повешены кудель и пакля
на гвоздик до вечернего спектакля.
В театре хорошо, когда нас нет.
Герой, в итоге победивший зло,
бредет в буфет, талончик отрывая.
А нам сегодня крупно повезло:
мы очень скоро дождались трамвая.
Вот красный надвигается дракон,
горят во лбу два разноцветных глаза.
И долго-долго, до проспекта Газа,
нас будет пережевывать вагон.
IVИ он, трепеща от любви
и от близкой Смерти…
В. Жуковский
Над озером, где можно утонуть,
вдоль по шоссе, где могут раскорежить,
под небом реактивных выкрутас
я увидал в телеге тряской лошадь
и понял, в травоядное вглядясь,
что это дело можно оттянуть.
Все было, как в краю моем родном,
где пахнет сеном и собаки лают,
где пьют за Русь и ловят карасей,
где Клавы с Николаями гуляют,
где у меня полным-полно друзей.
Особенно я вспомнил об одном.
Неслыханный мороз стоял в Москве.
Мой друг был трезв, задумчив и с получки.
Он разделял купюры на две кучки.
Потом, подумав, брал с собою две.
Мы шли с ним в самый лучший ресторан,
куда нас недоверчиво впускали,
отыскивали лучший столик в зале,
и всякий сброд мгновенно прирастал.
К исходу пира тяжелел народ,
и только друг мой становился легок.
Тут выяснялось, что он дивный логик
и на себя все объяснить берет.
Он поднимался в свой немалый рост
средь стука вилок, кухонной вонищи
и говорил: «Друзья, мы снова нищи,
и это будет наш прощальный тост.
Так выпьем же за стройный ход планет,
за Пушкина, за русских и евреев
и сообщением порадуем лакеев
о том, что смерти не было и нет».
V…в «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а, может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Все это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.
Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был желт, и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый, Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.
И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.
VIМой самый лучший друг и полувраг
не прибирает никогда постели.
Ого! за разговором просидели
мы целый день. В окошке полумрак,
разъезд с работы, мартовская муть,
присутствие реки за два квартала,
и я уже хочу, чтоб что-нибудь
нас от беседы нашей оторвало,
но продолжаю говорить про долг,
про крест, но он уже далече.
Он, руки накрест, взял себя за плечи
и съежился, как будто он продрог.
И этим совершенно женским жестом
он отвергает мой простой резон.
Как проницательно заметил Гершензон:
«Ущербное одноприродно с совершенством».









































