Читать книгу "Стихи"
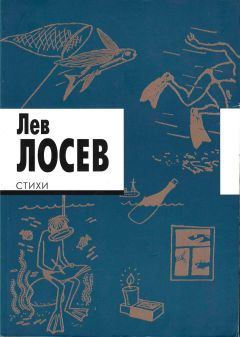
Автор книги: Лев Лосев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время погружался взглядом
в мерцающую груду хрусталя,
нависшую застывшим водопадом:
там умирал последний огонек,
и я его спасти уже не мог.
На сцене барин корчил мужика,
тряслась кулиса, лампочка мигала,
и музыка, как будто мы – зека,
командовала нами, помыкала,
на сцене дама руки изломала,
она в ушах производила звон,
она производила в душах шмон
и острые предметы изымала.
Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь – фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы
пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!» —
и солнце гладит бархатные шторы.
Там, за окном, в Михайловском саду
лишь снегири в суворовских мундирах,
два льва при них гуляют в командирах
с нашлепкой снега – здесь и на заду.
А дальше – заторошена Нева,
Карелия и Баренцева лужа,
откуда к нам приходит эта стужа,
что нашего основа естества.
Все, как задумал медный наш творец, —
у нас чем холоднее, тем интимней,
когда растаял Ледяной дворец,
мы навсегда другой воздвигли – Зимний.
И все же, откровенно говоря,
от оперного мерного прибоя
мне кажется порою с перепоя —
нужны России теплые моря!
Подписи к виденным в детстве картинкам1
Молился, чтоб Всевышний даровал
до вечера добраться до привала,
но вот он взобрался на перевал,
а спуска вниз как бы и не бывало.
Художник хмурый награвировал
верхушки сосен в глубине провала,
вот валунов одетый снегом вал
там, где вчера лавина пировала.
Летел снег вниз, летели мысли вспять,
в сон сен-бернар вошел вразвалку с неким
питьем, чтоб было слаще засыпать
и крепче спать засыпанному снегом.
2
Болотный мох и бочажки с водой
расхристанный валежник охраняет,
и христианства будущий святой
застыл в кустах и арбалет роняет.
Он даже приоткрыл слегка уста,
трет лоб рукой, глазам своим не веря,
увидев воссияние креста
между рогов доверчивого зверя.
А как гравер изображает свет?
Тем, что вокруг снованье и слоенье
штрихов, а самый свет и крест – лишь след
отсутствия его прикосновенья.
З
Штрих – слишком накренился этот бриг.
Разодран парус. Скалы слишком близки.
Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близко брег,
где водоросли, валуны и брызги.
Штрих – мрак. Штрих – шторм. Штрих – дождь.
Штрих – ветра вой.
Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты.
Лишь крошечный кружочек световой —
иллюминатор кормовой каюты.
Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он ее читает.
4
Змей, кольцами свивавшийся в дыре,
и тело, переплетшееся с телом, —
гравер, не поспевавший за Доре,
должно быть, слишком твердыми их сделал.
Крути картинку, сам перевернись,
но в том-то и загадочность спирали,
что не поймешь – ее спирали вниз
иль вверх ее могуче распирали.
Куда, художник, ты подзалетел —
что верх да низ! когда пружинит звонко
клубок переплетенных этих тел,
виток небес и адская воронка.
5
Мороз на стеклах и в каналах лед,
автомобили кашляют простудно,
последнее тепло Европа шлет
в свой крайний город, за которым тундра.
Здесь конькобежцев в сумерках едва
спасает городское освещенье.
Все знают – накануне Рождества
опасные возможны посещенья.
Куст роз преображается в куст льда,
а под окном, по краешку гравюры,
оленей гонят хмурые каюры.
Когда-нибудь я возвращусь туда.
Против музыки
Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.
Путеводитель
«Лучок нарезан колесом…»

Л. Лосев (1937–?). НАТЮРМОРТ. Бумага, пиш. маш. Неоконч.
Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин пишут миртовые рощи. Мы сегодня нашустрим чего-нибудь попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку, Васена, натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсиона. От Невы неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет. Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюрморта… Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень, темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч Еще одна картина Графин, графленый угольком, граненой рюмочки коснулся знать художник под хмельком заснул не проснулся.
СонетМне памятник поставлен в кирпиче,
с пометой воробьиной на плече
там, где канал не превращает в пряжу
свою кудель и где лицом к Пассажу
сидит писатель с сахаром в моче
в саду при Александр Сергеиче,
и мне, глядящему на эту лажу,
дождь по щекам размазывает сажу.
Се не со всех боков оштукатурен
я там стою, пятиэтажный дурень,
я возвышаюсь там, кирпичный хрыч.
Вотще на броневик залез Ильич —
возносится превыше мой кирпич,
чем плешь его среди больниц и тюрем.
ПутешествиеВ. Максимову
Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.
В. Уфлянд
В парке оркестр занялся дележом.
Палочкой машет на них дирижер,
распределяет за нотою ноту:
эту кларнету, а эту фаготу,
эту валторне, а эту трубе,
то, что осталось, туба, тебе.
В парке под сводами грабов и буков,
копятся горы награбленных звуков:
черного вагнера, красного листа,
желтого с медленносонных дерев —
вы превращаетесь в социалиста,
от изобилия их одурев.
Звуки без смысла. Да это о них же
предупреждал еще, помнится, Ницше:
«Ах, господа, гармоническим шумом
вас обезволят Шуберт и Шуман,
сладкая песня без слов, господа,
вас за собой поведет, но куда?»
В парке под музыку в толпах гуляк
мерно и верно мерцает гулаг,
чешутся руки схватиться за тачку,
в сердце все громче лопаты долбеж.
Что ж ты, душа, за простую подачку
меди гудящей меня продаешь?
К. Верхейлу
На руках у дамы умер веер.
У кавалера умолкла лютня.
Тут и подкрался к ним Вермеер,
тихая сапа, старая плутня.
Свет – но как будто не из окошка.
Европа на карте перемешалась.
Семнадцатый век – но вот эта кошка
утром в отеле моем ошивалась.
Как удлинился мой мир, Вермеер,
я в Оостенде жраал уустриц,
видел прелестниц твоих, вернее,
чтения писем твоих искусниц.
Что там в письме, не memento ли mori?
Все там будем. Но серым светом
с карты Европы бормочет море:
будем не все там, будем не все там.
В зале твоем я застрял, Вермеер,
как бы баркас, проходящий шлюзы.
Мастер спокойный, упрятавший время
в имя свое, словно в складки блузы.
Утро. Обратный билет уже куплен.
Поезд не скоро, в 16.40.
Хлеб надломлен. Бокал пригублен.
Нож протиснут меж нежных створок.
Т. и Д. Чемберс
Опухшее солнце Ла-Манша,
как будто я лишку хватил,
уставилось, как атаманша,
гроза коммунальных квартир.
Ну, что ты цепляешься к Лёше —
я пролил, так я и подтер.
Вон – ванночки, боты, калоши
захламили твой коридор.
Да, правда, нас сильно качает:
то к бару прильни, то отпрянь.
Я слышу начальника чаек
приказы, капризы и брань.
И я узнаю в ледоколе,
бредущем в Клайпеду, домой,
родные черты дяди Коли
с отвислой российской кормой.
Уже начинает смеркаться,
начальник своих разогнал,
а он начинает сморкаться —
о, трубный тоскливый сигнал!
Качается нос его красный,
а сзади, довольный собой,
висит полинялый и грязный
платочек его носовой.
С. Маркишу
В Женеве важной, нет, в Женеве нежной,
в Швейцарии вальяжной и смешной,
в Швейцарии со всей Европой смежной,
в Женеве вежливой, в Швейцарии с мошной,
набитой золотом, коровами, горами,
пластами сыра с каплями росы,
агентами разведок, шулерами,
я вдруг решил: «Куплю себе часы».
Толпа бурлила. Шла перевербовка
сотрудников КЦГРБУ.
Но все разведки я видал в гробу.
Мне бы узнать, какие здесь штамповка,
какие на рубиновых камнях,
водоупорные и в кожаных ремнях.
Вдруг слышу из-под щеточки усов
печальный голос местного еврея:
«Ах, сударь, все, что нужно от часов,
чтоб тикали и говорили время».
«Чтоб тикали и говорили время…
Послушайте, вы это о стихах?»
«Нет, о часах, наручных и карманных…»
«Нет, это о стихах и о романах,
о лирике и прочих пустяках».
В. Марамзину
Не в первый раз волны пускались в пляс,
видно, они нанялись бушевать поденно,
и по сей день вижу я смуглый пляж,
плешь в кудельках, седых кудельках Посейдона.
Сей старичок отроду не был трезв,
рот разевает, и видим мы род трезубца,
гонит волну на Довиль, на Дюнкерк, на Брест,
зыбкие руки, руки его трясутся.
Это я помню с детства, с войны: да в рот
этих союзничков, русскою кровью, мать их.
Вот он, полегший на пляжах второй фронт,
о котором мечтали на госпитальных кроватях.
Под пулеметы их храбро привел прилив.
Хитрый туман прикрывал корабли десанта.
Об этом расскажет тот, кто остался жив.
Кто не остался, молчит – вот что досадно.
Их имена, Господи, Ты веси,
сколько песчинок, нам ли их счесть, с размаху
мокрой рукой шлепнет прибой на весы.
В белом кафе ударник рванет рубаху.
В белом кафе на пляже идет гудьба.
Мальчик громит марсиан в упоении грозном.
Вилкой по водке писано: ЖИЗНЬ И СУДЬБА —
пишет в углу подвыпивший мелкий Гроссман.
Третью неделю пьет отпускник, пьет,
видно, он вьет, завивает веревочкой горе.
Бьет барабан. Бьет барабан. Бьет.
Море и смерть. Море и смерть. Море.
В. Казаку
Что я вспомню из этих дней и трудов —
с колоколен Кельна воскресную тишь,
некоторое количество немецких городов,
высокое качество остроконечных крыш,
одиночество, одиночество, одиночество, один
день за другим одиноким днем,
наблюдение за почтальоном из-за гардин,
почтовый ящик с рекламкой в нем,
превращение Америки в слово «домой»,
воркотню Би-Би-Си с новостями дня,
отсутствие океана между мной
и местом, где нет меня.
Тринадцать русскихМарт-август 1984
Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.
Воздуху! – как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, – и вот ты уже в роще,
в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.
Встретишь в берлоге единоверца,
не разберешь – человек или зверь.
«Е-ё-ю-я», – изъясняется сердце,
а вырывается: «ъ, ы, ъ».
Видно, монахи не так разрезали
азбуку: за буквами тянется тень.
И отражается в озере-езере,
осенью-есенью,
олень-елень.
Бахтин в СаранскеКапуцинов трескучие четки.
Сарацинов тягучие танцы.
Грубый гогот гог и магог.
«М. Бахтин, – говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки, —
не ахти какой педагог».
Хотя не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике сером
не студентик зундит, дьяволок:
«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego —
с этим городом твой диалог».
Мировая столица трахомы.
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.
Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят.
Здесь от храма распятого Бога
только щебня осталось немного.
В заалтарьи бурьян и пырей.
Старый ктитор в тоске и запое
возникает, как клитор, в пробое
никуда не ведущих дверей.
Вдоволь здесь погноили картошки,
книг порвали, икон попалили,
походили сюда за нуждой.
Тем вернее из гнили и пыли,
угольков и протлевшей ветошки
образуется здесь перегной.
Свято место не может быть пусто.
Распадаясь, уста златоуста
обращаются в чистый компост.
И протлевшие мертвые зерна
возрождаются там чудотворно,
и росток отправляется в рост.
Непонятный восторг переполнил
Бахтина, и профессор припомнил,
как в дурашливом давешнем сне
Голосовкер стоял с коромыслом.
И внезапно повеяло смыслом
в суете, мельтешеньи, возне.
Все сошлось – этот город мордовский.
Глупый пенис, торчащий морковкой.
И звезда. И вселенная вся.
И от глаз разбегались морщины.
А у двери толкались мордвины,
пересдачи зачета прося.
Истолкование ЦелковаВорс веревки и воск свечи.
Над лицом воздвижение зада.
Остальное – поди различи
среди пламени, мрака и чада.
Лишь зловеще еще отличим
в черной памяти-пламени красок
у Целкова период личин,
«лярв» латинских, по-нашему «масок».
Замещая ландшафт и цветы,
эти маски в прорехах и дырах
как щиты суеты и тщеты
повисали в советских квартирах.
Там безглазо глядели они,
словно некие антииконы,
как летели постылые дни,
пился спирт, попирались законы.
Но у кисти и карандаша
есть движение к циклу от цикла.
В виде бабочки желтой душа
на холстах у Целкова возникла.
Из личинок таких, что – хана,
из таких, что не дай Бог приснится,
посмотри, пролезает она
сквозь безглазого глаза глазницу.
Здесь присела она на гвозде,
здесь трассирует молниевидно.
На свече, на веревке, везде.
Даже там, где ее и не видно.
СтансыРасположение планет
и мрачный вид кофейной гущи
нам говорят, что Бога нет
и ангелы не всемогущи.
И все другие письмена,
приметы, признаки и знаки
не проясняют ни хрена,
а только топят все во мраке.
Все мысли в голове моей
подпрыгивают и бессвязны,
и все стихи моих друзей
безо́бразны и безобра́зны.
Когда по городу сную,
по делу или так гуляю,
повсюду только гласный У
привычным ухом уловляю.
Натруженный, как грузовик,
скулящий, как больная сука,
лишен грамматики язык,
где звук не отличим от звука.
Дурак, орущий за версту,
болтун, уведший вас в сторонку,
все произносят пустоту,
слова сливаются в воронку,
забулькало, совсем ушло,
уже слилось к сплошному вою.
Но шелестит еще крыло,
летящее над головою.
Вплоть до адаКлирос, иконостас, пылесос
красный, т. наз. «Страшный суд».
Еще, так сказать, большой вопрос,
кого в утробу эту всосут.
…………………………………..
Тем, кто только сумел провиниться,
т. е. пропитаться насквозь винцом,
тем Ведмедь, Гибернатор Полярной Провинции,
расскажет сказку с плохим концом.
Тем, кто грехом своим сам терзается,
как то вожделенец, болтун, педераст,
тем в наказанье письмо затеряется,
приезжий привета не передаст.
Журналистам, редакторам (до зав. отдела)
и тем, кто халтурил путем иным,
сто лет в наказанье за это дело
учить наизусть Вознесенского, им
фальшиво Шопена слабают лабухи.
Но тянет смолой и серой всерьез
от вечных котлов для тех, кто в Елабуге
деньжат не подбросил, еды не принес.
ФедраВ каком-то музейном зале, помню —
занавеску отдернуть и снова завесить —
«Федра, охваченная любовью».
Федра, охваченная любовью;
вокруг народу человек десять:
пара кормилиц, пара поэтов,
полдюжины шарлатанов различной масти,
специалистов по даванию советов
по преодолению преступной страсти.
Ах, художник, скажи на милость,
зачем их столько сюда набилось?
В твоей гравюрке, художник, тесно,
здесь пахнет потом, а не искусством.
А просто всем поглядеть интересно
на Федру, охваченную столь странным чувством.
Слегка заплетаясьЛьется дождь как из ведра.
Бог, рожденный из бедра,
победил меня сегодня
прямо с самого утра.
Не послать ли нам гонца?
Не заклать ли нам тельца?
То есть часть тельца (заклаем?) —
нам всего не съесть тельца.
Раздается странный стук.
Это я кладу в сундук —
то есть я кладу в кастрюлю
кость телячью, плоть и тук[1]1
Вырываю два листочка из лаврового венца.
[Закрыть].
Мой телец кипит, кипит.
Хочется с копыт, с копыт.
Но у нас еще графинчик
абсолютно не допит.
Эй, подать его сюды!
В нем награда за труды:
на две пятых – бог забвенья,
на три пятых – бог воды[2]2
Смысл стихотворения: в дождливый день автор пьет водку и варит телятину.
P. S. «Бог, рожденный из бедра» – Бахус.
P. P. S. Последние две строки – перифрастического описание сорокоградусной водки.
[Закрыть].
(докторская диссертация)

Примечания
1 См. латинский словарь. Ср. имя бабушки Гете.
2 Ср. то, что Набоков назвал «летейская библиотека».
3 Этих зову «дурачки» (см. протопоп Аввакум).
4 Ср. ср. ср. ср. ср. ср.
5 (…) Иванович (1937–?).
6 Бродский. Также ср. Пушкин о «рубище» и «певце», что, вероятно, восходит к Го-рацию: purpureus pannus.
7 См. см. см. см. см. см. см.!
Открытка из Новой Англии. 1Иосифу
Студенты, мыча и бодаясь, спускаются к водопою,
отплясал пять часов бубенчик на шее библиотеки,
напевая, как видишь, мотивчик, сочиненный тобою,
я спускаюсь к своей телеге.
Распускаю ворот, ремень, английские мысли,
разбредаются мои инвалиды недружным скопом.
Водобоязненный бедный Евгений (опять не умылся!)
припадает на ударную ногу, страдая четырехстопьем.
Родион во дворе у старухи-профессорши колет дровишки
(нынче время такое, что все переходят опять на печное),
и порядком оржавевший мой Холстомер, норовивший
перейти на галоп, оторжал и отправлен в ночное.
Вижу, старый да малый, пастухи костерок разжигают,
существительный хворост с одного возжигают глагола,
и томит мое сердце и взгляд разжижает,
оползая с холмов, горбуновая тень Горчакова.
Таково мы живем, таково наши дни коротая,
итальянские дядьки, Карл Иванычи, Пнины, калеки.
Таковы наши дни и труды. Таковы караваи
мы печем. То ли дело коллеги.
Вдоль реки Гераклит Ph. D. выдает брандылясы,
и трусца выдает, и трусца выдает бедолагу,
как он трусит, сердечный, как охота ему адидасы,
обогнавши поток, еще раз окунуть в ту же влагу.
А у нас накопилось довольно в крови стеарина —
понаделать свечей на февральскую ночку бы сталось.
От хорея зверея, бедной юности нашей Арина
с той же кружкой сивушною, Родионовна, бедная старость.
Я воздвиг монумент как насест этой дряхлой голубке.
– Что, осталось вина?
И она отвечает: – Вестимо-с.
До свиданья, Иосиф. Если вырвешься из мясорубки,
будешь в наших краях, обязательно навести нас.
Л.
P. S.
Генеральша Дроздова здорова. Даже спала опухоль с ног
(а то, помнишь, были как бревна).
И в восторге Варвара Петровна —
из Швейцарий вернулся сынок.
Выписки из русской поэзииЛ.
Из музыкальной школы звук гобоя дрожал, и лес в ответ дрожал нагой. Я наступил на что-то голубое. Я ощутил бумагу под ногой. Откуда здесь родимой школы ветошь, далекая, как детство и Москва? Цена 12 коп., и марка «Светоч», таблица умножения, 2 х 2…
Кн. Шаховской-Харя
вечно в опале у государя.
Полжизни – то в Устюге, то в Тобольске.
Видимо, знал по-польски.
Единственный друг – дьяк
Васильев Третьяк.
Полоцкий Симеон
Сочинял Рифмологион.
Лучшие рифмы:
похотети – имети
молися – слезися
творити – быти
Евстратий
сочинял в виде рыбки.
Делал ошибки.
Козанский 2-й
При императоре-преобразователе Петре
ввел в России употребление тире (—)
и яблочного пюре.
Умер, тоскуя о вырванной ноздре.
Кантемир (Молдавия)
Латынь! утратив гордые черты,
пристойный вид и строгую осанку,
в неряшливую обратясь славянку,
полуцыганкой – вот чем стала ты.
Не лебедь дивная, а глупая гусыня,
аморе петь забыв, бормочешь пыня.
Откидывает с винной кружки крышку,
макает пальцами в баранье сало хлеб,
лелеет долгожданную отрыжку,
бабенку загоняет в скотий хлев.
И пробирает скользкий ходунок
нечесаную хамку между ног.
Андрей Белобоцкий
Ах, червячки. Ах, бабочки в траве.
Кудрявые утесы. Водоносы…
Все те, кто знали грамоте в Москве,
писали только вирши да доносы.
Его же столь лелеемый диплом,
полученный в стенах Вальядолида,
для них был точно горькая обида —
ну как тут не прослыть еретиком.
Но тут они хватили через край.
Он получает повышенье в чине.
Но тут подводит знание латыни,
и он командируется в Китай
в состав посольства (видимо, Москва
беседует с Пекином на вульгате)…
Запас вина иссяк до Рождества,
но пристрастился к опиуму кстати.
Китайский Рим. Патриции в шелку
в поляке презирают московита.
Посол лютует. Интригует свита.
И надо быть все время начеку.
О Матерь Божия, куда я занесен.
Невольно появляются сомненья
в реальности. «La vida es sueño.»
«Жизнь это сон». Как дальше? «Это сон…»
От диарреи бел, как молоко,
средь желтых уток белая ворона,
пан Анджей тщится вспомнить Кальдерона.
Испанский забывается легко.
Кантемир (Петербург)
Не натопить холодного дворца.
Имея харю назамен лица,
дурак-лакей шагает, точно цапля,
жемчужна на носу повисла капля.
В покоях вонь: то кухня, то сортир.
Ах, невозможно не писать сатир.
Петров
На пегоньком Пегасике верхом
как сладко иамбическим стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.
О, Государыня, кротка твоя улыбка,
полнощные полмира озарив,
волшебное, подобное как рыбка,
зашито в твой атласный лиф.
Но Государыня изволила из драть.
Ну что ж, поэт, последний рубь истрать.
Рви волосы на пыльном парике
среди профессоров в дешевом кабаке.
Одописание – опасная привычка,
для русского певца нормальный ход.
Живое и подобное как птичка
за пазухой шинельных од.
Батюшков
(Der russische Walzer)
Ты мне скажешь – на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают?
На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?
Бормотал, что мол что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз между прочим дубил,
промораживал стены из бревен.
Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.
С мутной каплей на красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.
Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.
Пушкин
Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги – слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слезы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.
Подведи их под благословенье.
Что еще? Одно стихотворенье.
Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печатню нумер.
Письмецо, что не успел прочесть.
В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки, всего важнее честь.
Ну, вот и все. Я вспоминаю вчуже пустой осенний выморочный день, на берегу большой спокойной лужи, где желтая качалась дребедень, тетрадку, голубевшую уныло, с названьем недвусмысленным – «Тетрадь». Быть может, поднимать не нужно было, а, может быть, не стоило терять.









































