Текст книги "Стихи"
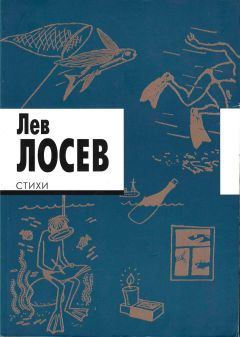
Автор книги: Лев Лосев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И жизнь положивши за други своя,
наш князь воротился на круги своя,
и се продолжает, как бе и досель,
крутиться его карусель.
Он мученическу кончину приях.
Дружинники скачут на синих конях.
И красные жены хохочут в санях.
И дети на желтых слонах.
Стреляют стрельцы. Их пищали пищат.
И скрипки скрипят. И трещотки трещат.
Князь длинные крылья скрещает оплечь.
Внемлите же княжеску речь.
Аз бех на земли и на небе я бе,
где ангел трубу прижимает к губе,
и все о твоей там известно судьбе,
что неинтересно тебе.
И понял аз грешный, что право живет
лишь тот, кто за другы положит живот,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
чего же нам брюхо стеречь.
А жизнь это, братие, узкая зга,
и се ты глядишь на улыбку врага,
меж тем как уж кровью червонишь снега,
в снега оседая, в снега.
Внимайте же князю, сый рекл: это – зга.
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль.
ЧелобитнаяО том, Государь, я смиренно прошу:
вели затопить мне по-белому баню,
с березовым веником Веню и Ваню
пошли – да оттерли бы эту паршу.
Иль собственной дланью своей, Государь,
сверши возлиянье на бел-горюч камень,
чужую мерзячку[3]3
Мерзячка (иностранное влияние) и люден, оружен и конен – из цитат, приводимых Ключевским.
[Закрыть] от сердца отпарь,
да буду прощен, умилен и раскаян.
Меня полотенцем суровым утри.
Я выйду. Стоит на крылечке невеста
Любовь, из несдобного русского теста,
красавица с красным вареньем внутри.
Все гости пьяны офицерским вином,
над елками плавает месяц медовый.
Восток розовеет. Под нашим окном
свистит соловей, подполковник бедовый.
Коня ординарец ведет в поводу.
Вот еду я, люден, оружен и конен.
Всемилостив Бог. Государь благосклонен.
Удача написана мне на роду.
Стихи о романеI
Знаем эти толстовские штучки:
с бородою, окованной льдом,
из недельной московской отлучки
воротиться в нетопленный дом.
«Затопите камин в кабинете.
Вороному задайте пшена.
Принесите мне рюмку вина.
Разбудите меня на рассвете».
Погляжу на морозный туман
и засяду за длинный роман.
Будет холодно в этом романе,
будут главы кончаться «как вдруг»,
будет кто-то сидеть на диване
и посасывать длинный чубук,
будут ели стоять угловаты,
как стоят мужики на дворе,
и, как мост, небольшое тире
свяжет две недалекие даты
в эпилоге (когда старики
на кладбище придут у реки).
Достоевский еще молоденек,
только в нем что-то есть, что-то есть.
«Мало денег, – кричит, – мало денег.
Выиграть тысяч бы пять или шесть.
Мы заплатим долги, и в итоге
будет водка, цыгане, икра.
Ах, какая начнется игра!
После старец нам бухнется в ноги
и прочтет в наших робких сердцах
слово СТРАХ, слово КРАХ, слово ПРАХ.
Грусть-тоска. Пой, Агаша. Пей, Саша.
Хорошо, что под сердцем сосет…»
Только нас описанье пейзажа
от такого запоя спасет.
«Красный шар догорал за лесами,
и крепчал, безусловно, мороз,
но овес на окошке пророс…»
Ничего, мы и сами с усами.
Нас не схимник спасет, нелюдим,
лучше в зеркало мы поглядим.
II
Я неизменный Карл Иваныч.
Я ваших чад целую на ночь.
Их географии учу.
Порой одышлив и неряшлив,
я вас бужу, в ночи закашляв,
молясь и дуя на свечу.
Конечно, не большая птица,
но я имею, чем гордиться:
я не блудил, не лгал, не крал,
не убивал – помилуй Боже, —
я не убийца, нет, но все же,
ах, что же ты краснеешь, Карл?
Был в нашем крае некто Шиллер,
он талер у меня зажилил.
Была дуэль. Тюрьма. Побег.
Забыв о Шиллере проклятом,
verfluchtes Fatum – стал солдатом —
сражений дым и гром побед.
Там пели, там «ура» вопили,
под липами там пиво пили,
там клали в пряники имбирь.
А здесь, как печень от цирроза,
разбухли бревна от мороза,
на окнах вечная Сибирь.
Гуляет ветер по подклетям.
На именины вашим детям
я клею домик (ни кола
ты не имеешь, старый комик,
и сам не прочь бы в этот домик).
Прошу, взгляните, Nicolas.
Мы внутрь картона вставим свечку
и осторожно чиркнем спичку,
и окон нежная слюда
засветится тепло и смутно,
уютно станет и гемютно,
и это важно, господа!
О, я привью германский гений
к стволам российских сих растений.
Фольга сияет наобум.
Как это славно и толково,
кажись, и младший понял, Лева,
хоть увалень и тугодум.
ПБГ[4]4Петербург, т. е., зашифрованный герой «Поэмы Без Героя» Ахматовой.
[Закрыть]
Далеко, в Стране Негодяев
и неясных, но страстных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон и Булгаков.
Бородою в античных сплетнях,
верещал о вещах последних
Вячеслав. Голосок доносился
до мохнатых ушей Гершензона:
«Маловато дионисийства,
буйства, эроса, пляски, озона.
Пыль Палермо в нашем закате».
(Пьяный Блок отдыхал на Кате,
и, достав медальон украдкой,
воздыхал Кузмин, привереда,
над беспомощной русой прядкой
с мускулистой груди правоведа,
а Бурлюк гулял по столице,
как утюг, и с брюквой в петлице.)
Да, в закате над градом Петровым
рыжеватая примесь Мессины,
и под этим багровым покровом
собираются красные силы,
и во всем недостача, нехватка:
с мостовых исчезает брусчатка,
чаю спросишь в трактире – несладко,
в «Речи» что ни строка – опечатка,
и вина не купить без осадка,
и трамвай не ходит, двадцатка,
и трава выползает из трещин
силлурийского тротуара.
Но еще это сонмище женщин
и мужчин пило, флиртовало,
а за столиком, рядом с эсером,
Мандельштам волхвовал над эклером.
А эсер глядел деловито,
как босая танцорка скакала,
и витал запашок динамита
над прелестной чашкой какао.
Пушкинские местаДень, вечер, одеванье, раздеванье —
всё на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
Под кустиком в виду мышиной норки?
à la gitane?
В коляске, натянув на окна шторки?
но как же там?
Как многолюден этот край пустынный!
Укрылся – глядь,
в саду мужик гуляет с хворостиной,
на речке бабы заняты холстиной,
голубка дряхлая с утра торчит в гостиной,
не дремлет, блядь.
О где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где – юбку прочь?
Где не спугнет размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожах слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
мгновенье лишь?
«Грамматика есть бог ума…»Грамматика есть бог ума.
Решает все за нас сама:
что проорем, а что прошепчем.
И времена пошли писать,
и будущее лезет вспять
и долго возится в прошедшем.
Глаголов русских толкотня
вконец заторкала меня,
и, рот внезапно открывая,
я знаю: не сдержать узду,
и сам не без сомненья жду,
куда-то вывезет кривая.
На перегное душ и книг
сам по себе живет язык,
и он переживет столетья.
В нем нашего – всего лишь вздох,
какой-то ах, какой-то ох,
два-три случайных междометья.
КлассическоеВ доме отдыха им. Фавна,
недалече от входа в Аид,
даже время не движется плавно,
а спокойно на месте стоит.
Зимний полдень. Начищен паркет.
Мягкий свет. Отдыхающих нет.
Полыхает в камине полено,
и тихонько туда и сюда
колыхаются два гобелена.
И на левом – картина труда:
жнут жнецы и ваятель ваяет,
жрут жрецы, Танька ваньку валяет.
А на правом, другом, гобелене
что-то выткано наоборот:
там, на фоне покоя и лени,
я на камне сижу у ворот,
без штанов, только в длинной рубашке,
и к ногам моим жмутся барашки.
«Разберемся в проклятых вопросах,
возбуждают они интерес», —
говорит, опираясь на посох,
мне нетрезвый философ Фалес.
И, с Фалесом на равной ноге,
я ему отвечаю: «Эге».
Это слово – стежок в разговоре,
так иголку втыкают в шитье.
Вот откуда Эгейское море
получило названье свое.
ДокументальноеАх, в старом фильме (в старой фильме)
в окопе бреется солдат,
вокруг другие простофили
свое беззвучное галдят,
ногами шустро ковыляют,
руками быстро ковыряют
и храбро в объектив глядят.
Там, на неведомых дорожках,
след гаубичных батарей,
мечтающий о курьих ножках
на дрожках беженец-еврей,
там день идет таким манером
под флагом черно-бело-серым,
что с каждой серией – серей.
Там русский царь в вагоне чахнет,
играет в секу и в буру.
Там лишь порой беззвучно ахнет
шестидюймовка на юру.
Там за Ольштынской котловиной
Самсонов с деловитой миной
расстегивает кобуру.
В том мире сереньком и тихом
лежит Иван – шинель, ружье.
За ним Франсуа, страдая тиком,
в беззвучном катится пежо.
………………………………..
Еще раздастся рев ужасный,
еще мы кровь увидим красной,
еще насмотримся ужо.
Народовластие есть согласование противоборствующих корыстейСкоро бумага выходит.
Почата новая десть.
И ладьеводец выводит:
«Народовластие есть…»
В горнице пыль колобродит.
Солнечный луч не находит,
где бы приткнуться, присесть.
Всюду записки, тетради.
Чай недопитый вчера.
И коготком Бога ради
скрип неотрывный пера.
И за окном в палисаде
ветер. И пусто в ограде
града Святого Петра.
Русское древо осина
златом горит на заре.
И парусов парусина
сохнет в соседнем дворе.
Что же так псино, крысино
ноет? И что за трясина
тряская в самом нутре?
То ли балтийский баронец
лепит кривые слова.
То ли картавый народец
тщится сказать «татарва».
Солнце глядится в колодец
полный чернил. Ладьеводец
крупно выводит: «…сова…»
Вид у романов сафьянов.
Вид у обоев шелков.
А у оплывших диванов
вид кучевых облаков
над немотой океанов.
И ложноимя «Иванов»
он подписует, толков.
Инструкция рисовальщику гербов1-ый вариант
На фоне щита
иль таза, иль мелкого блюда,
изображение небольшого верблюда,
застрявшего крепко в игольном ушке,
при этом глядящего на кота, сидящего в черном мешке,
завязанном лентой цвета нимфы, купающейся в пруду,
по коей ленте красивым курсивом надпись:
SCRIPTA MANENT
(лат. «Не легко, но пройду»)
2-ой вариант
На постаменте в виде опрокинутой стопки
две большие скобки,
к коим стоят как бы привалившись:
справа – лось сохатый,
слева – лев пархатый;
в скобках вставший на дыбы Лифшиц;
изо рта извивается эзопов язык,
из горла вырывается зык,
хвост прищемлен, на голове лежит корона в виде кепки,
фон: лесорубы рубят лес – в Лифшица летят щепки,
в лапах и копытах путается гвардейская лента
с надписью:
ЗВЕРЕЙ НЕ КОРМИТЬ
3-ий вариант (поскромнее)
Земной шар
в венце из хлебных колосьев,
перевитых лентой;
на поясках
красивым курсивом надпись:
ЛЕВ ЛОСЕВ
на 15-ти языках.
«Мы наблюдаем при солнца восходе…»Мы наблюдаем при солнца восходе
круговорот алкоголя в природе.
Полно сидеть пучеглазой совой
здесь, на плече у Паллады Афины —
где-то баллады звенят и графины,
что бы такое нам сделать с собой?
То ли тряхнуть словарем, как мошною,
то ли отделаться рифмой смешною,
то ли веревочкой горе завить?
Юмор, гармония, воображенье,
выходки водки и пива броженье,
жажда и жар, и желанье запить —
как это в сущности все изоморфно!
Пташка пропела свое и замолкла.
Пташечка! Ты не одна ли из тех
неисчислимых вчерашних рюмашек,
как эта скатерть июньских ромашек
в пятнах коньячных вчерашних утех.
Знаю, когда отключимся с похмелья,
нас, забулдыг, запихнут в подземелье,
так утрамбуют, что будь здоров.
Там уж рассыплемся, там протрезвеем.
Только созреем опять и прозреем
для бесконечных грядущих пиров.
«Земную жизнь пройдя до середины…»1
Земную жизнь пройдя до середины,
я был доставлен в длинный коридор.
В нелепом платье бледные мужчины
вели какой-то смутный разговор.
Стучали кости. Испускались газы,
и в воздухе подвешенный топор
угрюмо обрубал слова и фразы:
все ху да ху, да е мае, да бля —
печальны были грешников рассказы.
Один заметил, что за три рубля
сегодня ночью он кому-то вдует,
но некто, грудь мохнатую скобля,
ему сказал, что не рекомендует,
а третий, с искривленной головой,
воскликнул, чтоб окно закрыли – дует.
В ответ ему раздался гнусный вой,
развратный, негодующий, унылый,
но в грязных робах тут вошел конвой,
и я был унесен нечистой силой.
Наморща лобик, я лежал в углу.
Несло мочой, карболкой и могилой.
В меня втыкали толстую иглу,
меня поили горечью полынной.
К холодному железному столу
потом меня доской прижали длинной,
и было мне дышать запрещено
во мраке этой комнаты пустынной.
И хриплый голос произнес: «Кино».
В ответ визгливый: «Любоваться нечем».
А тот: «Возьми и сердце заодно».
А та: «Сейчас, сперва закончу печень».
И мой фосфоресцировал скелет,
обломан, обезличен, обесцвечен,
корявый остов тридцати трех лет.
2
От этого, должно быть, меж ресниц
такая образовывалась линза,
что девушка дрожала в ней, и шприц,
как червячок, и рос и шевелился.
Вытягивалась кверху, как свеча,
и вниз катилась, горяча, больница.
(То, что коснулось левого плеча,
напоминало птицу или ветку,
толчок звезды, зачатие луча,
укол крыла, проклюнувшего клетку,
пославший самописку ЭКГ
и вкривь и вкось перекарябать сетку
миллиметровки.) Голос: «Эк его».
Другой в ответ: «Взгляни на пот ладоней».
Они звучали плохо, роково,
но, вместе с тем, все глуше, отдаленней,
уже и вовсе слышные едва,
не разберешь, чего они долдонят.
Я возлетал. Кружилась голова.
Мелькали облака, неуследимы.
И я впервые обретал слова,
земную жизнь пройдя до середины.
3
Ты что же так забрался высоко,
Отец? Сияет имя на табличке:
«…в чьем ведении Земля, Вода и Ко…»
И что еще? Не разберу без спички.
День изо дня. Да, да. День изо дня
Ты крошишь нам, а мы клюем, как птички.
Я знаю, что не стребуешь с меня
Долгов (как я не вспомню ведь про трешку,
Что занял друг), не бросишь, отгоня
Пустого гостя. Просит на дорожку
Хоть посошок… Вот черт! Куда ни кинь…
За эту бесконечную матрешку,
Где в Царстве Сила, в Силе Слава…
Урок фотографии
Москвичи
1
Дворовая свора бежала куда-то.
Визжала девчонка одна.
«Я их де-фло-ри-ру-ю пиццикато», —
промолвил старик у окна.
Он врал и осекся, трепач этот древний,
московской орды старожил.
Он в комнату выплывшей Анне Андреевне
услужливо стул предложил.
Он к ней обращался с почтительным креном,
он чайничек ей подержал.
Его, побывавший в корзиночке с кремом,
мизинец при этом дрожал.
Он маялся, мальчик шестидесятилетний,
но все же отважился на
рассказ, начиненный последнею сплетней,
и слух не замкнула она.
Он даже заставил ее улыбнуться,
он все-таки ей угодил,
москвич, отдуватель чаинок на блюдце,
писатель стишков в «Крокодил».
2
Поникла, чай, моя камелия,
а ежели еще жива,
знать, из метели и похмелья
сидит и вяжет кружева.
Окно черно в вечерних шторах,
там, в аввакумовых просторах
морозный вакуум и тьма
ей выдается задарма.
Итак, она не растеряла
ни мастерства, ни материала,
в привычных пальцах вьется нить,
ловка пустоты обводить.
Сидит, порою дурь глотает,
и пустоты кругом хватает,
да уменьшается клубок.
И мрак за окнами глубок.
3
Любви, надежды, черта в стуле
недолго тешил нас уют.
Какие книги издаются в Туле!
В Америке таких не издают.
Чу! проскакало крошечное что-то
в той стороне, где теплится душа.
Какая тонкая работа!
Шедевр косого алкаша.
Ах! В сердце самое куснула.
И старый черт таращится со стула,
себе слезы не извиня:
что это – проскочило, промелькнуло,
булатными подковками звеня?
Амфибронхитная ночь
1. Газета на ночь
Андроповская старуха
лобзнула казенный гранит,
и вот уже новая муха
кремлевскую стену чернит.
Деды – да которым бы в баньке
попарить остаток костей,
которым бы внучке бы, Таньке,
подсовывать жменю сластей,
которым бы ночью в исподнем
на печке трещать с требухи,
которым бы в храме Господнем
замаливать горько грехи,
чего-то бормочут, натужась,
то лапку о лапку помнут,
то ножками выдадут ужас
считаемых ими минут.
Тоска в этих бывших мужчинах,
пугливых, гугнивых дедах,
в их мелких повадках мушиных,
в их черных мушиных следах.
Прости им, Господь, многоточья,
помилуй трухлявый их ряд.
Уж эти не ведают точно.
Да, собственно, и не творят.
2. Старый сон
Знать, не у природы на лоне,
знать, в химкомбинатском бору
добыты те шкурки нейлоньи.
Напяливши эту муру,
в трамвае толпа непреклонней
сжимает (похоже – умру).
Последних песцов поколенье
покоится на Соловках,
а этих окраска – гиенья,
вся в пятнышках и волосках.
И явственней запах гниенья —
до яростной боли в висках.
Трамвай шел какой-то там номер.
Ламца-дрицаца-дрицаца.
Не я ль на площадочке помер?
Тащите меня, мертвеца.
Лица так никто и не повер-
нул – нуль был на месте лица —
склоняют подобия пяток
над мелкой печатью страниц,
в портфелях котлетовый взяток
и робкий десяток яиц,
за окнами мокрый остаток
деления школ и больниц.
Расправить покорные власти
немытые трубочки шей?
Взглянуть хоть на новый фаланстер
в 14 этажей?
Но гаркнул водитель: «Вылазьте,
приехали…»
3. Ante lucem
Я что – в каждой бочке затычка?
мне тоже бывает невмочь.
Но вижу, проставлена v
в графе «пережить эту ночь».
А, может быть, сердце из клетки
грудной улетело в окно,
чирикает, сидя на ветке,
мол, холодно, страшно, темно.
Но вот уж светать начинает.
Вот солнце встает над стрехой
и утра пирог начиняет
своей золотой чепухой.
Разговор
«Нас гонят от этапа до этапа,
А Польше в руки все само идет —
Валенса, Милош, Солидарность, Папа,
у нас же Солженицын, да и тот
Угрюм-Бурчеев и довольно средний
прозаик». «Нонсенс, просто он последний
романтик». «Да, но если вычесть „ром“».
«Ну, ладно, что мы, все-таки, берем?»
Из омута лубянок и бутырок
приятели в коммерческий уют
всплывают, в яркий мир больших бутылок.
«А пробовал ты шведский „Абсолют“,
его я называю „соловьевка“,
шарахнешь – и софия тут как тут».
«А, все же затрапезная столовка,
где под столом гуляет поллитровка…
нет, все-таки, как белая головка,
так западные водки не берут».
«Прекрасно! ностальгия по сивухе!
А по чему еще – по стукачам?
по старым шлюхам, разносящим слухи?
по слушанью „Свободы“ по ночам?
по жакту? по райкому? по погрому?
по стенгазете „За культурный быт“?»
«А, может, нам и правда выпить рому —
уж этот точно свалит нас с копыт».
Письмо на родину
Как ваши руки, Молли, погрубели,
как опустился ваш веселый Дик…
М. Кузмин. «Переселенцы»
Дали нары. Дали вилы. Навоз
ковырять нелегко,
но жратвы от пуза.
С тех пор, как выехали из Союза,
воды не пьем – одно молоко.
По субботам – от бешеной коровки
(возгонка, какая не снилась в Москве).
Доллареску откладываем в коробки
из-под яиц. У меня уже две.
Хозяева, ну, не страшнее овира,
конечно, дерьмо, но я их факу.
Франц – тюфяк, его Эльзевира —
мразь, размазанная по тюфяку.
Очень дешевы куры. Овощи
в ассортименте. Фрукты – всегда.
Конечно, некоторые, как кур в ощип,
попали сюда, с такими беда.
Выступал тут вчера один кулема,
один мой кореш, в виде стишков,
мол, «хорошо нам на родине, дома,
в сальных ватниках с толщей стежков».
Знаем – сирень, запашок мазута,
родимый уют бессменных рубах.
А все же свобода лучше уюта,
в работниках лучше, чем в рабах.
Мы тут не морячки в загране,
а навсегда. Вот еще бы скопить
коробку… Говорят, за горами
еще не всё успели скупить.
Нам бы только для первой оснастки,
а там пусть соток хоть семь, пусть шесть.
Есть за горами еще участки.
Свободные пустоши есть.
«Тем и прекрасны эти сны…»
Тем и прекрасны эти сны,
что все же доставляют почту
куда нельзя, в подвал, в подпочву,
в глубь глубины,
где червячки живут, сочась,
где прячут головы редиски,
где вы заключены сейчас
без права переписки.
Все вы, которые мертвы,
мои друзья, мои родные,
мои враги (пока живые),
ну, что же вы
смеетесь, как в немом кино.
Ведь нет тебя, ведь ты же умер,
так в чем же дело, что за юмор,
что так смешно?
Однажды, завершая сон,
я сделаю глубокий выдох
и вдруг увижу слово выход —
так вот где он!
Сырую соль с губы слизав,
я к вам пойду тропинкой зыбкой
и уж тогда проснусь с улыбкой,
а не в слезах.
Пластинка
Не умея играть на щипковых
инструментах и ни на каких,
я купил за двенадцать целковых
хор кудрявых, чернявых, лихих,
все в рубашечках эх-да шелковых,
эх-да красных, да-эх голубых.
Старый цыган со всею конторой,
с одного разгоняясь витка,
спел нам песню свою, из которой
мы узнали, что жизнь коротка,
но зато – промелькнула за шторой
слишком белая чья-то рука.
Вместо «слишком» там пелось «и-эх-да»
и хрипелось за словом «зато»
непонятно что – «нечто» иль «некто»,
слишком низко уж было взято,
и ни вкуса, ни интеллекта
не отметил бы в песне никто.
……………………………….
«Коротка, коротка…» Напрягая
слух и память, и то не вполне
разбирая слова… «Дорогая,
то, что мы увидали в окне…»
Впрочем, это уж песня другая
и она на другой стороне.
На Рождество
Я лягу, взгляд расфокусирую,
звезду в окошке раздвою
и вдруг увижу местность сирую,
сырую родину свою.
Во власти оптика-любителя
не только что раздвой и – сдвой,
а сдвой Сатурна и Юпитера
чреват Рождественской звездой.
Вослед за этой, быстро вытекшей
и высохшей, еще скорей
всходи над Волховом и Вытегрой,
звезда волхвов, звезда царей.
……………………………….
Звезда взойдет над зданьем станции,
и радио в окне сельпо
программу по заявкам с танцами
прервет растерянно и, по-
медлив малость, как замолится
о пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,
о сброде пьяниц и нерях.
Слепцы, пророки трепотливые,
отцы, привыкшие к кресту,
как эти строки терпеливые,
бредут по белому листу.
Где розовою промокашкою
в полнеба запад возникал,
туда за их походкой тяжкою
Обводный тянется канал.
Закатом наскоро промокнуты,
слова идут к себе домой
и открывают двери в комнаты,
давно покинутые мной.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































