Читать книгу "Детство. Отрочество (сборник)"
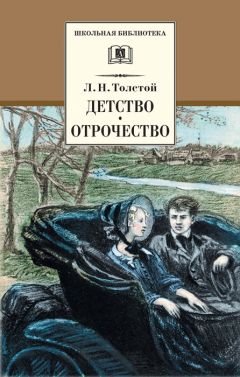
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XXIV
Я

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.
Мне весело – ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., чрезвычайно нравятся мне.
Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа, и я вполне верю в это.
St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что с моими способностями, с моим умом стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.
Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.
Когда молодые, с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.
Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, – склонности к умствованию.
Глава XXV
Приятели Володи

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть – воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно, – это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.
Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только – необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.
Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.
Несмотря на то что он казался очень дружным с Дубновым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то рыженькой.
Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его красной девушкой…
Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то что в его направлении я находил много общего с своим – или, может быть, именно поэтому, – чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.
Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то что он не хочет обращать на меня никакого внимания.
Стыдливость удерживала меня.
Глава XXVI
Рассуждения

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение – движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.
– Что́, ты дома будешь нынче вечером?
– Не знаю, а что?
– Так, – сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.
Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.
– Володя дома? – послышался в передней голос Дубкова.
– Дома, – сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.
Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.
– Что ж, едем в театр, Володя?
– Нет, мне некогда, – отвечал Володя, краснея.
– Ну, вот еще! – поедем, пожалуйста.
– Да у меня и билета нет.
– Билетов сколько хочешь у входа.
– Погоди, я сейчас приду, – уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.
Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел затем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.
– Здравствуйте, дипломат! – сказал Дубков, подавая мне руку.
Приятели Володи называли меня дипломатом, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть дипломатом, в черном фраке и с прической à la coq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.
– Куда это ушел Володя? – спросил меня Нехлюдов.
– Не знаю, – отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.
– Верно, у него денег нет! правда? О! дипломат! – прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. – У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?
– Посмотрим, – сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. – Вот пятацок, вот двугривенницик, а то ффффю! – сказал он, делая комический жест рукою.
В это время Володя вошел в комнату.
– Ну что, едем?
– Нет.
– Как ты смешон! – сказал Нехлюдов, – отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.
– А ты как же?
– Он поедет к кузинам в ложу, – сказал Дубков.
– Нет, я совсем не поеду.
– Отчего?
– Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.
– Отчего?
– Не люблю, мне неловко.
– Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher[85]85
Мой дорогой (фр.).
[Закрыть].
– Что ж делать, si je suis timide![86]86
Если я застенчив! (фр.)
[Закрыть] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту, от малейших пустяков! – сказал он, краснея в это же время.
– Savez-vous d’où vient votre timidité?., d’un excès d’amour propre, mon cher[87]87
Знаете, отчего происходит ваша застенчивость?., от избытка самолюбия, мой дорогой (фр.).
[Закрыть], – сказал Дубков покровительственным тоном.
– Какой тут excès d’amour propre! – отвечал Нехлюдов, задетый за живое. – Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно… от этого…
– Одевайся же, Володя, – сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. – Игнат, одеваться барину!
– От этого со мной часто бывает… – продолжал Нехлюдов.
Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», – запел он какой-то мотив.
– Ты не отделался, – сказал Нехлюдов, – я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.
– Докажешь, ежели поедешь с нами.
– Я сказал, что не поеду.
– Ну, так оставайся тут и доказывай дипломату; а мы приедем, он нам расскажет.
– И докажу, – возразил Нехлюдов с детским своенравием, – только приезжайте скорей.
– Как вы думаете: я самолюбив? – сказал он, подсаживаясь ко мне.
Несмотря на то что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я умный, – я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что ни делает человек, – все из самолюбия.
– Так что же, по-вашему, самолюбие? – сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.
– Самолюбие, – сказал я, – есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.
– Да как же могут быть все в этом убеждены?
– Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто, кроме меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, что вы тоже уверены в этом.
– Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, – сказал Нехлюдов.
– Не может быть, – отвечал я с убеждением.
– Неужели вы в самом деле так думаете? – сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.
– Серьезно, – отвечал я.
И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.
– Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав, – прибавил я с невольной улыбкой само довольствия.
Нехлюдов помолчал с минуту.
– Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! – сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.
Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею – так они были неясны и односторонни, – для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.
Глава XXVII
Начало дружбы

С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время.
Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.
Как-то раз, во время Масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.
В первый раз, как он после Масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх: но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.
– Я вам мешаю? – сказал он.
– Нет, – отвечал я, несмотря на то что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.
– Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.
Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.
– Вы, верно, знаете, отчего я ушел? – сказал я.
– Может быть, – отвечал он, усаживаясь подле меня, – но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете, – сказал он.
– Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас… не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.
– Знаете, отчего мы так сошлись с вами, – сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание, – отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность.
– Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, – подтвердил я, – но только тем, в ком я уверен.
– Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.
– Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, – сказал я. – А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.
– И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, – прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. – Сделаемте это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово никогда ни с кем и ничего не говорить друг о друге. Сделаем это.
– Давайте, – сказал я.
И мы действительно сделали это. Что вышло из этого, я расскажу после.
Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.
Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым…
А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..
Комментарии
Детство
«Детство» – первое напечатанное сочинение Л. Н. Толстого. Повесть открывает трилогию о детстве, отрочестве и юности. Первоначально замысел назывался «Четыре эпохи развития»: предполагалась еще одна часть – молодость. Она воплотилась в других созданиях: «Утро помещика», «Казаки»… Когда много лет спустя, в 1895 году, художник П.И. Нерадовский спросил, когда же появится обещанное в конце «Юности» продолжение, Толстой ответил: «Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение «Юности». В «Детстве», как и во всей трилогии, много автобиографического, но сочинение создавалось как обобщенное повествование об «эпохах жизни», истории души вымышленного героя – Николеньки Иртеньева.
Первая рукопись начата в Москве в декабре 1850 года. 18 января 1851 года в дневнике Толстого отмечено задание для себя: «Писать историю дня». «Детство» построено как рассказ о двух днях: в деревне и в московском доме бабушки. Работа продолжалась и была завершена на Кавказе, куда Толстой уехал весной 1851 года со старшим братом Николаем Николаевичем, офицером русской армии. 4 июля 1852 года повесть, до того несколько раз переделанная и целиком переписанная автором, была отправлена в Петербург. «Я с нетерпением ожидаю Вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое» – такими словами заканчивалось письмо к редактору журнала «Современник» Н. А. Некрасову. Под текстом «Детства» Толстой обозначил лишь свои инициалы: «Л. Н.»
Некрасов ответил в станицу Старогладковскую: «Я прочел Вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения». Перечитав повесть в корректуре, Некрасов высказался уверенно: «Могу сказать положительно, что у автора есть талант».
Повесть появилась в № 9 журнала «Современник» за 1852 год под редакционным заглавием «История моего детства» и с цензурными изъятиями. И то и другое чрезвычайно огорчило Толстого. В 1856 году, в отдельном издании книги «Детство» и «Отрочество», удалось восстановить и авторское заглавие, и подлинный текст. Впрочем, некоторые ошибки набора остались не замеченными Толстым и были устранены лишь в научном издании 1978 года (серия «Литературные памятники»).
Часть кратких пояснений отдельных слов в повести «Детство» и других произведениях Толстого заимствована из книг: Толстой Л.Н. Избранные произведения. М.: Дет. лит., 1960 (2-е изд., 1977) и Толстой Л. Н. Повести и рассказы (Библиотека мировой литературы для детей). М.: Дет. лит., 1978.
Глава I. Учитель Карл Иваныч
С. 15
Дядька – лицо, приставленное для услуги мальчику.
Рекреация – перерыв между учебными занятиями, каникулы.
«История путешествий» – 19-томное издание, вышедшее в Париже в 1746–1770 годах: «Всеобщая история путешествий, или Новое собрание всех описаний путешествий».
Семилетняя война – война 1756–1763 годов за обладание колониями: на одной стороне был союз Австрии, Франции, России, Испании, Саксонии, Швеции; на другой – Пруссии, Великобритании, Португалии.
В пергаменте – в переплете из пергамента (кожи животных, обработанной особым образом).
Кардон – картон.
Ландкарта – географическая карта.
Глава II. Maman
С. 21
Clementi – Муцио Клементи (1752–1832), итальянский композитор, пианист и педагог. В 1802, 1804–1805 годах давал концерты в России. На этюдах и сонатинах Клементи учатся фортепианной игре и в наше время.
Официантская – помещение для слуг.
Глава III. Папа
С. 24
Экономия – здесь: хозяйство, имение.
Глава V. Юродивый
С. 32
Юродивый – человек с нездоровым рассудком, странно себя ведущий и непонятно говорящий. Верующими людьми юродивые почитались за ясновидящих, прорицателей.
Вериги – железные цепи.
Линейка – длинный многоместный открытый экипаж.
Глава VI. Приготовления к охоте
С. 36
Клепер – порода лошади.
Эволюции – здесь: движения.
Выжлятник – старший псарь, распоряжавшийся гончими собаками.
Стремянный – конюх, ухаживающий за лошадью своего господина; обычно ведал сворой борзых охотничьих собак.
Глава VII. Охота
С. 39
Доезжачий – слуга, ведавший псарней.
Арапник – охотничий кнут для собак.
Бирки – деревянные дощечки или палочки, на которых зарубками и нарезками обозначался счет предметов или мера; служили для счетоводства и учета работ.
Поярковый – сделанный из шерсти молодой овцы.
Остров – здесь: окруженное полями лесистое или болотистое место, удобное для псовой охоты.
Второчить смычки – прикрепить к седлу веревки (смы́чки), которыми гончих собак связывали попарно.
Гончие варили варом – преследовали зверя с неумолкаемым, заливистым лаем.
Заатукали – закричали «ату», натравливая собак. В первых изданиях «Детства» печаталось неверно: застукали.
Глава VIII. Игры
С. 43
«Швейцарский Робинзон» – роман швейцарского писателя Франциска Рудольфа Вейса (1751–1797). В заглавии использовано имя знаменитого героя романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1-е изд., 1719).
Глава X. Что за человек был мой отец?
С. 46
Патетический – полный чувств, волнующий.
…приятеля своего А… – композитор А. А. Алябьев (1787–1851), автор знаменитого «Соловья» и других популярных романсов.
…певала Семенова… – H. С. Семенова (1787–1876), оперная певица; поступила на сцену в 1809 году. Выступала до начала 1830-х годов. Упоминается не раз в рукописях «Войны и мира»; участвует в оперном спектакле, изображенном во втором томе романа.
Глава XI. Занятия в кабинете и гостиной
С. 49
Фильд – Джон Фильд (1782–1837), ирландский пианист, педагог и композитор. С 1802 года жил в России. Давал уроки музыки в аристократических домах Петербурга и Москвы. Этот же Фильд, как автор любимого ноктюрна старой графини Ростовой, упомянут во втором томе романа «Война и мир».
Глава XII. Гриша
С. 52
Нанковый – сделанный из нанки – грубого домотканого сукна.
Глава XIII. Наталья Савишна
С. 55
Затрапезное платье – будничное, сшитое из дешевой ткани, которая производилась на фабриках Затрапезнова.
Гербовая бумага – особая бумага с изображением государственного герба.
Вольная – документ, подтверждающий, что крепостной отпущен господином на волю.
Очаковское куренье. – Толстой рассказал об этом и в своих «Воспоминаниях» (1903–1906): Прасковья Исаевна доставала душистую смолку из шкафа, зажигала ее и говорила, что привез это «куренье» дедушка Толстого, кн. H. С. Волконский, из-под Очакова.
Корнет – здесь: мешочек, пакетик, сделанный из бумаги.
Глава XIV. Разлука
С. 60
Ластовицы – четырехугольные вставки под мышками у мужских рубах.
Черепенник – здесь: шапка в виде конуса (подобные изделия из гречневой муки пеклись в глиняных «черепках»).
Почтовые лошади – лошади с почтовой станции, служившие для дальних поездок. В пути на станциях происходила смена лошадей.
Глава XVI. Стихи
С. 67
Веленевая бумага – плотная, высокого качества.
Штрипки – тесьма, пришитая внизу брюк и охватывающая ступню под башмаком.
Эполеты – парадные, округлые на концах погоны с шитьем и завитушками из крученой канители.
Белый крест – здесь: орден.
Сегюр – Луи Сегюр (1753–1830) был в 80-х годах XVIII века послом в Петербурге; автор известных мемуаров о России и книги «Древняя и новая всеобщая история» (1822).
Глава XIX. Ивины
С. 82
Лексиконы Татищева – трехтомный французско-русский словарь.
Глава XX. Собираются гости
С. 89
Ванька – прозвище извозчиков в XIX веке. Ливрейная рука – рука слуги, одетого в ливрею – парадную, для выездов и приемов, одежду.
Салоп – верхняя женская одежда.
Хвосты – здесь: род меховых воротников.
Глава XXI. До мазурки
С. 94
Ангажировать – приглашать; здесь: пригласить к танцу.
«Дева Дуная» – опера австрийского композитора Ф.Кауэра (1751–1831).
Глава XXII. Мазурка
С. 98
Фатальные – роковые, злополучные.
Глава XXIII. После мазурки
С. 100
Гросфатер – старинный танец с медленными, плавными движениями. (В переводе с немецкого – «дедушка».)
Глава XXVIII. Последние грустные воспоминания
С. 121
Причт – служители в церкви.









































