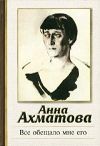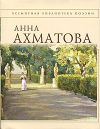Текст книги "Дом Поэта"
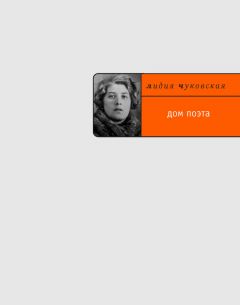
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
2
Но к образу Анны Ахматовой на страницах «Второй книги» я обращусь позднее. Пока что меня занимают другие люди, оплеванные Надеждой Яковлевной, и собственный ее автопортрет.
Юрий Николаевич Тынянов… Историк и теоретик литературы, романист, новеллист.
По началу, как мы видели, Надежда Яковлевна Тыняновым недовольна: его имя названо среди имен тех литераторов, с которыми не о чем было говорить. (Вся цепочка приведенных имен, как на зло, изумительные собеседники.) Затем на странице 369 [336] выражается, напротив, благосклонность к Тынянову и сожаление о его тяжелой болезни: «Он принадлежал к лучшим и самым чистым из наших современников». Прекрасно. Затем на странице 379 [344] дается понять, что Тынянов был трусоват: «на письма не отвечал никто», а он «со страху» уничтожил одно очень ценное письмо опального поэта.
Затем на странице 368 [335] читаем:
«Сам Тынянов приспособлялся хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору».
Не знаю, к какому двору пришлась проза Тынянова – она прочно вошла в русскую литературу; громили в свое время придворные люди тыняновскую прозу не с меньшим рвением, чем его литературные теории.
Беру на выбор:
«…трактовка материала в повести Тынянова является прямым снижением жанра исторического романа и по существу идеалистическим искажением всех основных фактов эпохи»[52]52
И. Рубановский. Гнилой либерализм за счет кровных интересов большевизма // Вечерняя Москва, 22 декабря 1931.
[Закрыть].
«Алпатов и Брик уверяют, что Тынянов проводит дух реакционного историзма, что романы его беспринципны»[53]53
В. Дитякин. Литературное наследство классиков марксизма // Октябрь, 1934, № 7.
[Закрыть].
(Очень пришлись ко двору романы Тынянова, как же!)
Иногда «Кюхля» и «Вазир-Мухтар» удостаивались похвалы. Но похвалы тонули в общей казенно-полицейской брани (читатель, надеюсь, оценит не только смысл, но и слог):
«Разве случайно самое устремление внимания Тынянова и других писателей, отодвигающихся сейчас на все более реакционные позиции, к кризисной эпохе Петра? Разумеется, нет… здесь нашли выражение настроения тех общественных групп, которые воспринимают нашу эпоху чрезвычайно мрачно и подавленно. Все настроение, весь объективный замысел романа раскрывается в его концовке, где проводится идейка о том, что в эпоху кризисов и переломов господствует безвыходная тоска и маразм и брат равнодушно проходит мимо казни брата. “Восковая персона” – сгусток, кристаллизация настроений определенных общественных групп, – настроений безысходного мрака, социального маразма. И, конечно, не случайна форма исторической стилизации для выражения настроений этих общественных групп…»[54]54
В. Ермилов. За боевую творческую перестройку // На литературном посту, 1932, № 4.
[Закрыть]
Очень пришлись ко двору романы Тынянова!
Литераторы, пережившие тридцатые годы, хорошо знают, на что обречен был писатель, когда в «критике» дело доходило до «идейки о том», «неслучайно» и «настроений определенных общественных групп». Хуже этого, помнится, были только «школка» и «группка». (Чем уменьшительнее на тогдашнем жаргоне, тем грознее. «Группа» и «школа» – это было легче, чем «группка» и «школка». В «идейке о том» таилась явная угроза.)
Тынянов, один из умнейших людей своего поколения, был объявлен «представителем социального маразма». Это меня не удивляет, это закономерно, естественно. А вот добавочных унизительных умствований со стороны Надежды Яковлевны, в дополнение к ермиловским, могло бы и не быть.
Дело в том, что Тынянов, названный Надеждой Яковлевной среди тех, с кем не о чем было разговаривать, был в действительности собеседником блистательным, и не только потому, что постоянно размышлял о русской истории, не только потому, что был знатоком русской литературы; собеседник он был замечательный еще и потому, что кроме ума и образования наделен был артистическим даром. Мне часто случалось присутствовать при его беседах с моим отцом. Тынянов на глазах у собеседников превращался в любое из упоминаемых лиц – исторических или современных – от николаевского Бенкендорфа или самого Николая Павловича до литературоведа Переселенкова или академика Тарле.
Надежда Яковлевна рассказывает, как однажды ей с Мандельштамом повстречался на улице «еще владевший движениями» Тынянов. Они недолго поговорили о чем-то и простились. Мандельштам сказал жене: Тынянов, по-видимому, вообразил себя Грибоедовым (369) [336]. Допускаю, что это так и было: Тынянов, по желанию, свободно мог обратиться в Грибоедова. Что ж. Но у Надежды Яковлевны за пазухой камень: ей необходимо унизить человека, хотя бы и тяжко больного, который: «еще владел движениями».
«Кюхельбекером он стать не решился, – комментирует она дружескую встречу, – опасно».
Да ведь и Грибоедов испустил дух не на цветущем лугу!
Запертый, он пережил ужас приближения убийц – и они убили его. Опасно! Очень опасно!
«Грибоедовым тоже не очень сладко быть, – спохватывается Надежда Яковлевна, – но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче» (369) [336].
Ужас перед гибелью, боль и смерть всегда есть ужас, боль и смерть. Грибоедов был великий русский писатель, и его убила в Тегеране чужая толпа. Кюхельбекер был благороднейший из русских людей, и его медленною казнью – в казематах и ссылке – казнили родные жандармы. Который ужас ужаснее? Быть может, воздержавшись от садизма сравнивания двух смертных потов, двух смертных хрипов[55]55
«Всё смертный хрип да смертный пот» – строка из одного стихотворения о России, посвященного Анне Ахматовой в 1961 году одним молодым поэтом. – Л. Ч. [Примеч. 1974 года]. [Эти стихи Анатолия Якобсона Л. Ч. приводит в своих «Записках» (Т. 2, с. 779)].
[Закрыть], почтить уважением оба? Тынянов написал роман о Грибоедове и роман о Кюхельбекере, стало быть, во всяком случае, «решился» вообразить себя и тем и другим и решился не на минуту, не при случайной встрече с друзьями на улице, а надолго, у себя за письменным столом, на годы. Тынянов в «Восковой персоне» первым осудил террор, и именно этого не прощала ему критика. Поклонимся же в душе обеим могилам, Кюхельбекера и Грибоедова, и еще третьей: Тынянова. Задумаемся о путях и концах одного и другого, да и третьего из русских писателей. Даже без тяжкой, многолетней, безнадежной болезни быть Юрием Тыняновым в двадцатые-тридцатые годы нашего века в России не вполне безопасно. Не безопасны такие строки в журналах:
«Совершая экскурсы в далекое прошлое, он пытается представить никчемными все общественные реформы и революции.
Не только философия Тынянова реакционна, но реакционен его творческий метод»[56]56
Б. Валъбе. Юрий Тынянов и его исторический метод // Ленинград, 1931, № 10.
[Закрыть].
Опасно, очень опасно! На волосок от гибели. Сложна русская жизнь. Издевка над ней – занятие недостойное.
То, что сообщает Надежда Яковлевна о Маршаке, об отношениях между Маршаком и «обэриутами», Маршаком и Олейниковым, о трудах и днях «ленинградской редакции», о Хармсе, еще раз доказывает, что и в этом случае злоба ее велика, а познания – ограничены. (Ею прочтена одна-единственная статья на эту тему и пересказана с обратным знаком.) Надежда Яковлевна пишет, будто Маршак высасывал детскую литературу из пальца, на пустом месте, избегал соприкосновения с реальной действительностью и для отвода глаз, поставляя ремесленнические поделки, вел высокие разговоры: Шекспир, Мильтон, поэзия!
О «ленинградской редакции» и о Маршаке-редакторе я уже писала достаточно; написанное – почти целиком – напечатано; повторяться не вижу нужды. Кто захочет узнать, в чем был на самом деле смысл и каков результат этой работы – прочтет и поймет. К тому же о Маршаке как об учителе, существует уже обширная литература; о ленинградском периоде его жизни я советую прочитать отрывки из дневника Евгения Шварца (автора пьес «Дракон», «Тень» и др.) и мемуары Л. Пантелеева – автора (совместно с Г. Белых) знаменитой «Республики Шкид», а затем не менее знаменитых «Пакета», «Маринки», «Буквы “ты”», «Честного слова», «На ялике», мемуаров и пр. Оба они – и покойный Е. Шварц и ныне здравствующий Л. Пантелеев с гордостью признают своим учителем С. Маршака, а ими обоими вправе гордиться русская литература. Я полагаю, если бы всего лишь эти два имени – Л. Пантелеев и Евг. Шварц – дала русской литературе работа Маршака и возглавляемой им редакции – они служили бы живым опровержением россказней Надежды Яковлевны. Не было бы атмосферы, созданной Маршаком вокруг детской литературы в Ленинграде, в годы 1924–1937, не было бы не только Шварца и Пантелеева, но не привилась бы и не расцвела проза Бориса Житкова (одного из лучших, если не лучшего, прозаика 20—30-х годов: см. «Морские истории» и роман «Виктор Вавич»); не появилось бы «Солнечное вещество» М. Бронштейна – одна из лучших научнохудожественных книг в России, а быть может и в мире; не было бы сказок братьев Гримм в обработке Александра Введенского, и поэм-игр Хармса, и поэм-игр и лирики для детей Александра Введенского, и, в обработке Заболоцкого, «Тиля Уленшпигеля» и «Гаргантюа и Пантагрюэля», и японских сказок Н. Фельдман, и такого шедевра, как ненецкая сказка «Кукушка», и заново переведенных сказок Киплинга, и многого множества искусно отобранных русских и английских народных песенок… На дворе стояли тридцатые, в буквальном и переносном смысле головоломные годы; Маршак и «ленинградская редакция», детский отдел Государственного издательства, дань времени, разумеется, платили обильную, – а все-таки книг и имен, благодаря ее работе вошедших не в списки выполненных и перевыполненных планов, а в русскую литературу, из нашей культуры не выкинешь.
Анна Ахматова делила редакторов на дурных и хороших; тех, в ком находила вкус и чутье – уважала. Она верила, например, таким профессиональным критикам-редакторам, какими были для нее в разное время Н. Недоброво, М. Лозинский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум. Она часто говорила, что отсутствие профессиональной критики наносит поэту и поэзии большой ущерб.
А кто же такой редактор, если он не профессиональный знаток искусства, не критик?
Разумеется, мнения казенных редакторов Ахматову не интересовали нимало – они не знатоки и не читатели, они лишены и профессионального слуха и непосредственной, читательской заинтересованности, они просто цензоры, но к мнению редакторов-знатоков, редакторов-критиков она прислушивалась.
Взгляды Надежды Яковлевны на редакторов грубы и элементарны: какие там критики, какие там профессионалы! хорошо, когда редактор идиот, еще лучше – если клинический.
Отсюда естественно следует ее неуважение к Маршаку. «Без Маршака я не представляю себя писателем»[57]57
Цит. по статье: Б. Сорное. О новом по-новому. (К 70-летию со дня рождения С. Я. Маршака) // Пионер, 1957, № 11, с. 71.
[Закрыть], – говорит Л. Пантелеев.
Шварц записывает в Дневнике 1957 года, давным-давно работая без всякого участия Маршака:
«Все немногое, что я сделал, – следствие встреч с Маршаком в 1924 году»[58]58
Е. Шварц. Страницы дневника / В публикации: О редакторском искусстве Маршака. Сост. и примеч. Вл. Глоцера // Сб.: Редактор и книга. Вып. 4. М.: Искусство, 1963, с. 253.
[Закрыть].
Когда один писатель говорит, что его литературный путь – «следствие встреч» с другим писателем, – к этому «другому» следует отнестись со вниманием.
И мои литературные опыты сохраняют на себе следы встреч с Маршаком. И не только мои.
«Он открыл во мне кое-какие способности, – пишет о Маршаке Л. Пантелеев, – кое-какой талант и ухватился за меня, как ухватывался тогда за все мало-мальски яркое, самобытное, подающее надежды»[59]59
Л. Пантелеев. Избранное. Л.: Худож. лит., 1967, с. 472.
[Закрыть].
«Писать он меня никогда не учил, – разъясняет Пантелеев, – он помог мне развить вкус, открыл окно в большой мир настоящего искусства…»[60]60
Цит. по статье: Б. Сарнов. О новом по-новому. (К 70-летию со дня рождения С. Я. Маршака) // Пионер, 1957, № 11, с. 71.
[Закрыть]
Если в человеке была художническая струна – Маршак напрягал ее, и она начинала звенеть. И главное, он учил слышать слово. Он развивал слух. Человек учился понимать, на какую глубину сосредоточенности надо спуститься, чтобы расслышать слово, если не свое, – хоть чужое. (Содержание, какое в слово литератора вкладывает или не вкладывает жизнь, то есть сила и своеобразие звука – от учителей не зависит. От учителя зависит развитие вкуса и воли – и, может быть, единение с традицией.)
«Это был университет, даже во многих смыслах больше, чем университет, – пишет Л. Пантелеев. – Маршак открыл мне Пушкина, Тютчева, Бунина, Хлебникова, Маяковского, англичан, русскую песню и вообще народную поэзию… Будто он снял со всего этого какой-то колпак, какой-то тесный футляр, и вот засверкало, зазвучало, задышало и заговорило то, что до тех пор было для меня лишь черными печатными строчками.
Я уходил от него счастливый»[61]61
Л. Пантелеев. Избранное. 1967, с. 471.
[Закрыть].
Надежда Яковлевна потешается вовсю: Маршак, видите ли, имел обыкновение, работая над такой ерундистикой, как книги для детей, кстати и некстати заводить разговоры о Пушкине и Шекспире. Маршак в самом деле много говорил о Пушкине и Шекспире, о Некрасове, Бернсе и Блейке и, что гораздо важнее, много читал своих любимых авторов вслух. Он учил слышать их. Окружавшие его литераторы были в своем большинстве молоды; счастлива та юность, которая своевременно встречается с традицией. Неплодотворна та редакция, в стенах которой никогда не звучат стихи, одни разговоры о «проходимости» и «непроходимости».
Маршак «разводил турусы на колесах», разглагольствовал об искусстве и «на эту удочку клевали все» (463, 346) [419, 315] – вот резолюция Надежды Яковлевны.
Просто и низменно.
Низменно и высокомерно.
«В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты… он тиснул несколько статеек Мандельштама… Не будь он идиотом, Мандельштам не напечатал бы и не написал кучки своих газетных статей, а они очень славные. Настоящие – клинические– идиоты положительное явление» (382) [347–348].
Схема Н. Мандельштам на зависть стройна: идиотизм редактора – счастье; благодаря редактору-идиоту Мандельштам написал кучку статей (впервые слышу, что стихи или проза появляются на свет «кучками»); но кучка так кучка, жаль только, что Надежда Яковлевна созданную ею же стройную схему сама же и нарушает. «В Киеве нашелся дурковатый редактор», и благодаря его дурковатости были написаны и напечатаны статьи Мандельштама («они такие славные!»); а вот в Ленинграде, напротив, согласно рассказу Надежды Яковлевны, нашелся редактор умный: Цезарь Вольпе, и благодаря его уму, а не глупости, в журнале «Звезда» было напечатано мандельштамовское «Путешествие в Армению»[62]62
«Звезда», 1933, № 5.
[Закрыть].
Как же это? Нарушена система мироздания. Случается, значит, не идиотизм редактора приходит на помощь писателю, а ум и смелость?
«…Цезарь Вольпе не только напечатал в “Звезде” “Путешествие в Армению”, но даже тиснул снятый цензурой отрывок…» (460) [417].
Вот, значит, как: во все времена среди всяких категорий людей всякие встречаются люди, нарушая своим существованием и поступками любую схему. Порадуемся, например, тому, что в 1962 году, после XXII Съезда партии, когда всем органам печати предписано было отозваться на разоблачение сталинских зверств, или, говоря бюрократически-приличным слогом, откликнуться на «массовые нарушения социалистической законности в период культа личности», редактором журнала «Новый мир» оказался не кто иной, а именно Александр Твардовский. «Главное дело редактора – селекция, отбор», – говорил Маршак. Редактор «Нового мира» мог отбыть обязательную тему, избрав для этого, ну, скажем, «Самородок» Г. Шелеста[63]63
Георгий Шелест. Самородок // Известия. 6 ноября 1962.
[Закрыть], а он – и созданная им интеллигентная, умная, с выработанным вкусом редакция – предпочли фальшивому – истинный самородок, и благодаря им страна пережила «Один день Ивана Денисовича», и «Матренин двор», и «Случай на станции Кречетовка», и «Для пользы дела». День, в чьем ярком свете явлено было нам – и всему миру – наше, живущее под спудом, богатство. Поздравим же себя с той истиной, что на самом деле не все редакторы идиоты и что каждая попытка без разбора осуждать целые категории людей неизбежно оборачивается ложью.
Взять хотя бы те же издевки Надежды Яковлевны над Маршаком. Они лживы. Надежда Яковлевна сообщает, что Маршак полагал, будто из каждого человека можно сделать писателя (462) [418]. Совершенно напротив: Маршак-редактор полагал, что далеко не всякий бесспорный писатель, именитый, талантливый, гениальный, способен создавать книги для маленьких. (За это многие писатели, разной степени одаренности, его ненавидели тогда и ненавидят по сей день.)
Сообщает она также, будто Маршак избегал всякого соприкосновения с действительностью. Снова ложь. В условиях нашей цензуры не особенно-то соприкоснешься с действительностью; к тому же Маршак работал в системе Государственного издательства; но близости с жизнью Маршак не избегал, а искал.
Цитирую стенограмму:
«Нами владело убеждение, что мы можем передать детям весь опыт человечества от ремесла до высоких и сложных научных дисциплин, и огромное количество людей может участвовать в этой передаче либо на ролях очеркистов, либо корреспондентов, либо художников – за исключением людей, лишенных вдохновения, наблюдательности, подходящих к делу как спекулянты»[64]64
«Новый мир», 1968, № 9, с. 174.
[Закрыть].
Разве это значит – работать на пустом месте, избегать сближения с жизнью? Или, как сочиняет Надежда Яковлевна, воображать, будто из каждого человека можно сделать писателя? Речь идет не об искусственной выделке писателей, а о возможно более полной передаче детям возможно более разнообразного опыта жизни – для чего годятся художники, физики, геологи или, скажем, пожарные, но решительно не годны спекулянты. И физикам, и геологам, и пожарным есть о чем рассказать.
Спекулянтам всякого рода проповедь Маршака пришлась сильно не по душе. Чем, казалось бы, и спекулировать, как не книжонками для детей? А тут вдруг – наблюдательность, любовь к своей профессии, свежесть научного и жизненного материала, чутье к языку, не говоря уж о том, что сказка должна быть сказкой, стихи – в самом деле стихами… Когда – в 1937 году – разразился в редакции погром, спекулянты кричали громче всех. Они наглотались обид и спешили их выместить.
Впрочем, и до погрома работа «ленинградской редакции» велась под постоянным обстрелом: та самая «научная старушка», заседавшая во всех комиссиях Наркомпроса и Государственного ученого совета (ГУСа), о которой пишет О. Мандельштам в статье «Детская Литература»[65]65
Осип Мандельштам. Собр. соч.: [В 4 т.]. Т. 3.1969, с. 50–51.
[Закрыть], люто ненавидела всякую сказку и всякую игру – а Маршак настаивал и на игре и на сказке – предпочитала гладкий прилизанный язык буйному слогу Житкова или Пантелеева, с естественной подозрительностью чиновницы относилась к попыткам приоткрыть перед детьми хоть краешек живой жизни, – и «ленинградскую редакцию» молодые и старые «научные старушки» поедом ели на страницах педагогической и общей печати и на всех официальных совещаниях и заседаниях.
Спасал «ленинградскую редакцию» Горький, с которым еще в отрочестве подружился Маршак. Все выступления Горького по детской литературе связаны так или иначе с обороной «ленинградской редакции». В 1936 году, накануне 1937, то есть накануне массового избиения партийной и беспартийной интеллигенции, Горького убили. Он был устранен – оборона прорвана.
В 1937 году наркомпросовская научная старушка из нудного рецензента и ретивого цензора превратилась в Бабу-Ягу, а потом обернулась Драконом, и ленинградскому Запорожью был положен конец: началось заглатывание человеческих жертв.
(Примечательна, между прочим, последующая, уже после гибели «ленинградской редакции», дружба между Маршаком и Твардовским.
Маршак и Твардовский – люди, характеры, поэты совершенно несхожие, и обстоятельства, в которых они работали, тоже не совпадают, а вкусы в литературе совпадали разительно: обожание русского языка – не приглаженного, а богатого, разнообразного, щедрого; обожание эпоса, фольклора; обожание классической русской поэзии – а у Маршака еще и английского фольклора и английских классиков. Этими совпадениями жила и питалась дружба между Маршаком и Твардовским. Еще интереснее, что существует сходство между созданными ими в столь разные времена, со столь разными целями и в столь разных обстоятельствах редакциями. Оба редактора, соблюдая все правила официальной игры, – соблюдая их отчасти по необходимости, отчасти по увлечению, по любви, старались воздвигнуть щит для живого и дать живому расти. Оба – и Маршак и Твардовский – собрали вокруг себя «единомышленников в искусстве», связанных между собою общностью вкусов, любовью к делу и друг другу; обе редакции, как самостоятельные живые организмы, естественно притягивали к себе живое и стали на целые годы духовными центрами, где встречались и пересекались люди, мнения, судьбы, стихи; обе, именно жизненностью, самопроизвольностью и прочностью человеческих связей были неизбежно обречены на разгром и подверглись ему; одна редакция в кровавом и барабанном духе тридцатых годов – вредители, шпионы, диверсанты! другая в бескровном, шито-крытом стиле конца шестидесятых: ничего не случилось, никакой расправы, просто главный редактор почему-то уходит, окруженный не только дружеским, но и официальным почетом. А его товарищи? с ними тоже ничего худого: один куда-то переведен, другой откуда-то выведен; третий, четвертый, пятый почему-то сами ушли, – все спокойно, ничего не случилось. Читатели получают тот же самый журнал, под тем же названием и в той же обложке, и листаж каждого номера тот же – но пусто и немо в тех же, еще недавно шумевших жизнью комнатах, и не стоят хвосты у газетно-журнальных киосков. Манеры разгрома обеих редакций разные – времена изменились! – а результат один: вместо живого литературного движения – мертвое и мерное поскрипывание бюрократического механизма.)
Надежда Яковлевна, повторяя предпогромные и послепогромные сплетни тридцатых годов, бормочет что-то о какой-то безмятежной ленинградской идиллии, о маршаковских редакторах, которые «точили, шлифовали и подпиливали» каждую фразу и таким способом с годами продвигались по служебной лестнице вверх: из младших редакторов в старшие (462) [418].
Карьеристы!
Проработав в «ленинградской редакции» девять лет, я не видела ни одного случая продвижения младшего редактора в старшие, зато превращения редакторов и писателей – в заключенных имела возможность наблюдать с очень близкого расстояния.
Но об этом я уже тоже писала…[66]66
«Маршак-редактор». Глава из книги «В лаборатории редактора» (Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Искусство, 1963).
[См. также: Лидия Чуковская. В лаборатории редактора. М.: Время, 2011.]
[Закрыть] В резвом повествовании Надежды Яковлевны, позабывшей упомянуть о пролившейся крови, мне остается исправить только некоторые мелкие фактические лжи. Они касаются «обэриутов».
«За его спиной (спиной Маршака. – Л. Ч.) прятался Олейников, считалки для детей делал ему Хармс» (462) [418].
Обэриуты «примостились около Маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками» (141) [130].
Дались Надежде Яковлевне эти считалки! Сразу видно, что ни одной детской книги обэриутов – ни Введенского, ни Хармса – она в руки не брала и ровно ничего об отношениях между Олейниковым, Хармсом, Введенским, Владимировым и Маршаком не знает. Не имеет понятия.
Олейников за спиною Маршака не прятался, хотя бы потому, что прятаться вообще не было нужды: был он членом партии, ответственным редактором двух журналов; стихи свои он, новый Козьма Прутков, писал открыто и раздавал всем, направо и налево. В печать они не попадали – редакторы тонких и толстых журналов считали их пустяковинами, но зловредства в них не находил никто. Публичные стихотворные признания в любви были одной из постоянных забав Олейникова. Часто читал он свои стихи вслух – не с эстрады, но, например, в нашей редакционной комнате, набитой народом, – или в коридоре, у окна, у всех на виду.
– Приветствую вас от имени советской общественности, – говорил Олейников, входя в нашу комнату, кланяясь и прикладывая руку к сердцу. – Живите красиво.
Мы знали: он пришел нам мешать – стихами, и радовались этой помехе.
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Или:
Генриху Левину по случаю влюбления его в Шурочку
Страшно жить на этом свете:
В нем отсутствует уют —
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика жуют.
……………………….
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника.
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Лев рычит во мраке ночи,
Филин воет на трубе[67]67
Я встречала вариант: Кошка стонет на трубе.
[Закрыть].
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.
Всё погибнет, всё исчезнет —
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна!
Или:
Я твой! Ласкай меня, тигрица!
Гори над нами страсти ореол!
Но почему с тобою мы не птицы?
Тогда б у нас родился маленький орел.
Или:
Возьми поскорей мою руку.
Склонись головою ко мне,
Доверься, змея, политруку —
Я твой изнутри и извне.
Олейников не любил Маршака; Маршак не всегда был доволен «Чижом» и «Ежом», которыми ведал, уйдя из нашей книжной редакции, Олейников, но стихи Олейникова ценил и знал наизусть; никто из них друг за друга не прятался – это чистый вымысел всезнающей Надежды Яковлевны. Имея очень отдаленное представление о Маршаке и Олейникове, она непременно должна о них высказаться, вынести свою резолюцию. Вот и получается вздор.
Насчет «обэриутов», якобы зарабатывавших себе на хлеб «у Маршака» считалками – тоже вздор, и притом злонамеренный. «Считалки ему делал Хармс». После запятой следует: но сила Маршака была не в этом. Сила Маршака была в удивительном умении угадывать скрытые возможности одаренных людей. Хлебников был для Маршака любимым поэтом; вглядываясь в работу «обэриутов» – Заболоцкого, Хармса, Введенского, Владимирова, которые от Хлебникова вели свою родословную, Маршак предположил, что они могут внести нечто драгоценное в литературу для маленьких: причудливость, выдумку, свойственную детскому фольклору, между прочим и считалкам – и догадка его подтвердилась.
(Кстати, почему, презирая С. Я. Маршака, Надежда Яковлевна заодно столь высокомерно относится и к считалкам?
Создание считалки требует юмора, глубокого знания языка, абсолютного чувства ритма… «Сделать» на заказ считалку почти так же немыслимо, как «сделать» поговорку или пословицу. Обычно и то, и другое, и третье создает народ. Когда строки поэта превращаются в пословицу, как случилось, например, с некоторыми строками из басен Крылова или из «Горя от ума» в русской поэзии XIX века и с несколькими в поэзии XX, – это редчайшая удача. Поэт, чьи строки способны превратиться в пословицу или считалку, – большой поэт.)
Маршак угадал в Хармсе и Введенском, которые до него почти нигде не печатались, больших поэтов.
Он взял их за руки и вывел на авансцену.
Своими сообщениями: обэриуты «примостились около Маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками» или «считалки ему делал Хармс», Надежда Яковлевна хочет свести работу обэриутов в поэзии для детей к какому-то вымученному заказному ремесленничеству. Но таких вещей, как «Тарарар» – вдохновенная мальчишеская игра, – по заказу не сделаешь. Считалок Хармс и Введенский как раз не писали. Среди громогласных причуд Хармса разве только «Миллион» можно отнести к считалкам; «Иван Иваныч Самовар», «Врун», «Как папа застрелил мне хорька», «Иван Топорышкин», «Тарарар» и пр. – какие же это считалки? А у Введенского и одной считалки не наберешь. Но не может же Надежда Яковлевна брать в руки книги, о которых пишет!
В 1938 году, в минуту уничтожения «вредительской группы Маршака» (таково стало звание «ленинградской редакции») Олейников погиб, а Хармс уцелел, – но ненадолго: во время войны его все-таки «добрали», и он погиб в заключении. Введенский (успев еще до 1937 года побывать в ссылке) во время войны умер от тифа, где и как – неизвестно. Заболоцкий, который, подружившись с Маршаком, начал писать не только стихи для взрослых, но деятельно сотрудничал и в «Еже», и в «Чиже», и в «Костре» – ив книжной «ленинградской редакции» (перерабатывал, например, для детей «Уленшпигеля» и «Гаргантюа») – получил в 1938 году 8 лет лагеря. Владимиров скончался от туберкулеза еще до погрома и до войны.
Когда Хармс был реабилитирован – посмертно – в судьбе его поэм для детей снова принял участие Маршак. Издательство «Детский Мир» поручило мне составить сборник избранных стихотворений Хармса – я его составила и назвала «Игра»; чуть только в 1962 году сборник вышел из печати, журнал «Крокодил» не хуже наркомпросовской «научной старушки», сразу кинулся на поэзию, любимую детьми и поэтами, но непостижимую для чиновников[68]68
«Крокодил», 1963, № 4.
[Закрыть]. Все как водится: восторженные письма читателей умолчены, отрицательные отзывы – приведены. Тридцати с лишним лет борьбы за сказку, борьбы за игру как не бывало; Хармс – это «издевательство над здравым смыслом». Я тогда в защиту Хармса написала статью, но ее не напечатали. Трое известных писателей обратились в редакцию журнала с защитным письмом. «Крокодил» вынужден был это письмо напечатать. Первой под защитной статьей стояла подпись: С. Маршак[69]69
Там же, № 7.
[Закрыть]. Он некогда привлек Хармса к литературе для детей, он защищал его с самого начала от нападок «научной старушки» – естественно было ему выступить на защиту поэта и в последующие годы.
Все эти факты Надежде Яковлевне нипочем. К обэриутам она благоволит, роли Маршака в их судьбе замечать не желает. Над литературно-педагогическим опытом Маршака Надежда Яковлевна издевается как может – ни судьбы людей (аресты, лагеря, расстрелы), ни судьба самого опыта ее не удерживают нисколько. «Маршак задыхаясь говорил о Шекспире и Пушкине» – смешно, не правда ли? Маршак говорил задыхаясь обо всем на свете, потому что у него была тяжелая астма. Но какое ей дело до чужих болезней? Ей бы унизить человека, а для унижения годится все – даже болезнь. К сведениям Надежды Яковлевны могу прибавить, что Маршак не только задыхался, но и неистово кашлял.
…С удовлетворением прочитала я во «Второй книге» отзыв Надежды Яковлевны об Илье Григорьевиче Эренбурге. Не плевок – уважительное слово!
«Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей». «Среди советских писателей он был и оставался белой вороной» (21) [22].
И. Г. Эренбург и в самом деле пытался что-то делать для людей, и за это я глубоко его уважаю. Однако я не нахожу, чтобы среди наших писателей он был полным исключением. Мне повезло: литераторы, «пытавшиеся что-то делать для людей», встречались мне не так уж редко.
Вот свидетельство об одном из них.
«…Он действительно чужие беды разводил своими руками – буквально, физически разводил. Сколько раз, когда я попадал в беду (а беды ходили за мной по пятам всю жизнь), он бросал все свои дела, забывал о недомогании, об усталости, о возрасте и часами не отходил от телефона, а если телефон не помогал, ехал сам, а если ехать было не на чем – шел пешком, стучался во все двери, ко всем, кто мог помочь, говорил, убеждал, воевал, бился, дрался и не отступал, пока не добивался победы.
Нет, не за меня одного он так бился. Думаю, сотни и тысячи людей поднимут руки, если спросишь: кому он помог? Он хлопотал за больного, за арестованного, за товарища, не имеющего квартиры. Он выхлопатывал персональные пенсии, железнодорожные билеты, дефицитное лекарство, московскую прописку, путевки в санаторий… Не всегда делал он это с улыбкой, иногда морщился, крякал, покусывая большой палец, но все-таки делал».
Так пишет Л. Пантелеев об С. Маршаке[70]70
Маршак в Ленинграде //Л. Пантелеев. Избранное, с. 513–514.
[Закрыть].
Мне странно, что, называя исключения в литературной среде, – то есть тех, кто пытался помочь другим, – Надежда Яковлевна позабыла кроме И. Г. Эренбурга помянуть еще одного человека. Я бы на ее месте о нем помнила. Вряд ли остался ей неизвестен документ, который я сейчас приведу.
Самуил Яковлевич Маршак скончался 4 июля 1964 года. А во время его предсмертной болезни получено было на его имя такое письмо.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?