-

Просмотров: 35977
Горе от ума
Александр Грибоедов
В книгу вошли знаменитая комедия в стихах Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»…
-

Просмотров: 3003
Одесские рассказы
Исаак Бабель
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) – русский писатель, переводчик, сценарист и военный…
-

Просмотров: 2238
Как узнать и изменить свою судьбу.…
Михаил Литвак
В книге обобщен клинический опыт автора по сценарному перепрограммированию. В ней…
-

Просмотров: 915
Перекресток воронов
Анджей Сапковский
Закончились годы учебы, и Геральт покидает надежные стены крепости Каэр Морхен.
Здесь, в…
-

Просмотров: 836
Не быть жертвой. Как противостоять…
Сатья
Многие люди приходят в отношения не для того, чтобы сделать счастливыми нас, а чтобы…
-

Просмотров: 680
Нарциссический абьюз. Как распознать…
Шахида Араби
Самая подробная книга о нарциссизме от Шахиды Араби – автора бестселлера МИФа «Токсичные…
-

Просмотров: 516
Вершители. Книга 3. Тень Чернобога
Евгения Кретова
После долгих и трудных приключений Катя Мирошкина наконец-то возвращается к своим…
-

Просмотров: 410
Пять строк из прошлого
Анна и Сергей Литвиновы
Захватывающая сага о дружбе, любви и предательстве, разворачивающаяся на фоне бурных…
-

Просмотров: 374
Саммари книги «Формула. Стратегия…
Коллектив авторов
Социальный статус и достаток значат меньше для успеха ребенка в будущем, чем воспитание.…
-

Просмотров: 315
Картинки и фото в разных нейросетях.…
Дмитрий Зверев
Это новая версия книги от января 2026 года.
Нейросети. Все чаще можно услышать это…
-

Просмотров: 280
НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей,…
Джен Синсеро
Мало кто знает, но наша жизнь на 70 % состоит из привычек. И они могут быть не только…
-

Просмотров: 224
Праведники / грешники русской смуты.…
Анджей Иконников-Галицкий
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ…
-

Просмотров: 189
Ключевые идеи книги: Пить, чтобы…
М. Иванов
Этот текст – сокращенная версия книги Роя Эскапы «Пить, чтобы бросить пить. Как…
-

Просмотров: 171
Вход только для мертвых
Валерий Шарапов
1946 год. В склепе одного из тамбовских кладбищ обнаружен труп молодой женщины. Сыщикам…
-

Просмотров: 162
Собственное расследование. Комплект из…
Мария Воронова
Комплект из 2 книг – платите меньше, читайте больше!
С состав входят: Прибавление…
-

Просмотров: 157
Убийство в час быка
Ирина Градова
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ…
-

Просмотров: 156
Серия учебников по раскладу Таро на…
Ольга Хромова
Можете ли вы назвать себя счастливым человеком?
Сфера «Счастье, радость» – одна из тех,…
-

Просмотров: 154
Див Тайной канцелярии
Виктор Дашкевич
Как жили дивы прежде, в XVIII веке? И что повлияло на формирование личности и…
-

Просмотров: 146
Песня для Девы-Осени
Елена Абрамкина
С детства знал Гришук-гусляр немало сказок и песен, но особенно запала ему в душу история…
-

Просмотров: 138
Та, которую я предал
Амина Асхадова
– Тимур, нам нужно поговорить. Это касается нашей дочери, – слышу женский голос из…
-

Просмотров: 138
Осознанная беременность от зачатия до…
Анатолий Некрасов
«Осознанная беременность от зачатия до родов» – это теплый путеводитель для будущих мам.…
-

Просмотров: 132
Песец в тропиках
Олег Сухонин
Оказаться в заложниках в чужой стране, находиться под постоянным прессингом зарубежной…
-

Просмотров: 129
Чертово взросление! Практическое…
Никита Карпов
Если ваш подросток хлопает дверями, плохо учится и отвергает любые советы – этот сборник…
-

Просмотров: 128
Бомжонок
Наталья Бессонова
За сияющими фасадами столицы, где протекает благополучная жизнь горожан, скрыт совершенно…




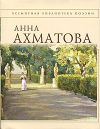


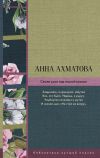
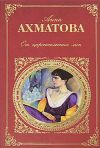


































У каждого поэта или писателя есть такая книга, которую он пишет от начала пути до самого конца. Как словесное времяисчисление их жизни. Перед нами именно такая поэма: о пересечении временных пространств, пророчествах и клятвах, о сожалении и невозможности что-либо исправить и, конечно, о прозрении в наивысший момент, момент раскаяния.