Текст книги "Еврей Зюсс"
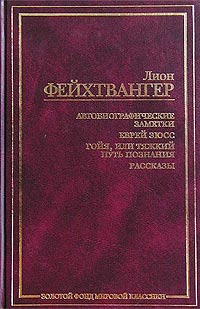
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
У него были несметные личные доходы. Всякий, кто хотел чего-либо добиться при вюртембергском дворе, задабривал его презентами и знаками внимания. Герцог, которого осведомил об этом Ремхинген, рассмеялся: «Пусть наживается, шарлатан. Каждый его профит – для меня профит вдвойне». Его торговля кровными лошадьми приняла широкие размеры, но больше всего разрослась его торговля драгоценными камнями. Он с давних пор питал фанатическую страсть к драгоценностям; однако до сих пор при каждой крупной сделке ему поперек дороги становился некий дон Бартелеми Панкорбо, португалец, долговязый, тощий, молчаливый, загадочный человек с ввалившимися щеками и глазами, с лицом точно маска мертвеца. Казалось, он каким-то оккультным путем узнавал, где можно раздобыть по-настоящему ценное украшение, и сразу же там появлялась его фигура в старинной, нескладной, плохо прилаженной придворной португальской одежде. Он был в чинах и почете при курпфальцском дворе, благодаря своим дипломатическим связям держал в руках амстердамский рынок, а отсюда и всю германскую торговлю драгоценными камнями. Теперь Зюсс пустил в ход все свое политическое влияние, чтобы избавиться от ненавистного конкурента. Еврей боролся страстно, с остервенением; хладнокровно, цепко, коварно держась за каждую пядь, отступал тощий, загадочный португалец. Однако он был неистребим, его тень всегда ложилась на сделки Зюсса; но только лучшие и самые редкостные камни теперь сначала предлагались Зюссу и приобрести некоторые уникальные драгоценности можно было лишь через него.
Торговля камнями была для Зюсса главным образом увлекательной игрой и наряду с крупной прибылью приносила и немалые убытки; зато он постарался обеспечить себя постоянным и верным доходом из целого ряда других источников. Он умудрялся устроить так, что всякий раз, как наступал срок значительных платежей – выдачи жалованья чиновникам и военным, – в герцогской казне не оказывалось наличных денег. Зюсс выдавал нужную ссуду из собственного капитала, удерживая в свою пользу по грошу с гульдена. Горожане и крестьяне видели в этой явно жульнической махинации источник всех своих невзгод, и никакая нужда, никакие лишения не угнетали их так, как этот отнятый евреем грош.
Он взял на откуп и чеканку монеты. Но пренебрегал наживаться на неполноценности денег. К таким примитивным и низменным приемам он прибегал поневоле в период договора с Дармштадтом, когда был еще совсем безвестной и ничтожной пешкой и когда ничего другого ему не оставалось. Теперь же куда дальновиднее было зарабатывать на повышенном обороте полноценных денег. Итак, монета, которую он чеканил, была лучшей из всех германских разменных монет, наиболее ходкой и ценимой. Но, главное, ему не терпелось выпуском доброкачественной монеты заткнуть глотку своим врагам. Он понял, что именно на этом противники постараются поймать его, что именно здесь он споткнется при малейшем неверном шаге; если же, наоборот, он в этом покажет свою честность, его кредит неимоверно возрастет. Он с нетерпением ждал каких-либо нападок, даже старался поскорее вызвать их. Тугодум Ремхинген в числе многих других, столь же наивных в финансовых вопросах, не мог объяснить себе растущее богатство Зюсса иначе как только трафаретным предположением, будто еврей чеканит фальшивую монету. Он подзуживал герцога до тех пор, пока тот не приказал произвести расследование. Тогда Зюсс, со смиренно торжествующей улыбкой, представил письменные свидетельства агентов о том, что вес его монет слишком велик, а посему на них ничего не заработаешь, и расцвел еще пышнее в лучах собственной непорочности.
Он участвовал, кроме того, в целом ряде соглашений и откупов. Повсюду у него были разбросаны амбары и склады товаров, а герцогским указом он был освобожден от пошлин и акцизных сборов; кроме того, государственные чиновники, городское и окружное начальство облагали население трудовой и гужевой повинностью для его личных нужд. Он исхлопотал себе привилегию на устройство лотерей и обчищал карманы приманкой выигрыша в лотерее или в игорном доме. Он оплел всю страну широко разветвленной сетью многообразных предприятий. Он блаженствовал и упивался своим могуществом. Но порой ему казалось, что не от него исходит весь этот сверкающий вихрь. И не раз, точно обороняясь, как в ознобе, передергивал плечами. Его вдруг охватывало какое-то гнетущее чувство. Все предметы вокруг него как-то странно блекли; ему чудилось, будто он скользит в беззвучной, призрачной кадрили, рабби Габриель держит его за правую руку, герцог за левую. Они выделывают замысловатые фигуры, отвешивают поклоны. А там, дальше, в цепи танцующих, сплетенный с ним множеством рук, разве то не Исаак Ландауер? Как зловеще комичен он в лапсердаке и с пейсами, при этом строгом, молчаливом, размеренном танце, поворотах и поклонах.
Но мрачная призрачная картина терзала его лишь краткие мгновения. Она таяла перед озаряющим его светом, рассеивалась в ничто, распылялась. А ему оставалось золото, которое можно взвешивать и считать, женская плоть, которую можно осязать и ласкать, стискивать, брать. Это было и оставалось. Блеск, власть, вихрь, жизнь.
В Урахе имелась полотняная фабрика, которая принадлежала семье Шертлинов. Шертлины начали дело с малого при Эбергарде-Людвиге, а теперь пустили корни по всей стране. Их предприятие процветало, у них были филиалы в Маульбронне, а в Штутгарте шелковая мануфактура. В свое время, когда фабрика была еще мала и незначительна, Кристоф Адам, энергичный, умелый и удачливый глава семьи Шертлинов, добился ее преобразования в акционерное общество и уступил графине Гревениц часть паев по цене много ниже номинала. Таким простым маневром могущественная фаворитка была вовлечена в интересы предприятия, она добывала компании заказы и всяческие привилегии. Позднее, когда графиня впала в немилость и была вынуждена ликвидировать свое имущество, находящееся в Вюртемберге, Кристофу Адаму Шертлину удалось, договорившись с Исааком Ландауером, скупить ее акции по дешевой цене. Теперь он удалился от торговых дел, покинул пределы герцогства, приобрел и реставрировал патрицианский дворец в вольном имперском городе Эслингене. Там он был избран в члены муниципалитета и достойно доживал свой век в довольстве и почете.
Дела штутгартской, урахской и маульброннской мануфактур вел теперь Иоганн Ульрих Шертлин, дельный, решительный, предприимчивый человек, один из виднейших швабских промышленников. Он взял себе в жены француженку из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденсами в конце прошлого столетия в Маульброннском округе, молодую женщину, отличавшуюся своеобразной красотой, маленьким ярко-пунцовым ртом на белом лице и надменными продолговатыми глазами под ореолом рыжеватых волос. Друзья и родственники не знали, как держать себя с ней. Женщина она была видная, спору нет, но только дьявольски высокомерная, отвечала скупо и кратко, а большей частью молчала со скучающим видом; да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки с запинкой. Но Иоганн Ульрих Шертлин при своем богатстве и видном положении мог себе все позволить; у него были собственные дома и в Штутгарте и в Урахе, не считая фабрик. Так мог же он, черт подери, взять себе в жены и ввести в свой дом кого хотел! И он гордо проходил по жизни об руку с любимой женой, и семья и дело его процветали.
А у Зюсса был приятель, связанный с ним деловыми отношениями, некий Даниель Фоа, который жил в Венеции и добывал ему из стран Леванта деньги, лошадей, драгоценности, ткани и вина. Белую кобылу Ассиаду доставил тоже он. Этот Даниель Фоа был знаком Зюссу еще по Пфальцу, где оказал ему весьма существенную поддержку в борьбе с доном Бартелеми Панкорбо. Левантинец, смелый, способный делец, наладив широкую торговлю тканями вверх и вниз по течению Рейна, решил теперь, воспользовавшись влиянием Зюсса, пробраться и в Швабию.
Он получил всяческие льготы и привилегии, однако натолкнулся на конкуренцию шертлиновских мануфактур, которые снискали себе добрую славу по всей стране. Желая оказать услугу левантинцу, Зюсс с присущим ему холодным расчетом принялся безжалостно устранять эту конкуренцию. Начались придирки к шертлиновским фабрикам, их права оспаривались и постепенно сводились на нет, их договоры с казной расторгались, акциз и пошлины на их товары были настолько повышены, что они уже не могли выдержать конкуренцию. К тому же сам финанцдиректор, в качестве подставного лица, на свое имя открыл для Даниеля Фоа фабрику, а податное ведомство не осмеливалось начислять на всесильного временщика налоги в указанных грандиозных масштабах, и товары его облагались либо совершенно ничтожными сборами, либо вовсе не облагались.
В дальнейшем начались притеснения и самой семьи Шертлинов. С одним из них фискальное ведомство по самому ничтожному поводу затеяло тяжбу, из которой он никак не мог выпутаться, двое младших Шертлинов были призваны в армию, несмотря на предложенный ими большой выкуп. Добраться до старика Кристофа Адама, проживавшего в вольном городе Эслингене, правда, не удавалось, Иоганна Ульриха пока тоже не смели тронуть, но произвол еврея тягчайшим гнетом навис над этой семьей, и Иоганн Ульрих изнывал от горя, что дело его погибает, от стыда, что двое молодых Шертлинов силой забраны в армию, и от скорби, что он не может окружить свою прекрасную супругу княжеской роскошью, о какой мечтал для нее.
Тут наконец Зюссу подвернулся капкан, в который он мог поймать Иоганна Ульриха. Один из молодых Шертлинов, что был солдатом, получил отпуск для поездки в Эслинген к деду и не вернулся оттуда. Переговоры между герцогом и вольным городом по поводу выдачи дезертиров шли давно, но пока ни к чему не привели. По настоянию маститого члена магистрата город отказался выдать юношу. В это время лейб-гусары Зюсса перехватили письмо Иоганна Ульриха, в котором тот поддерживал старика в его намерении не выдавать дезертира герцогским комиссарам. Это уж было преступление против военных законов, государственная измена.
Зюсс, имея на руках все козыри, приступил к делу осторожно, не торопясь. Сначала Иоганну Ульриху было предложено явиться к герцогскому военному следователю. Но так как самолюбивый купец ответил гневным отказом, его арестовали и заключили в гогентвильский каземат. Ходили толки, что его будут судить военным судом и приговорят к пожизненной каторге.
В опустевшем доме сидела бледная как смерть француженка. Строго сжав полные пунцовые губы, она безмолвно принимала любопытствующее сочувствие родни и друзей. Когда же все устали утешать гордячку, которая ни при ком даже не соблаговолила всплакнуть, и оставили ее в покое, к ней пожаловал советник Бюлер из фискального ведомства, состоявший в отдаленном свойстве с Шертлинами. Те всегда открещивались от него, считая его креатурой Зюсса. Теперь он явился с важным видом, едва скрывая свое торжество: разыграл комедию снисходительного сострадания, нашел, что француженка очень авантажна в своей немой высокомерной скорби, посоветовал ей обратиться к Зюссу. На того наговаривают, будто он крут в делах, это и вполне естественно, однако он не мстителен.
Любила ли француженка своего мужа, этого не знал никто, не знала и она сама. Но так как близился суд, она отправилась к Зюссу.
Она была из хорошей семьи, в их роду сохранились навыки французской придворной жизни, пышных аристократических традиций. Она увидела апартаменты еврея, его темно-малиновых лакеев, пажей. Увидела ковры, статуи, китайские безделушки. Это было не похоже на добротное убранство в доме Шертлинов. Здесь было то великолепное изобилие, то излишество, что превращает жизнь из тяготы, из обузы в усладу, в упоение, в нечто желанное и милое сердцу. Зюсс был настроен на веселый лад, и гостья ему приглянулась. Он обошелся с ней как со знатной дамой, говорил только по-французски, заметив, что ей это больше по душе, окутал ее лаской светских комплиментов, ни словом не обмолвился о ее горе. Это была ее атмосфера; приди она не в роли просительницы, она досталась бы ему шутя. Но теперь, когда он неожиданно, с циничной развязностью перебросил мостик от ее просьбы к своему вожделению, она, смертельно побледнев, на миг застыла, ошеломленная. Очнувшись, она крикнула ему негодующим тоном, что стыдится своего поведения, ей следовало раньше вспомнить, что она имеет дело с евреем. В ответ он спокойно, не поведя бровью, улыбнулся, отвесил глубокий поклон: «Нет так нет!» – почтительно проводил ее до двери и на прощание поцеловал руку.
Он освободил Иоганна Ульриха из тюрьмы и удовольствовался тем, что предоставил окончательное решение вопроса фискальному ведомству. Иоганн Ульрих отделался денежным штрафом, настолько, однако, высоким, что предприятие его было подорвано навсегда.
Встреча с Зюссом оставила в душе француженки жгучий след. До сих пор она не знала, любит ли мужа или нет. Теперь осознала, что презирает его. Его долг был преуспевать. Он был недостоин ее, если не преуспел. Она презирала его за то, что он не мог предоставить ей блеск, изобилие, и темно-малиновых лакеев, и китайские безделушки, как мог Зюсс, презирала за то, что он был побежден Зюссом, что она ради него стояла перед Зюссом в такой жалкой роли. Она презирала его за то, что ради него отклонила домогательства Зюсса. Зюсс – это высший свет, он сродни ей, Иоганн Ульрих – ничтожный мещанин. Обо всем этом и даже о своем визите к еврею она не обмолвилась Иоганну Ульриху ни словом. Он кипел против еврея, кричал, грозил кровавой местью. Но все это было праздное пустословие. Ее продолговатые глаза с холодным, надменным равнодушием глядели на него, и он знал не хуже ее, что он сломлен, раздавлен и ничего никогда не сможет сделать.
Он опускался все ниже и ниже. Фабрика в Урахе была продана с торгов, проданы и филиалы в Штутгарте и Маульбронне. Приобрел их левантинец. А Шертлину, как постыдную подачку, предложили место управляющего на одной из принадлежащих ему фабрик. Возможно, что он и согласился бы, если бы жена резко и решительно не отклонила предложения, почуяв тут руку Зюсса. Другие члены семьи Шертлинов тоже были вовлечены в катастрофу. Пошли с молотка дома в Урахе и Штутгарте, земли и виноградники. Уцелел только старик Кристоф Адам в Эслингене. Он еще выше держал свою крупную старческую голову, еще сильнее ударял оземь бамбуковой тростью, крепко сжимая золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой.
По примеру очень многих из тех, кто потерял во время правления Зюсса добро и кров, Иоганн Ульрих решил примкнуть к партии переселенцев, собравшихся в Пенсильванию. Француженка воспротивилась. Произошла короткая и жестокая борьба. Он избил ее, но остался на месте. Он открыл в Урахе мелочную лавку, скатился на самое дно, проводил время в кабаках, напивался, кощунственно клял герцога и окаянное жидовское хозяйство. Хотя других тяжко карали за такие крамольные речи, его не трогали. А его мелочной лавке власти явно покровительствовали. Им, по-видимому, были даны соответствующие указания из влиятельного источника.
Француженка, хотя и бедно одетая, держала себя по-прежнему надменно. Ее продолговатые глаза бросали вокруг высокомерные взгляды. Если покупатель пытался вступить в пространный разговор, она отвечала скупо и кратко. Большей частью она молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки – с запинкой.
По роскошным апартаментам Зюсса прохаживался Исаак Ландауер в неизменном долгополом кафтане, на рукаве он упорно носил вюртембергский значок для евреев – латинское S с рогом, – чего никто от него не требовал. Блестящие зеркала, обрамленные позолотой и ляпис-лазурью, отражали его облик, умное, сухощавое лицо с пейсами и с козлиной рыжеватой седеющей бородкой. Финанцдиректор показывал ему свой дом. Старик в долгополом кафтане постоял перед вазами, гобеленами, звенящими пагодами, с обидной насмешливой улыбкой оглядел торжество Меркурия, костлявой холодной рукой потрепал белую кобылу Ассиаду, прошел мимо двух пажей, сынков начальника удельного ведомства Лампрехтса, которые стояли навытяжку у входа во внутренние покои. Пощупал богатую обивку на мебели, с поразительной точностью определил ее цену. Остановился, покачивая головой, перед бюстами Моисея, Гомера, Соломона, Аристотеля и заметил: «Таким наш учитель Моисей сроду не был». Тут как раз попугай Акиба прохрипел из своей клетки: «Как изволили почивать, ваша светлость?»
Зюсс давно поджидал Исаака Ландауера. К этому визиту он готовил свой дворец тщательнее, нежели к визиту любого государя. Он старался уловить на лице гостя изумленное, восторженное одобрение; ему страстно, мучительно хотелось поразить человека в долгополом кафтане, именно его. Но Исаак Ландауер только покачал головой, потер зябкие руки, улыбнулся, заметил:
– К чему это, реб Иозеф Зюсс?
В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь обер-прокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась метрессой финанцдиректора и проживала у него в доме. Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюсс выбранил ее за непрошеное появление, она отговорилась первым попавшимся предлогом, оглядела, поджав губы, Исаака Ландауера и удалилась.
– К чему это, реб Иозеф Зюсс? – повторил Исаак Ландауер. – К чему непременно тридцать слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас тридцать слуг вместо трех? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку, я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую широкую кровать. Но к чему вам попугай? Зачем еврею попугай?
Зюсс молчал, до корней волос пылая злобной досадой. Это уже не чудачество, это насмешка, прямая, явная насмешка. Ни один министр не отважился бы на то, что с самой невозмутимой самоуверенностью позволял себе старик в долгополом кафтане: открыто потешаться над ним. А он был бессилен перед этим стариком, он нуждался в нем и мог лишь молчать. Того и гляди чудак опять вытащит на свет Божий старые, затхлые истории, которые давно утратили всякий смысл и никого больше не интересуют, например, равенсбургский процесс о ритуальном убийстве и прочую ерунду.
И он, Зюсс, обязан все это выслушивать. Без Исаака Ландауера никакие финансовые операции невозможны. Эх, хорошо бы устранить компрометирующего чудака! А вместо этого надо радоваться, когда он хотя бы подпускает к себе. Пока что обойти его нет возможности.
Хозяин и гость говорили о неотложных делах, явно не доверяя друг другу и торгуясь. В сущности, Зюсс всегда был дающей стороной; однако ему приходилось тратить гораздо больше слов, чем его собеседнику, и при всей своей чванливости он неизменно чувствовал себя в роли обороняющегося. Взгляда Исаака Ландауера не выдерживала даже самая искусная маскировка, он сразу проникал в суть вещей, всякое притворство было бессильно перед ним; недоверчиво покачивая головой, отметал он мишуру красивых слов и своими зябкими руками выхватывал самую сердцевину зюссовских дел – цифры. Чем больше хорохорился Зюсс, тем мучительнее вскипало в нем недовольство собой и досада. Он не хотел сознаваться себе, что им вертят, как марионеткой, что он пляшет под дудку старика в долгополом кафтане.
Когда дела были закончены и бумаги подписаны, Исаак Ландауер заговорил на сей раз не о равенсбургском детоубийстве, а о другой еврейской истории из вюртембергских анналов. Речь шла об известном еврейском художнике Аврааме Калорно и о генеральном консуле Маджино Габриели, и случилось это лет сто тому назад, при герцоге Фридрихе Первом. Герцог привлек обоих итальянских евреев в свою страну весьма заманчивыми обещаниями. Он был прямо околдован приятными манерами, ученостью, финансовой сноровкой и талантом еврейского художника, питал к нему неограниченное доверие, решительно и сурово отклонял все протесты духовенства и ландтага и даже ради евреев изгнал за пределы герцогства епископа Озиандера, меж тем как Авраам Калорно и его сородичи привольно и пышно проживали в Штутгарте. Но и эта история окончилась бедой и злосчастьем, одних евреев подвергли мучительным казням, других голыми и босыми прогнали из страны, и въезд в герцогство был евреям на долгое время запрещен.
– Они обзывают нас гложущими червями, – сказал Исаак Ландауер. – Пусть так, а сами они разве не гложут друг друга? Все, что живет, – гложет. Один гложет другого. Теперь ваш черед, реб Иозеф Зюсс. Обгладывайте, что можно и пока можно! – И он засмеялся обычным своим гортанным смешком.
Покинув наконец финанцдиректора, который нехотя слушал его, старик в долгополом кафтане прошел через аванзалу мимо насмешливо и злобно шушукающейся толпы просителей. В дверях он столкнулся с новыми гостями: с председателем церковного совета Вейсензе и его дочерью. Магдален-Сибилла, увидев Исаака Ландауера, приняла его за Зюсса. Таким вот, плюгавым, неопрятным, в долгополом кафтане и с пейсами, какими изображались евреи на лубочных картинках, рисовала она себе и мерзкого посланца Вельзевула.
Когда прелат Вейсензе, получив пост председателя церковного совета, явился к Зюссу с благодарственным визитом, тот очень любезно и непринужденно сказал, что слышал, будто у господина председателя весьма авантажная дочь. Было бы обидно, если бы цвет швабских девиц красовался вдали от столицы; Людвигсбург и Штутгарт не столь богаты, чтобы отказать себе в обществе дамы таких достоинств, какими, судя по описаниям, обладает мадемуазель Вейсензе. Прелат угодливо повел носом, польщенный интересом его превосходительства. Ему гораздо скорее, чем он ожидал, удалось убедить дочь поехать с ним в Штутгарт, чтобы представиться Зюссу. В просьбе отца она усмотрела перст судьбы. Где же еще было ей выполнить свое предназначение, где же легче вновь встретить дьявола, как не у его мелких посланцев, у герцога и у еврея? И она настороже и во всеоружии поехала с отцом в резиденцию.
Когда она поняла, что Исаак Ландауер не тот еврей, она была несколько разочарована, но ожидание стало еще напряженнее. Их приняли раньше других. Мимо вытянувшихся в струнку лакеев она прошла впереди отца в кабинет, увидела Зюсса, узнала в нем дьявола, покачнулась и упала без чувств. Очнувшись, она услышала мягкий, бархатный голос:
– Я совсем обескуражен, что этот прискорбный инцидент приключился в ту минуту, как мадемуазель впервые переступила порог моего дома.
Ее отец что-то ответил. К ее носу поднесли флакончик с нюхательной солью. Не надо открывать глаза, чтобы не говорить с ним, не смотреть ему в лицо. Когда ей волей-неволей все-таки пришлось вернуться к жизни, она увидела, что глаза Вельзевула, крылатые, пламенные, выпуклые, скользят по ее груди и бедрам, и у нее дух захватило от нестерпимого сладостного стыда.
Пока девушка лежала без чувств, Зюсс успел оглядеть ее с ног до головы и оценить ее цветущую девственную красоту. Ее обморок – следствие потрясающего впечатления, которое он, очевидно, на нее произвел, утешил его и поднял в собственных глазах после неприятного разговора с Исааком Ландауером. Как она лежит и дышит! Как прекрасен очерк ее матово-смуглого и не по-женски смелого лица, как волнует взлет густых бровей! Пока лакеи бегали за лекарствами и за врачом, Зюсс обдумывал, можно ли отважиться расшнуровать ей корсет. С Вейсензе, старым подобострастным царедворцем, церемониться было нечего.
Но тут она открыла глаза, такие неожиданно синие при темных волосах. Он помог ей подняться, он увивался вокруг нее, лаская ее взглядом, звуком голоса, нежными прикосновениями, почтительный, галантный, покорный, пуская в ход все свое искусство, изощренное долгим опытом. Когда девушка обратила к нему бледное смуглое лицо и полуугрожающий-полувосторженный взгляд смятенных глаз, он легкой, светски изысканной беседой уравновесил ее бессвязный лепет. В распоряжение гостей он предоставил носилки, экипаж, врача. Ни одним словом не пытался удержать председателя церковного совета. Сам под руку проводил Магдален-Сибиллу до экипажа, мимо отвешивающих подобострастные поклоны просителей. В то время как они проходили через вестибюль, им навстречу попалась Софи Фишер. Лениво проплыла мимо них белокурая пышнотелая девушка, искоса, злобно, с любопытством взглянула на Магдален-Сибиллу.
Перед домом на Зеегассе – толпа зевак. Ночь, слякоть, дождь пополам со снегом, порывы ветра теребят одежду, пробирают насквозь. Люди тесно сгрудились, ждут, смотрят, как, громыхая и прорезая огнями тьму, подъезжают кареты на костюмированный бал к Зюссу.
У подъезда пылают смоляные плошки. Все окна ярко освещены. Двери распахнуты настежь, темно-малиновым монументом высится швейцар с булавой, три лакея открывают дверцы экипажей.
Нескончаемый поток карет. Это не один из тех балов для широкой публики, из которых Зюсс делает предмет наживы и где он по спискам проверяет, кто из придворных, чиновничества или горожан посмел не явиться. Теми своими публичными празднествами он вынудил столицу и герцогскую резиденцию Штутгарт более пышно, чем раньше, справлять карнавал, чтобы ее обитатели за один раз прокутили и просадили в его пользу столько денег, сколько обычно тратили за несколько недель; теперешний же костюмированный бал был устроен единственно для того, чтобы избранным показать его величие и великолепие. Лишь самые знатные кавалеры, лишь прекраснейшие дамы из приближенных герцога были званы на этот бал.
Из-за шеренги лейб-гусаров Зюсса и городских стражников обыватели вытягивают шеи, чтобы под верхним платьем разглядеть костюмы подъезжающих гостей. Прибывают министры, генералы, двор. Вот тощий тайный советник Шютц в костюме испанского гранда; его крючковатый нос кажется вдвое больше, выступая над брыжами. А багровый громоздкий Ремхинген еще по дороге вспотел в тяжелой меховой шубе русского боярина. Его настроение портится еще сильнее, когда он у дверей сталкивается с господином де Риолем, одним из тех бродячих кавалеров, которые при всех дворах чувствуют себя как дома, разносят по Европе сплетни об аристократии всех стран, заправляя и торгуя великосветской молвой. Женщины в толпе громко фыркают; даже полицейские скалят зубы при виде вертлявого господинчика, наряженного китайцем, но оставшегося в пудреном парике. И правда, смешно смотреть на этого карлика с развратным, состарившимся детским лицом, когда он семенит подле рослого Ремхингена. Генерал, звеня шпорами, величаво и грузно шагает рядом с низеньким фатоватым иностранцем; однако он знает, что герцогиня либо из жажды разнообразия, либо чтобы позлить его и сегодня, как все последние дни, предпочтет ему глупого французского болтуна.
Сквозь толпу, пешком, протискивается Нейфер, советник ландтага по юридическим вопросам, одетый в непонятный зловещий ярко-красный костюм; ему вслед несется ропот и брань; из членов парламента приглашены только он и Вейсензе. Его обгоняет весьма аристократическая, подчеркнуто скромная карета старого князя Турн-и-Таксиса. Князь прибыл вчера в гости из Регенсбурга; его узкая изящная голова, похожая на голову борзой, выступает из темно-малинового костюма генуэзского вельможи, он предвкушает удовольствие впервые показаться сегодня в этом наряде, который придает ему особенную стройность. Но ему явно не везет с этим евреем. Тогда, в замке Монбижу, бледно-желтая гостиная убила его бледно-желтый кафтан, а теперь эта еврейская бестия вырядила весь свой штат в темно-малиновые ливреи, так что его, князя, можно принять за лакея, и весь эффект его темно-малинового костюма бесповоротно пропал. Рядом с раздосадованным князем плетется маленький, невзрачный толстяк – тайный советник Фихтель, приехавший на два дня в Штутгарт с письмами от вюрцбургского епископа; в шароварах и турецком кафтане он напоминает мяч, его хитрая физиономия весело выглядывает из-под фески, мясистой ручкой он игриво машет толпе, недовольно шушукающейся при виде католиков.
Вот подъехала расхлябанная темная карета, на запятках один-единственный лакей в потрепанной старомодной ливрее, из кареты как-то особенно бесшумно вышел и проскользнул к двери сквозь затихшую толпу зевак курпфальцский тайный советник дон Бартелеми Панкорбо, с сизым, костлявым лицом: сам герцог вынудил Зюсса пригласить торговца драгоценностями, который обосновался в Штутгарте на продолжительный срок. Дон Бартелеми Панкорбо явился в обычном своем виде, обтянутый кожей череп торчал из болтающейся на нем, плохо прилаженной допотопной придворной одежды, другого костюма ему для маскарада и не требовалось.
Точно в назначенный час подъехала герцогская карета. Из нее, на сей раз только слегка прихрамывая, вышел Карл-Александр, одетый античным героем, величественный, импозантный; Мария-Августа изображала богиню Минерву, ее стройная талия, подобно стеблю, поднималась из пышных сине-зеленых фижм, а ящеричья головка грациозно поворачивалась направо и налево. Сегодня на ней был парик, над ним изящный золотой шлем, грудь облегало подобие тонкого золотого панциря; один паж нес за ней щит, другой – сову.
Фанфары собрались уже грянуть навстречу герцогской чете, на пороге парадной залы уже появился Зюсс, а гости уже чинно расступились, когда герцог почему-то замешкался в вестибюле. Он увидел рядом со своим председателем церковного совета высокую, статную девушку, наряженную флорентийской цветочницей; когда она, снимая плащ и поправляя гигантскую, всю в лентах, соломенную шляпу, на миг сбросила маску, он разглядел не по-женски смелые очертания смуглых щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными густыми бровями. Его охватило волнение, какого он давно не испытывал при виде женщины, ноги у него подкосились, под ложечкой засосало. Герцогиня, мило улыбаясь, переводила быстрый взгляд с Карла-Александра на девушку, которая поспешила вновь надеть маску.
– Я полагаю, ваша милость, нам следует войти в зал, – сказала Мария-Августа.
К ним как раз приближался Зюсс, стройный и элегантный в костюме сарацина.
– Кто эта дама? – спросил Карл-Александр.
– По моему разумению, девица эта – дочь Вейсензе, – отвечал еврей. – Мадемуазель Магдален-Сибилла Вейсензе.
Затем высокие гости проследовали в зал. Приветствуя их, низко склонились все присутствующие, фанфары загремели.
Так как герцогиня обожала театральные представления, Зюсс начал вечер с маленькой итальянской оперы «Развратник поневоле». В этом спектакле впервые выступала новая певица, неаполитанка Грациелла Витали, миниатюрная бойкая толстушка с загорелым, хорошеньким и пошловатым личиком и резвыми глазками. Зюсс рассчитывал, что она произведет впечатление на герцога, который был падок до женщин такого пошиба. На этом основании он обнадежил певицу заманчивыми перспективами, и, когда после спектакля ее представили герцогу, она принялась заигрывать с ним, на глазах у всех жестами и взглядами предлагала ему себя, рассчитывая, что он тут же удалится с ней в какой-нибудь укромный будуар. Но Карл-Александр проявил к ней рассеянный, мимолетный интерес, пробормотав что-то вроде: «Потом, потом!» На уме у него сегодня явно была другая. Неаполитанке стоило большого труда сохранить маску развязной веселости, зато, улучив минуту, когда они остались вдвоем с Зюссом, она от злости чуть не выцарапала ему глаза.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































