Текст книги "Еврей Зюсс"
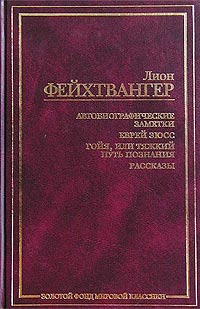
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Уже за полчаса до начала заседания все одиннадцать членов малого совета собрались в здании ландтага. На повестке дня стояли самые безобидные вопросы, но все было так смутно, так темно, что хотелось хоть ощутить присутствие соседа в этом мраке, услышать чей-то голос.
Ах, зачем было отказывать принцу в займе, ах, зачем было снюхиваться с его младшим братом! Вот теперь сели в лужу, попали в беду. Принц должен быть святым, чтобы теперь, оказавшись у власти, не отомстить ландтагу. А он совсем не святой. Нет, он солдат, военачальник, привыкший к слепому повиновению. Ходили слухи, что он в Белграде далеко не мягко обходился со своими советниками и частенько яростно пререкался с прикомандированными к нему лицами, пускал в ход непотребную брань, неистовствовал, не терпел никаких противоречий и, случалось, бил посуду и разные хрупкие предметы о головы своих советников. Словом, был деспот не лучше любого языческого кесаря. Много придется еще принять горя и адских мук от этого Левиафана.
Никто из них не желал поступиться хотя бы малой толикой своих прав и привилегий. Ах, сладость власти! Они, эти одиннадцать мужей, снимали пенки с конституции. Остальные члены парламента существовали лишь для того, чтобы утверждать их решения. Они же, эти одиннадцать мужей, властвовали над страной, заседали при закрытых дверях, как венецианская синьория, они интриговали, спорили, барышничали между собой и связывали руки герцогу и его министрам. Как было приятно и сладостно чувствовать свой вес и свою власть! Пусть кто-нибудь попытается покуситься на нее! Они стеной встанут на защиту страны от тирании и католического рабства. У них найдется твердая опора и прочная охрана. Ибо тверд и прочен закон, согласно которому герцог должен присягнуть в том, что будет охранять права их и протестантской церкви. Под этот закон не подкопается Рим, несмотря на все свои самые лукавые ухищрения. Этой твердыни не подточит самый ловкий иезуит. Пусть-ка тот язычник и свирепый тиран попробует огрызнуться. О такой железный затвор он обломает себе зубы. Слава непреложному закону! Слава благословенным религиозным реверсалиям! Слава твердой, прочной конституции и Тюбингенскому соглашению! Слава благодетельной предусмотрительности мудрых отцов, которые припасли такие намордники для зубастых герцогов!
Ровно в десять часов председатель Иоганн Генрих Штурм объявил заседание открытым, но не успели еще приступить к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня, как перед огорошенными членами совета предстал Филипп Якоб Нейфер, брат законоведа, и предъявил бумагу, из которой явствовало, что Карл-Александр, в осуществление законных прав наследования, вступает на вюртембергский престол, а впредь до своего прибытия в герцогство поручает руководство государственными делами советникам фон Форстнеру и Нейферу, для чего уже назначил их министрами.
Далее новый министр с улыбкой учтиво заявил совершенно растерявшимся господам членам совета, что герцог осведомлен о возникших у парламента опасениях касательно вопросов вероисповедания и сословных свобод. Он счастлив, что может сразу же успокоить господ членов совета, передав от имени его светлости соответствующие заверения и подтверждения. Будучи еще принцем, герцог имел случай обсуждать с некоторыми членами малого совета ту ситуацию, которая тогда была лишь предположительной, ныне же претворилась в жизнь, и господа члены совета сочли такого рода заверения крайне желательными, дабы между герцогом и ландтагом установилось взаимное доверие, необходимое для общего блага.
Молча, в глубоком смятении выслушали эту речь девять членов из одиннадцати. Даже председателю Штурму, несмотря на неизменное спокойствие и самообладание, стоило большого труда выдавить из себя несколько слов – признав полномочия господина советника, а ныне члена кабинета министров, поблагодарить за врученные бумаги и обещать, что они будут внимательно изучены.
Министр удалился, оставив почтенных мужей совершенно пришибленными, во власти бессильной злобы и взаимных подозрений. Значит, в их среде есть предатели, интригующие на свой страх и риск? Соседи чуть приметно отодвинулись от Нейфера и Вейсензе.
А тем временем второй Нейфер, ныне министр, явился в военный комиссариат и на основе полученных от герцога полномочий потребовал, чтобы ему отрядили взвод солдат, который и был ему предоставлен после запроса в ландтаге. Ворвавшись в здание совета министров, он именем Карла-Александра, хотя прах старого герцога еще не был предан земле, арестовал всех главарей партии Гревениц и приказал отправить их в Гогентвиль, как они ни бесились, ни грозили, ни протестовали. В тюрьму Фридриха Вильгельма, брата графини, обер-гофмаршала и председателя совета министров, как лед холодного политика, который устранил от власти сестру ради прочности собственного положения, в тюрьму обоих его сыновей, обер-шталмейстера и члена совета министров! Под арест их мелких приспешников и клевретов – председателя церковного совета Пфейля, тайного референдария Пфау, государственных советников Фольмана и Шейда и всю их многочисленную клику. Как они важничали раньше! Как чванились, как задирали носы, еле кивали, отвечая на поклоны. Теперь они сидели в строжайшем заточении, и ни одна собака не вспоминала о них.
После этого Нейфер отправился к герцогине и сообщил ей, торжествующей, воссиявшей из праха и унижения, обо всем, что произошло. Через посредство герольдов и расклеенных на стенах указов он возвестил, что Карл-Александр взял в свои руки бразды правления и в ближайшее время прибудет из Белграда; что против бесчестных чиновников, притеснявших народ ради собственной выгоды, им, государем, уже приняты меры и что он заранее своим крепким и верным княжеским словом гарантирует неприкосновенность всех свобод, в особенности же свободу религии.
В народе ликование. Вот это государь! Этот взялся за дело, не считаясь ни с кем. Совсем как на картине, где он штурмует Белград. Подайте ленты, подайте еловые ветви, чтобы украсить картину! Воистину властелин и герой! С ним не пропадешь.
Близ Гирсау от проезжей дороги отходила дорога поуже, проселочная. От нее ответвлялась пешеходная тропинка, которая, теряясь в лесу, упиралась в крепкий высокий забор. Деревья мешали взору проникнуть дальше. Из местных жителей доступ сюда имели только садовник и старик поденщик, который исполнял всякие поручения, оба – люди угрюмые, не склонные отвечать на расспросы любопытных. Известно было только, что какой-то голландец приобрел у наследников прежнего владельца маленький развалившийся домик. Властям он назвался мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном и предъявил паспорт, выданный Генеральными штатами. Покупка была оформлена законным порядком, все требования полиции и казначейства выполнялись в высшей степени добросовестно. Голландец жил в домике вместе с какой-то молоденькой девушкой, с ее горничной и одним слугой. По округе ходил назидательный рассказ о громиле, который попытался пробраться в этот уединенный домик. Его будто бы поймали, связали. Голландец ничем не покарал видавшего виды отпетого головореза, только запер его на целую ночь в комнате, полной книг.
Наутро бродяга будто бы, весь дрожа, в полном смятении выбрался из лесу и навсегда покинул здешние края.
Временами выплывали слухи, будто голландец и есть Вечный жид, но скоро снова умолкали. Он почти не показывался в городке, совершал уединенные прогулки по лесу, встретить его можно было очень редко. Мало-помалу к нему привыкли. Где-то в лесу за высоким забором и развесистыми деревьями живет голландец, и пусть даже он делает что-нибудь недозволенное, но шума не производит и никого не беспокоит.
Здесь же в Гирсау проживал и магистр Якоб Поликарп Шобер, тот самый, что руководил собраниями библейского общества, в котором состояла Магдален-Сибилла. Упитанный, толстощекий молодой человек, который тихо совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки, однажды, машинально следуя за птицей, перелетавшей с дерева на дерево, дошел до высокого забора, без долгих размышлений и без особого труда перелез через него, миновал изгородь, образованную высокими деревьями, внезапно очутился у начала просеки и увидел дом голландца посреди тюльпанов и идущих уступами клумб с другими, ему незнакомыми и тщательно выхоженными цветами. Странное впечатление производил этот дом – ослепительно белый кубик, залитый лучами солнца. А перед домом был раскинут примитивный навес, и под ним лежала, потягиваясь в полудреме, одетая на чужеземный лад девушка с матово-бледным лицом под иссиня-черными волосами. Магистр замер в изумлении и благоговейном восторге, потом на цыпочках удалился. Впоследствии в его мечты о небесном Иерусалиме неизменно проникал образ девушки под навесом перед белоснежным домом среди тюльпанов.
Рабби Габриель предоставил девушке полную свободу. Ноэми расцветала, тихая и нежная, не ведая больших страстей. При ней были старый, дряхлый, молчаливый слуга и вывезенная из Голландии горничная, преданная, добродушная, болтливая Янтье, которая долгие годы заботливо за ней ухаживала. Порой девушке хотелось повидать людей, но раз дядя держал ее в уединении, значит, так было лучше. Да и порожденные мечтами, вычитанные из книг люди были лучше живущих где-то там, внизу.
Она наслаждалась книгами, которые дядя читал вместе с ней. Это были по большей части древнееврейские книги, а среди них загадочные, таинственные книги Каббалы. Она не вдумывалась в них, она их видела. Каббалистическое древо, небесный человек были для нее зримы и осязаемы. Буквы-числа, составляющие имя Божие, двигались в священной пляске, пестря переливчатыми значками, многообразные фигуры священной науки непрерывно шевелились, треугольники карабкались вверх, квадраты ползли вниз, пятиконечная звезда перелетала с вершины на вершину. А семи– и девятиугольники вытягивали свои острые углы, одного грозили проколоть, другого ласкали своим прикосновением. И все сплеталось в многоликом стройном танце. Дядя учил: в каждом стихе, в каждом слове, в каждой букве Писания заключен сокровенный смысл. Он открывается тебе, когда ты сравниваешь эти слова с другими местами Писания, когда ты преобразуешь числовое выражение букв. Взгляни, вот бумага и на ней – немножко черной краски. А между тем она живее любого живого человека, она – уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и, пока он их писал, дух Божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия так же продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует Бог. Буквам даны жизнь и движение, буква переходит в число, число в звук, на веки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный ощущает Бога во всем, что написано.
Так учил рабби Габриель. Ноэми слушала, силясь понять его слова. Но события священной истории не надолго принимали строгую форму отвлеченных мистических понятий, в которую втискивал их дядя. Очень скоро они вновь облекались плотью, расцвечивались яркими красками и волновали девичью кровь очарованием пестрых сказок и доблестью легендарных подвигов.
Она читала в Песни Песней: «Возлюбленный мой начал говорить мне: „Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Голубица моя! Голубица в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое! Дай мне услышать голос твой. Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно!“
Она сидела, воплощение нежности и внимания, и проникновенным взором скользила по большим, массивным древнееврейским буквам. Лицо у нее было как у отца, очень белое, горделиво изгибалась стройная шея, в глазах затаились грезы, древние грезы прародителей, голову она оперла на ладони, и плавно округленные руки переходили в нежную покатость плеч.
Рабби Габриель объяснял, что прочитанное ею иносказательно говорит о сотворении мира, цветы – это праотцы, и голоса юношей, изучающих тайны Писания, споспешествуют тому, что мир стоит и праотцы являют себя потомкам. И он с большим знанием и мудростью все расчленял и снова собирал, а затем умолкал и задумывался. Она слушала его и верила ему, но едва он кончал, как цветы вновь становились цветами и ей слышался несложный и ласковый напев: «Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения наступило, и голос горлицы слышен в стране нашей». И она закрывает глаза и внимает манящему голосу, прислушивается, не смеет вздохнуть: вот-вот сейчас из-за деревьев появится пастух, чьи дивные слова звенят серебряными переливами. Но никто не идет.
Конечно, библейские герои и благочестивые мужи были таковы, какими показывал их рабби Габриель. Но когда он уходил, Ноэми смотрела на них собственными глазами. Она сама была Фамарь, любившая Амнона, она была Рахиль, бежавшая с Иаковом, была Ревекка у колодца. И Мириам, плясавшая под напев победной песни над потопленными Господом египтянами, – тоже была она. Но никогда не была она Иаилью, вбивающей кол в висок Сисаре, и не была Деборой, которая была судьей во Израиле. Тех немногих людей, которые ее окружали, она перевоплощала в героев библейских легенд: Агарь походила на болтливую служанку Янтье, у пророков были блекло-серые, окаменевшие в скорби глаза дяди и его приплюснутый нос, и говорили они его скрипучим сердитым голосом.
Но у героев – у всех была осанка отца, его лицо, его глаза, выпуклые, крылатые, его вкрадчивый, убедительный голос. Отец! Яркий, блистательный! Ах, почему он так редко приезжает! Повиснуть у него на шее – вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Всех героев Священного Писания она видела в его образе. Самсон, что сразил филистимлян, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал, ослепительный и опасный, в его позвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном, изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и поднятая с пращой рука откидывала аккуратно наплоенные манжеты. Но – увы! – волосы, которыми Авессалом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца, она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал: «О Авессалом! Сын мой!» – он стенал скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца.
Торжественно плыл новый герцог вверх по Дунаю на яхте, подаренной ему тестем. Не шевелясь, с непроницаемым взором, примостился на носу чернокожий. Подле герцогини грузно восседал Ремхинген, и лицо его, лицо пьяницы, багровело под пудреным париком; пыхтя, жеманничая и на австрийский манер растягивая слова, ухаживал он за красавицей. Он сиял, сотни безрассудно-дерзких планов зрели в его солдатской голове. Первое, что сделал герцог, – назначил друга председателем Военного совета и главнокомандующим вюртембергской армией.
Пышный прием в Вене. Их величества весьма милостивы. Торжественная месса. Банкет во дворце. Опера. Старый князь Турн-и-Таксис выехал в Вену навстречу зятю; и оба друга-прелата не отказали себе в удовольствии принести герцогу поздравления еще до въезда в Вену. Когда яхта причалила, на берегу стоял князь-епископ Вюрцбургский со своими тайными советниками Раабом и Фихтелем, стоял и эйнзидельнский князь-аббат, они радостно и сердечно облобызали герцога, подмигивая, погладили руку Марии-Августы.
После оперы их величества и герцогиня удалились во внутренние покои, а Карл-Александр, князь Турн-и-Таксис и оба прелата остались за столом. Густое золото токайского маслянисто поблескивает в бокалах, герцог привык к нему в Белграде и пьет его большими глотками, меж тем как иезуиты едва прихлебывают. Воздух насыщен свечным чадом и винными парами.
Перед такими верными друзьями и наперсниками Карл-Александр выворачивает наизнанку душу. Нет, он никак не намерен плесневеть в своей стране каким-то заурядным князьком. Для его честолюбия недостаточно радеть о том, чтобы подданные его усердно возделывали виноградники, ткали холст, утирали своим ребятишкам носы и держали в чистоте их рубашонки. Управлять страной он предоставит своим советникам, сам же будет властвовать. Не зря он столько лет провел в походных лагерях. Он солдат, герцог-солдат. Раз он до сих пор сражался и побеждал для другой, хотя и дружественной династии, как же ему не сражаться и не побеждать для самого себя? Людовик Четырнадцатый завоевал немало земель, крохотная Венеция поглотила добрую часть Греции, Карл Двенадцатый пронес свои знамена из Швеции через половину Европы, в Потсдаме идет подготовка к завоеваниям. Он чувствует, что призван увеличить свое маленькое государство, а если Богу будет угодно, то и сделать его великим. Во всяком случае, такой, как сейчас, он страну не оставит. Там можно набить себе синяки и даже убиться насмерть обо все углы, внутренние и наружные, там просто некуда податься. Как недурной стратег и знаток военного искусства, он отдает себе отчет в том, что, по своему положению, его маленькая страна служит ядром для большой. Стоит только продвинуться вперед к границам вюртембергских владений по ту сторону Рейна, в направлении графства Мемпельгард, которое вклинилось во Францию, оттуда уж можно идти и дальше: база для полководца идеальная. А потом вся эта мелкота в самом герцогстве и по его границам, имперские города Рейтлинген, Ульм, Гейльбронн, Гмунд, Вейль, – непонятно, почему его предшественники позволили им разрастаться и процветать. Уж он позаботится о том, чтобы они не лежали камнем в герцогском желудке, а превратились бы в полезный корм.
– У вашей милости избыток отваги, – усмехнулся старик Турн-и-Таксис и тонким носом борзой потянул аромат токайского. Благожелательно выслушивал он рискованные планы зятя. Он считал их чистейшей утопией и не верил, что они хоть в какой-то мере осуществимы. Но Боже мой! Герцог ведь солдат, от него нельзя требовать политической осведомленности. Очень мило и забавно, что он так по-солдатски лезет напролом; но поживет месяца два в своей резиденции, и его пыл остынет.
Оба князя церкви внимательно прислушивались к горячим речам Карла-Александра. Они очень ревностно занимались в свое время обращением его в католичество, во-первых, потому, что всегда следует помочь заблудшей душе обрести свет истины, во-вторых, потому что обращение вюртембергского принца было хорошим средством пропаганды, но больше всего из любви к искусству. Они вполне искренне не преследовали этим больших политических целей. Ну а если Господь Бог ниспослал такую милость и столь возвысил новообращенного, то можно, ухмыляясь, выслушивать бесчисленные похвалы своей мудрой предусмотрительности. А главное – извлечь всю возможную пользу из неожиданной удачи. Тот огонь, что раздувает герцог, всегда благодетелен. С его помощью можно заварить любую кашу.
Первым осторожно начал толстый вюрцбургский князь-епископ. Друг герцог строит обширные планы, на которые его, конечно, благословит всякий истинно католический и христианский государь. Но он забывает, что Господь избрал его для управления мятежным и упорствующим в заблуждениях Вавилоном. Окаянные протестанты, подобно крысам, обгрызли Богом дарованные немецким государям права, так что после всяческих ущемлений от них остались убогие обрывки.
Герцог в ответ: вюртембержцы народ не плохой, они послушны законам и государям верны. Вся беда в окаянной парламентской шайке, в беспардонной клике жадных ослов, которая в свое время отказалась утвердить ему апанаж, в этих откормленных баранах, которые пошли на государственную измену, снюхавшись с его братом. Но он всегда был начеку и не позволил, чтоб у него из-под носа утащили престол, а теперь, придя к власти, он с ними расправится и доймет их до кровавого пота. Не будь он государь и солдат, если не наступит ногой им на загривок.
Аббат усмехнулся на это: дело не так просто. Прежде всего друг герцог уже связал себя заверениями касательно религии и еще всякого рода реверсалиями.
– Только на бумаге, на бумаге, на бумаге, – завопил хмельной и взбешенный герцог.
А иезуит невозмутимо:
– Конечно, но все же это обязывает. И Библия ведь только бумага, и тем не менее ею держится Рим и весь мир.
В разговор вкрадчиво вмешался вюрцбуржец: мощь и мудрость самого Карла-Александра, поддержка и ловкость друзей, его войско и правота его дела в конце концов уничтожат пресловутую бумагу. Обращение страны в католичество – истинная основа и краеугольный камень всех планов, – конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее назвать нельзя. Стоит вспомнить мудрый пример успешного обращения в католичество Пфальц-Нейбурга. Для начала офицеры и солдаты в армии – только католики. Этому никакой ландтаг не может препятствовать. Затем мало-помалу к католикам переходят все места при дворе и, наконец, все государственные должности. Протестанты увольняются поголовно. Ох, как стремительно обратились тогда в Пфальце все души к истинной вере! Сколько их таким легким способом было избавлено от мук вечных. Сперва чиновники, обремененные семьей, которые больше всего боялись за свое положение. Ох, как быстро убедились они в благодетельности истинной веры и отреклись от протестантской ереси, ох, как спешили эти добрые, честные души впопыхах броситься в лоно католической церкви!
Собеседники посмеялись, выпили. Намечались заманчивые перспективы. Князь-епископ пообещал поручить своему архимудрому советнику Фихтелю выработать методы воздействия применительно к Вюртембергу. Все разошлись возбужденные, полные надежд.
На следующий день к герцогу явились три императорских советника побеседовать с ним по поводу войны с Францией, которую опрометчиво начал император. Карл-Александр, до сих пор выступавший перед императорскими советниками в роли назойливого просителя, наемного генерала, разважничался вовсю оттого, что теперь заискивают в нем. Небрежно, широким жестом швырнул министрам подачку в двенадцать тысяч солдат, о которых они робко просили его. За это ему со всяческими оговорками и туманными намеками, в секретном соглашении императорским правительством была обещана защита его суверенных прав на случай посягательств Вюртембергского ландтага.
Покидая Вену, герцог на глазах двора и народа был удостоен его римским величеством поцелуя в обе щеки.
Когда Иозеф Зюсс узнал о смерти Эбергарда-Людвига, у него перехватило дыхание, вся кровь прилила к сердцу, и он застыл на месте, полуоткрыв ярко-красный рот, подняв левую руку, точно обороняясь от чего-то. У цели. Он у цели. Совершенно неожиданно достиг он вершины. Он так жаждал этого и своим заносчивым видом силился убедить себя и людей, будто давно уж находится на вершине, но в душе его всегда терзали и раздирали сомнения. И вот оно свершилось! Словно по наитию из сотни тысяч билетов он вынул единственный выигрыш, и теперь стоит гордый, уверовавший в свой гений, перед умным Исааком Ландауером, который прежде покачивал головой и, потирая зябкие руки, подсмеивался над его верой в захудалого принца.
О, отныне он гордо и властно зашагает вперед. Сотни блестящих зал откроются перед ним. В один миг взлетел он наверх. И теперь, как равный среди равных, будет сидеть за парадными столами с сильными мира сего; те, что недавно с презрением от него отмахивались, будут гнуть перед ним спину, те, что заставляли его томиться в приемной, будут дожидаться у его дверей, пока он их впустит. И женщины, белоснежные, великолепные, знатные, те, что милостиво принимали его любовь, будут подобострастно предлагать ему свое гордое тело. С лихвой вернет он теперь все полученные пинки. Он будет восседать на самой вершине, он окружит себя ореолом истинного вельможи и покажет власть имущим, что еврей может держать голову в десять раз выше, чем они.
Он продал свои дома в Гейдельберге и Маннгейме, выпустил составленную в вызывающем тоне публикацию о том, что всякий, у кого в Пфальце есть к нему какие-либо претензии, может их предъявить. Одновременно он негласно через посредников приобрел у обедневшей дворянской семьи дворец в Штутгарте, на Зеегассе, реставрировал и обставил его со сказочной роскошью, пополнил свой штат, гардероб, конюшню. Сейчас он готовился во всем блеске торжественно выехать навстречу герцогу.
Исаак Ландауер застал его за этими хлопотами. Невзрачный, неопрятный, в неудобной, угловатой позе сидел в большом кресле могущественный финансист и потирал костлявые бескровные руки, невыразимо раздражая Зюсса своими пейсами, лапсердаком, всем своим неряшливым еврейским обличьем. Зюссу пришлось с досадой и разочарованием признать, что у старика не заметно ни зависти, ни восхищения.
– Вам повезло, реб Иозеф Зюсс, – сказал он, благодушно и чуть насмешливо покачивая головой. – А могло бы повернуться и плохо, тогда вы потеряли бы все свои денежки на этом голоштаннике.
– Теперь он, во всяком случае, не голоштанник, – уязвленным тоном возразил Зюсс.
– Вот это я и говорю, – с готовностью согласился тот и добавил по-дружески наставительно: – А на что вам этот блеск и парад и вся эта возня? Послушайтесь старого дельца, это невыгодно, это только приносит вред. Чего вы пыжитесь и стараетесь быть на виду? Нехорошо еврею мозолить всем глаза. Послушайтесь старого дельца, еврею лучше всего держаться в тени. – Он засмеялся своим гортанным смешком. – Долговое обязательство в шкатулке лучше, чем золотой галун на кафтане. – И добродушно, с мягкой насмешкой он пощупал шитье на рукавах Зюсса, меж тем как тот почти с отвращением старался стряхнуть его руку.
«Вот такова эта молодежь, – думал Исаак Ландауер, уйдя от Зюсса. – Они скатываются все ниже и ниже, чуть не до уровня гоев. Они хотят шума, блеска, расшитых кафтанов. Они ищут себе признания у других. Тонкое затаенное торжество в лапсердаке, при пейсах непонятно им, этим пошлякам».
А Зюсс язвил про себя: «Вот уж трус! Вечно прятаться. На что же власть, если не выставлять ее напоказ? Глупые, недостойные, отжившие свой век предрассудки. Только бы не обратить на себя внимание христиан. Только бы укрыться в тень. А я хочу стоять на ярком свету и всем прямо смотреть в глаза».
Он отправился во Франкфурт с великой пышностью, желая показаться матери во всем блеске. Пожилая красавица – от нее он унаследовал очень белое лицо и выпуклые, крылатые глаза – жила в покое и довольстве, но пустой жизнью. Ах, как полны были раньше ее дни! На взмыленных конях носилась актриса Микаэла Зюсс по Германии, и весь ее путь был усеян мужчинами, любовными интригами, страстями, триумфами, огорчениями и бурями. Теперешнюю же свою жизнь она старалась расцветить чисто внешними впечатлениями, раздувая каждую мелочь, чтобы сохранить иллюзию деятельной суеты, заполняла время уходом за своим телом, поддерживала разнообразную бурную переписку, вмешивалась в жизнь своих бесчисленных знакомых. Зюсс важничал и рисовался перед ней, а она наслаждалась его блеском и млела, совсем потерявшись от его шумливого и неумеренного хвастовства. А он еще пуще чванился перед этой благодарной, восторженной слушательницей.
Но цветистый фейерверк их речей прервал рабби Габриель. Зюсс только что с похотливым самодовольством рассказывал о женщинах, которые толпились в его покоях, а Микаэла жадно ловила его слова. И вот широкое, каменное, угрюмое лицо старца как глыбой придавило все эти легкие пестрые видения. Да, ему известно, что новый герцог уже покинул Вену и скоро прибудет домой. Зюсс, конечно, направляется к нему. Он говорил с такой холодной усталой насмешкой, что все достигнутое сразу стало пустым и сомнительным. Потом он мимоходом спросил, когда Зюсс приедет в Гирсау, девочка тоскует по нем. Услышав, как Зюсс виляет и отлынивает, он больше не настаивал, только три борозды резче обозначились на его лбу. Он переводил взгляд с матери на сына, с сына на мать. И скоро ушел. При нем Микаэла металась и трепетала, как глупенькая птичка. Зюсс ни разу не видел ее в присутствии рабби Габриеля.
Сам он с трудом собрал свою разлетевшуюся во все стороны спесь и великую гордыню. Вяло и не вполне уверенно взлез он снова на ходули и попробовал робко посмеяться над стариком. Но мать не поддержала его, и отбыл он далеко не столь лучезарным и самодовольным, как явился.
Спешным порядком направился он в Регенсбург. Шумно и весело встретил его герцог. Багрово-красный под белым париком, обрушился на него грубыми остротами Ремхинген; он ненавидел евреев, а этот был ему вдвойне противен своими сверхучтивыми, вкрадчивыми манерами. И старик Турн-и-Таксис был крайне сдержан; он не простил еврею, что тот своей бледно-желтой гостиной в Монбижу затмил его бледно-желтый фрак.
Зато весьма благосклонной, игривой улыбкой встретила его герцогиня. Грациозный стан и задорное личико красовались над широчайшей синей бархатной робой, в складках которой совсем затерялась малюсенькая комнатная собачонка. Мария-Августа милостиво протянула еврею пухлую, холеную ручку для поцелуя, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая другой верхние складки робы. Ах, какие смутные и греховные мысли вдохнул в нее еврей своим поцелуем. И глаза у него такие же красноречивые и выражают ту же самозабвенную покорность, что и прежде. И притом он ни на волосок не отступает от моды. Забавно всегда иметь при себе такого еврея, который сто очков даст вперед самому галантному версальскому кавалеру, а свое злобное еврейское сердце, где, без сомнения, копошится лютая и ядовитая нечисть, искусно скрывает под изящным светло-коричневым кафтаном.
Позже, когда они остались вдвоем, герцог стал расспрашивать Зюсса о настроении в стране. Спрашивал он небрежно и свысока, но Зюсс мысленно посмеялся над его наивными уловками, сразу почувствовав, что герцог далеко не спокоен и придает большое значение его ответу. Он вмиг сосредоточился, настроился на деловой лад и призвал на помощь все свое чутье. Хитроумный финансист сидел теперь настороженный, нервы у него были натянуты как струны, он пустил в ход весь механизм расчетов и подсчетов. Прежде чем говорить, быстро и точно разделил все «за» и «против», довел их до полной ясности, подсчитал, взвесил, прикинул и выведал у герцога больше, чем тот у него.
Он понял, что́ именно хочется услышать герцогу: первое – что народ ждет его как избавителя от всех своих бед; далее, что он, герцог, – величайший из германских полководцев и вправе требовать от страны, чтобы она предоставила ему возможность создать внушительную военную мощь, и, наконец, что парламент – это шайка скаредных, своекорыстных, закоренелых злодеев и смутьянов. Зюсс так ловко повернул свои ответы, что они полностью подтвердили эти предпосылки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































