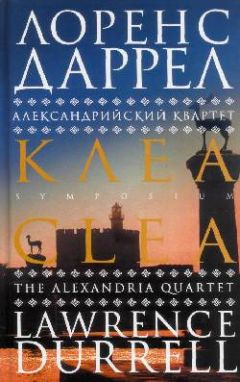Читать книгу "Клеа"
Лоренс Даррел
Клеа
Моему отцу
Первичное и прекраснейшее из свойств Природы есть движение, только оно одно и поддерживало в ней жизнь во все времена; но поскольку это движение само по себе есть всего лишь непрерывная череда преступлений, следовательно, и сама Природа преступна и на преступлении зиждется.
Д. А. Ф. де Сад
ЗАМЕЧАНИЕ АВТОРА
Перед вами четвертая книга из цикла, задуманного как единое произведение. Она продолжение «Жюстин», «Бальтазара» и «Маунтолива». Все четыре романа составляют «Александрийский квартет», с подзаголовком – «словесный континуум», – если озаботиться вдруг чисто описательным подзаголовком. Свои намерения в отношении романной формы я уже изложил в предуведомлении к «Бальтазару».
В разделе «Рабочие заметки», помещенном в конце книги, я набросал несколько возможных линий развития персонажей и ситуаций в дальнейших книгах цикла – только лишь с целью предположить: если бы даже цикл мог разрастаться бесконечно, текст в результате никогда бы не стал roman fleuve[1]1
Многотомным романом (фр .).
[Закрыть] (то есть материал не принял бы, расширяясь, формы сериала), но так и остался бы, в строгом смысле слова, частью настоящего словесного континуума. Если ось квартета была установлена твердо и верно, текст можно развивать в любом направлении, не теряя при этом ни строгости, ни соразмерности всего континуума. Однако в любом случае и с любой возможной точки зрения данный цикл из четырех книг может рассматриваться как завершенное целое.
Л. Д.
Книга I
1
Апельсины в тот год уродились как никогда. Они стояли празднично и праздно, вспыхивая то и дело в густой, солнцем залитой листве: фонарики под праздник. Как будто и им было дело до нашего отъезда с маленького этого острова: долгожданное послание от Нессима наконец пришло – как повестка назад, в Царство Мертвых. Натянулась струна и повлекла меня без жалости и промедления обратно в тот единственный из многих Город, что парил для меня неизменно на грани меж сном и реальностью, между живой жизнью и сонмищем поэтических образов, которые одно только имя его вызывало в моей душе. Память, твердил я себе, искаженная страстями и догадками, до сей поры едва ли наполовину успевшая стать достоянием бумаги. Александрия, столица Памяти! Я брал у живых твоих и мертвых, я писал с них, писал, покуда сам не стал чем-то вроде постскриптума к письму, которому не судьба быть дописанным до конца, отосланным по назначению…
Как долго я был в отъезде? Я поймал себя на том, что не могу сосчитать; да и то, разве календарная цифирь может дать представление, хотя бы смутное, о тех эонах, что отделяют день ото дня, душу – от иной души, повзрослевшей; и все это время, если уж на то пошло, я действительно жил там, в Александрии, в той сокровенной Александрии, которую сумел взять с собой. И, страница за страницей, удар за ударом сердца, я предавался понемногу во власть некоего гротескного организма, частью которого был когда-то каждый из нас, победитель с побежденным наравне. Древний Город меняет очертания, мысль срезает слой за слоем, доискиваясь до смысла; где-то там, в тернистой черной чаще на пороге Африки, живет странный запах, терпкий и темный, дух места, горькая на вкус трава прошлого, что вяжет рот – и вязнут зубы, и белая сердцевина памяти. Однажды я решил собрать воедино, кодифицировать и откомментировать прошлое, прежде чем оно канет в вечность, – по крайней мере, такую я поставил перед собой задачу. Я в том не преуспел (а может, и сама задача была невыполнима изначально?): едва мне удавалось набальзамировать, отлить в слова одну какую-нибудь часть, как вторгался новый, неведомый мне ранее сюжет, и все шло насмарку, возведенное с таким трудом здание свидетельств и ссылок рушилось, а после кирпичики сами собой выстраивались в неожиданном, совершенно непредсказуемом порядке…
«Воссоздать реальность заново» – так, кажется, я где-то когда-то написал; фраза, самоуверенная до безрассудства, ибо кто, как не реальность, созидает нас и воссоздает по мере надобности заново на медленном своем гончарном круге. И все ж таки, если что-то я и приобрел в течение этой долгой островной интерлюдии, то именно благодаря неудаче, полному провалу моей попытки ухватить сокровенную суть Города. Я стою теперь лицом к лицу с природой времени, худшего из всех недугов человеческой души. А на бумаге – да, полная и безоговорочная капитуляция. Но, как то ни странно, самый акт письма дал мне возможность по-новому расти, видеть новые смыслы – благодаря самой бессмысленности слов, которые за фразой фраза текли в бездонные пещеры воображения и исчезали без следа, без памяти. Дорогостоящий способ начинать жить, не спорю; но нам, художникам, непременно приходится в конце концов даже и личные свои жизни строить в соответствии со странной сей техникой: погоня за самим собой.
Однако… если изменился я, что же стало с моими друзьями – с Бальтазаром, Нессимом, Жюстин, Клеа? Какие новые черты я в них разгляжу, после долгой сей паузы опять вдохнув воздух Города – Города иного, преображенного войной? Вот уж действительно проблема. Чего мне ждать? Созвездие предчувствий, путеводная звезда тревоги. Как трудно будет уступить с таким упорством завоеванную территорию грезы – уступить ее новым образам, новым городам, новым привязанностям и любовям. Я ловил себя на том, что перебираю воспоминания с почти маниакальной страстью – напоследок… А не разумнее ли с моей стороны, приходила мне в голову мысль, остаться здесь, никуда не ездить? Может, оно и так. И все-таки я знал, что ехать должен. Мало того, я уеду сегодня же ночью! С мыслью этой было настолько трудно совладать, что мне пришлось прошептать ее вслух. Последние десять дней, прошедшие с того дня, когда к нам явился Нессимов посланник, мы провели в золотой истоме ожидания; и погода нам подыграла, разродившись чередою ясных восходов и закатов и тихим морем. Мы стояли меж двух пейзажей, не в силах отказаться от первого и вожделея встречи со вторым, в некоем шатком равновесии, как чайки над краем пропасти. Но в снах моих уже теснились, переплетались, набегали друг на друга образы, в одном ряду не представимые. Дом на острове, дымчатого серебра оливы и миндальные деревья, под которыми бродят сонные, с красными лапками куропатки… тихие прогалины, где так и чудится в листве козлообразный Панов профиль. Простая и ясная гармония формы и цвета, никак не совместимая с иными, уже успевшими заполнить наши души предчувствиями. (Небо, исчерченное сплошь траекториями падающих звезд, изумрудная волна прилива на пустынных пляжах, чайки кричат над белыми, к югу уходящими шоссе). Сей греческий покойный мир уже был наводнен чужими запахами, ароматами забытого Города – переулки у самого моря, где потные морские капитаны жрали и накачивались араком так, что едва могли встать из-за стола, и осушали свои тела, как бочонки, ото всякой накопившейся страсти, и таяли в объятиях чернокожих шлюх с глазами спаниелей. (Зеркала, щемящая душу сладость трелей слепых канареек, булькают наргилехи в горшочках с розовой водой, пахнет пачулями и китайскими курительными палочками). Они ложились внахлест, несовместимые эти грезы. И друзей моих я тоже видел снова (уже не просто имена) – в свете нового знания о них и о себе. Они перестали быть отражениями – тень за бледной тенью – собственного моего письма, они снова ожили, даже те, кто уже давно умер. По ночам я бродил опять по кривым тамошним улочкам вдвоем с Мелиссой (она жила уже где-то по ту сторону тоски, ибо даже во сне я знал, что она умерла), уютно приткнувшись друг к другу, рука за руку; ноги узкие, длинные, как ножницы, она чуть раскачивается на ходу. Привычка прижиматься бедром к моему бедру при каждом шаге. Все было мило в ней теперь, все обретало очертания едва ли не символа – даже старенькое хлопчатобумажное платье, даже дешевые туфли, в каких она ходила по праздникам. Синяк от поцелуя на шее, под самым ухом, припудрить так и не удалось… А потом она исчезла, и я проснулся на вскрике. Заря уже тронула серебром продолговатые листья олив.
Где-то, каким-то образом, по дороге, я вновь обрел спокойствие духа. Пригоршня пронзительно-синих дней перед тем, как сказать «Прости», – я наслаждался ими, купался в роскошной их простоте: язычки огня бегают по горящим в камине поленьям – я топлю оливковым деревом, – над камином портрет Жюстин, его упакуем в последнюю очередь, отблески пламени пляшут на неровных ножках стола, на старых стульях, на синей эмалевой вазе с букетиком первых цикламенов. Что такое Город рядом с этим – с эгейской весной, повисшей на ниточке между зимой и белой дымкой зацветающего миндаля? Слово, не более того, незначащее слово, торопливо нацарапанное на полях предутреннего сна, и повторять его согласно с ритмом времени, с разменною монетой страстей его и судеб – с ритмом собственного сердца. Я ко всему этому прикипел, я пустил здесь корни, но остаться был не в силах; Город – я ненавидел его и знал теперь об этом – предлагал мне сейчас нечто новое: переоценку опыта, оставившего на мне свои рубцы и меты. Я должен вернуться туда еще раз, чтобы оставить его навсегда, сбросить его с себя, как дерево – листья, как змея – старую кожу. Если я и заговорил о времени, то потому лишь, что писатель, каковым я понемногу становился, начал учиться жить в пустотах, которыми пренебрегает время, просто не обращая на них внимания, – начал учиться жить, так сказать, между ударами часов. Разум человеческий, сей коллективный анекдот, обитает в постоянном настоящем; когда прошлое мертво, а вместо будущего одни лишь желания и страхи – чего в случайном этом времени нельзя понять и измерить, чего нельзя просто-напросто опустить? Для большинства из нас настоящее – нечто вроде роскошного, изысканного блюда, наколдованного феями: оно исчезает прямо из-под носа прежде, чем успеешь попробовать хоть кусочек. Я надеялся, что вскоре, вслед за покойным Персуорденом, буду иметь право сказать: «Я не пишу для тех, кто ни разу в жизни не задавался вопросом: „С которой точки начинается настоящая жизнь?“»
Праздные мысли брели, спотыкаясь, в моей голове, покуда я, омываемый со всех сторон ласковым чувством одиночества, лежал на плоской скале над морем и ел апельсин; скоро одиночеству не будет места, скоро Город скомкает его, как ветошь; тяжеловесный синий сон об Александрии – вот она нежится, подобная некой древней рептилии, в отблесках света с озера: лазурь, фараонова бронза. Великие сенсуалисты прошлого, предавшие тела свои зеркалам, стихам, ленивым стайкам мальчиков и женщин, иголке в вену, трубке с опиумом, безжизненным, без вкуса и без страсти поцелуям. Бродя в мечтах без всякой цели по узким улочкам Александрии, я снова знал, что этот Город взял октаву не просто человеческой истории, но всей биологической шкалы наших страстей – от размалеванных экстазов Клеопатры (странно, почему должно было так случиться, что вино изобрели именно здесь, под Тапосирисом) до фанатизма Ипатии (увядшие виноградные листья, поцелуи мученицы). И гости со стороны: Рембо, послушник резкого стиля, ходил по тем же улицам, с поясом, набитым золотыми монетами. И прочие смуглолицые толкователи снов, и политики, и евнухи – словно стая птиц в чудесном оперении. Обуреваемый жалостью, желанием и страхом, я вновь увидел Город, раскинувшийся передо мной, населенный фигурами моих друзей и персонажей. Я знал, что должен выдержать с ним еще одну очную ставку, на сей раз и впрямь последнюю.
И все-таки это был странный отъезд, полный маленьких непредвиденных казусов: посланником, например, оказался горбун в серебристом шелковом костюме, с цветком в петлице и с надушенным платочком в рукаве! А еще мы оказались вдруг в самом центре жизни крохотной греческой деревушки, которая вот уже не первый год тактично игнорировала самый факт нашего существования, если не считать спорадических подарков в виде рыбы, или вина, или крашеных яиц; Афина приносила их завернутыми в большую красную шаль. Она тоже восприняла наш отъезд как личную трагедию, поочередно оплакав каждое место нашего немногочисленного багажа. «Все равно просто так вам отсюда не уехать, – после каждого заряда слез, растекавшегося веером по морщинистой старой маске. – Деревня вас просто так не отпустит». Нас намеревались пригласить на прощальный банкет в нашу честь!
Что же касается девочки – я заранее обрядил ее путешествие (как, в общем-то , и всю ее новую жизнь) в костюмы из волшебной сказки. И от бесчисленных повторов сюжет ничуть не утратил свежести. Она сидела тихо-тихо, глядела на портрет и, затаив дыхание, слушала. Она была готова к переменам, более того, ей уже самой не терпелось занять место в яркой веренице нарисованных мной – специально для нее – персонажей. Она, как губка, впитывала смешанные мною почти наугад краски причудливого мира, к которому сама принадлежала по праву рождения и в который должна была вот-вот вернуться, – в мир, населенный призраками отца, Черного Принца, Черного Корсара и приемной матери, Королевы смуглой и царственной…
«Она похожа на карточную даму?»
«Да. На даму пик».
«А зовут ее Жюстин?»
«Зовут ее Жюстин».
«Она курит на портрете. Она будет любить меня больше, чем отец, или меньше?»
«Они оба станут тебя любить».
Иначе нежели чем через посредство мифа или, скажем, аллегории, сей по-детски неуверенной в себе поэтической традиции, ей бы этого всего и не объяснить. Я вызубрил с ней наизусть волшебную карту Египта с расставленными там и сям (и увеличенными до размеров богов – или волхвов, по меньшей мере) портретами членов семьи, магических ее, так сказать, предков. Но, в конце-то концов, разве жизнь сама по себе не есть некая волшебная сказка, которую мы с возрастом перестаем воспринимать как таковую? Неважно. Она заранее пьянела от образа отца.
«Ага, я все поняла». С легким кивком и со вздохом она укладывала аккуратно раскрашенные картинки в потаенную шкатулку памяти – до завтра. О Мелиссе, о своей мертвой матери, она говорила реже, а если говорила, то я отвечал ей все в той же сказочной манере; но она уже успела закатиться, бледная эта звезда, за горизонт, в стылое царство смерти, освободив сцену для других – для прочих карточных персонажей, для тех, кто жив.
Девочка бросила в море мандарин и принялась следить, как он опускается, мягко скользя под водой, на песчаное дно грота. Он лежал на дне, оранжевый язычок пламени, колеблемый невидимой круговертью подводных течений.
«Смотри теперь, как я его достану».
«Может, не стоит, море совсем еще ледяное, ты же умрешь от холода».
«Да нет. Сегодня тепло. Смотри».
Плавала она не хуже выдры, маленький такой симпатичный выдреныш. Я сидел на плоском, нагретом солнцем камне и узнавал в лишенных страха глазах девочки точно такие же, с чуть приподнятыми к вискам уголками глаза Мелиссы; а иногда невзначай, как будто случайная соринка попала, темный многозначительный взгляд (умоляющий, неуверенный) ее отца, Нессима. Я вспомнил голос Клеа, она сказал когда-то давно, в другой жизни: «Запомни, если девочка не любит танцевать и плавать, из нее никогда не выйдет ничего путного в постели». Я улыбнулся и подумал: «А что, если и вправду так?» – глядя, как ловко повернулось под водой ее гладкое тельце и плавным, законченным движением, тюленьей уверенной повадкой скользнуло ко дну, оттолкнувшись от неба большими пальцами ног. И маленькая, белеющая из-под воды полоска между ног. Она подхватила изящным движением мандарин и пошла по спирали вверх, зажав добычу в зубах.
«А теперь беги домой и вытрись насухо».
«Да мне не холодно».
«Делай, что тебе говорят. Ну! Мигом!»
«А тот человек с горбом?»
«Он уехал».
Неожиданное появление Мнемджяна разом встревожило и взбудоражило ее – известия от Нессима привез именно он. Он вышагивал по галечнику вдоль берега – с миной гротескного испуга на лице, – покачиваясь, балансируя, словно привязал к ногам даже не ходули, а пару штопоров. Мне кажется, он хотел показать нам, что его нога приучена едва ли не с рожденья к дымчатой шероховатости изысканных столичных тротуаров. Он был физически не приспособлен к terra firma.[2]2
Твердой земле (лат. ).
[Закрыть] Он излучал – в буквальном смысле слова – природную тонкость склада. Одет он был в сногсшибательный серебряного цвета костюм, при запонках, при жемчужной булавке в галстуке и при перстнях с каменьями чуть не на каждом пальце. Одна лишь улыбка, детская его улыбка, да строго приученный к месту завиток волос на лбу остались прежними.
«Я женился на вдове Халиля. И теперь, дорогой мой друг, я самый богатый цирюльник во всем Египте».
Он выпалил все это единым духом, налегая грудью на тросточку с серебряным набалдашником, – к тросточке он явно не привык. Его фиолетовый глаз окинул медленным, едва ли не надменным взглядом наш, скажем так, убогий домик; от предложенного стула он отказался, оберегая отутюженную складку на невообразимых своих панталонах. «Трудновато, должно быть, тебе здесь живется, а? Не то чтобы luxe[3]3
Роскошь (фр. ).
[Закрыть], а, Дарли? – Короткий вздох и тут же следом: – Но, впрочем, ты же скоро вернешься к нам. – Неопределенный – тросточкою – жест, имеющий означать грядущее гостеприимство Города. – Увы, я не могу у тебя погостить. Я, видишь ли, возвращаюсь, времени мало. И к тебе заехал только из дружеских чувств к Хознани». Фамилию Нессима он произнес с этакой небрежной ленцой, словно речь шла о человеке, как минимум равном ему по статусу; поймав глазом мою невольную улыбку, он все ж таки хихикнул, прежде чем снова впасть в серьезность. «Впрочем, у меня действительно очень мало времени». – Он сбил щелчком пылинку с рукава.
В чем, в чем, а в этом сомневаться не приходилось. Смирнский пакетбот заходил сюда только для того, чтобы выгрузить почту да случайный попутный груз – пару ящиков макарон, мешок купороса, насос. Островитянам не слишком много надо. Я проводил его обратно до деревни через оливковые рощи – мы шли и говорили по дороге. Мнемджян тащился все той же черепашьей походкой. Но я был этому рад, у меня появилось время задать ему полдюжины вопросов и получить хотя бы отдаленное представление о том, что ожидало меня по возвращении в Город: изменение диспозиций, непредвиденные обстоятельства.
«Многое переменилось с тех пор, как началась война Доктор Бальтазар болел, сильно болел. А о палестинском заговоре Хознани ты знаешь? Как их накрыли? Египтяне пытаются что могут конфисковать. У них уже много чего отобрали. Да-да, они теперь совсем бедные, и ведь от них еще таки не отстали. Она сидит в Карм Абу Гирге под домашним арестом. Ее уже лет сто никто не видел. А он по специальному разрешению работает в доках водителем „скорой помощи“, два раза в неделю. Очень опасная работа. Такой был недавно налет, он без глаза остался, и еще ему оторвало палец».
«Нессим?» – вскинулся я. Мнемджян с важным видом кивнул. Новый, неожиданный образ друга ударил меня, как пуля. «Господи Боже мой», – сказал я, и карлик кивнул еще раз, словно бы присягой подтверждая строгую достоверность информации. «Не повезло ему, – поджав губы. – Война, Дарли, война». Затем внезапно в голову ему пришла другая, счастливая мысль; он снова улыбнулся своей детской улыбкой – так искренне в Леванте радуются только ценностям простым, материальным. Он взял меня под руку: «Но, знаешь ли, война – еще и бизнес, и хороший бизнес. Мои парикмахерские стригут теперь армейскую щетину день и ночь. Три салона, двадцать мастеров! Высший класс, ну, да ты сам увидишь. А Помбаль говорит, это он шутит так: „Теперь ты бреешь мертвых, пока они еще живы“». Он рассмеялся манерно и почти беззвучно.
«А что, Помбаль вернулся?»
«Ну конечно. Он теперь большой человек в свободной Франции. У него какие-то конференции с сэром Маунтоливом чуть ли не каждый день. И этот тоже никуда не делся. Много кто с тех времен остался, Дарли, сам увидишь».
Мнемджян, казалось, был в совершеннейшем восторге от того, насколько просто ему удалось меня удивить. А следом он сказал такое, что заставило мою мысль кувыркнуться через голову двойным – с подкруткой – сальто. Я встал как столб и попросил его повторить последнюю фразу; мне показалось, я просто его не расслышал: «Я только что побывал в гостях у Каподистриа». Я стоял и глядел на него, как пьяный поп на беса. Каподистриа! «Так ведь он же умер !»
Карлик откинулся, будто на детской лошади-качалке, назад до упора и расхохотался уже в голос, подвизгивая и булькая горлом. Веселился он не меньше минуты, потом, откашливаясь, переводя дыхание и утирая слезы, полез не торопясь, растягивая роскошь сюрприза, во внутренний карман и вынул дешевую открытку, из тех, что продаются в любом порту Средиземного моря. Карточку он протянул мне. «А это тогда кто?»
Снимок был мутный и явно передержанный, вполне в духе уличных средиземноморских фотографов. По набережной шли две фигуры. Одна из них – Мнемджян. Другая… Я смотрел, не понимая, но знакомые черты накладывались одна за другой и совпадали…
Каподистриа был одет в прямые, по эдвардианской моде, широкие брюки и черные туфли с очень узкими носами. Длинное профессорское пальто с отворотами и меховым воротником. Венчал композицию chapeau melon[4]4
Котелок (фр. ).
[Закрыть], придавший всей его фигуре сходство со вставшей на задние лапы долговязой крысой из комикса. Он отпустил жиденькие, под Рильке, усы, чуть загибавшиеся книзу над уголками рта. В зубах – длинный и тонкий мундштук. Это был Каподистриа, вне всякого сомнения. «Но какого черта…» – начал было я, Мнемджян прикрыл с улыбочкой фиалковый глаз и прижал к губам пальчик. «Всегда, – промолвил он, – есть место тайне». – И, преисполнившись достоинством хранителя оных, раздулся горбатенькой этакой жабой и принялся глядеть мне в глаза злокозненно и самодовольно. Он, может быть, и собрался бы что-то мне объяснить, но в эту минуту со стороны деревни выдохнул корабельный гудок. Он засуетился: «Мне пора» – и опять сорвался в мелкий ковыляющий шажок. «Да, не забыть бы отдать тебе письмо от Хознани. – Письмо лежало все в том же внутреннем кармане, свернутое пополам, и он наконец его выудил. – А теперь давай прощаться, – сказал он. – Все уже договорено, как полагается. Увидимся».
Я пожал ему руку и постоял еще, глядя, как он ковыляет вниз по склону, я был удивлен и озадачен. Потом дошел до края оливкой рощицы и опустился на камень, чтобы прочитать Нессимово письмо. Оно было кратким и содержало по большей части детали нашего переезда – он и впрямь обо всем договорился. Маленькое суденышко придет специально за нами. Он сообщал приблизительные время и место, где нам его ждать. Четко, ясно, без лишних слов. Затем, в постскриптуме, Нессим приписал размашистым своим почерком: «Рад буду снова увидеть тебя, без всяких. Я думаю, Бальтазар уже успел дать тебе подробный отчет о наших несчастьях. Ты ведь не станешь требовать чересчур суровой епитимьи от людей, которые так трогательно о тебе заботятся? Надеюсь, не станешь. Пусть прошлое останется для всех нас закрытой книгой».
Вот так все это и случилось.
На последние несколько дней остров припас самую лучшую свою погоду и принялся Откровенно баловать нас теми немногими, терпкими на вкус простыми радостями, которые были как дружеское объятие и которых, я уже и тогда это знал, мне будет очень не хватать, когда надо мною вновь сомкнется чадное египетское небо.
Вечером, перед самым отъездом, деревня, вся до единого человека, закатила нам обещанный прощальный ужин – ягнятина, жаренная на вертеле, и рецина, золотое местное вино. Вдоль узкой единственной на всю деревню улицы выставили сплошь столы и стулья, и каждая семья натащила из дому на общий стол всего, чем только была богата. Власть светская и власть духовная, даже и они в лице почтенных своих представителей – священника и мэра – были здесь, по оба конца длинного стола. Сидеть вот так, за столом на улице, при свете ламп, и делать вид, что на дворе и впрямь погожий летний вечер; было холодно, однако вино грело, и грела почему-то луна: она подняла прямо из моря плоское слепое лицо и принялась лить свет на белоснежные хрусткие скатерти, ломая лучи о стеклянные стенки стаканов. Старые полированные потом лица, разогретые вином, светились, как надраенная медь. Полные древнего крестьянского достоинства улыбки, устаревшие давным-давно вежливые формы речи, полузабытые любезности – все вежество былого мира, который тает на глазах и не желает видеть в нас, теперешних, законное свое потомство. Седые капитаны, чьи суда выходят в море за подводным урожаем губок, прихлебывают из синих эмалированных кружек вино; их теплые объятия пахнут сморщенным осенним яблоком, их прокуренные длинные усы закручены вверх – хоть закладывай за уши.
Поначалу я был тронут, сочтя церемонию эту данью уважения к собственной персоне; но чуть погодя выяснилось, что уважения заслуживала в первую очередь моя страна, и я снова был тронут. Греция пала, англичане вместе с греками воевали против немцев – и этого было достаточно, чтобы при случае любой англичанин получил свою долю признательности, и скромные крестьяне из забытой Богом деревушки ни в чем не уступали всем прочим грекам. Тосты следовали один за другим и отдавались эхом от тихой черной ночи, расписными воздушными змеями взлетали к небу торжественные речи на пышном греческом, раскатистом и звучном. В них звучали каденции поэзии по-настоящему большой и сильной – поэзии часа отчаяния; хотя, конечно, то были слова, просто слова. Война родит их в изобилии, и сразу же после войны, затасканные с трибуны на трибуну, они снова станут помпезной высокопарной ветошью – и умрут.
Но в тот холодный вечер война зажигала этих стариков, как тонкие восковые свечи, одного за другим, и в них горело чистое пламя – благородно и ярко. За столом со стариками рядом не было молодых мужчин, чьи скользкие разбойничьи взгляды заставили бы стариков устыдиться и замолчать: они уехали в Албанию умирать в колючих тамошних снегах. Высокие, резкие голоса женщин, как будто б на грани невыплаканных слез, и между взрывами хохота, между песнями – внезапные долгие паузы, как отверстые могилы.
Она подкралась к острову по водам тихо, едва заметно, эта война; как будто облака заполнили понемногу горизонт из края в край. Однако до деревни она пока не докатилась. Одни только слухи – едкая неразбериха надежд и страхов. Сперва, казалось, она возвестила начало конца так называемого цивилизованного мира, но вскоре стало ясно, что и этой надежде сбыться не суждено. Нет, то был конец доброте, и чувству безопасности, и тихим трудам и дням; конец мечтам художника, безалаберной жизни и радости. А в прочем условия человеческого существования ничуть не изменились, только грани стали четче, ноты выше; кажимости стали прозрачней, и вроде бы кое-где сквозь них проступили некие смутные очертания истины, ибо смерть любой конфликт привыкла доводить до точки и только изредка, из жалости должно быть, кормит нас полуправдами, коими мы привыкли довольствоваться в нашей обыденной жизни.
Вот и все, что мы знали о ней покуда, о войне, неведомом этом драконе, чья пасть уже дышала где-то там, вдалеке, смрадом и пламенем. Все ли? Ну, если быть точным, раз или два небо над облаками набухало слитным гулом невидимых бомбардировщиков, но этот звук не заглушал более близкого, над самым ухом, гудения пчел: здесь у каждой семьи были пчелы, по несколько беленных известью ульев. Что еще? Один раз (вот это было уже куда реальней) в бухту зашла подлодка, выставила над водой перископ и нескончаемые пять минут разглядывала берег. Мы как раз купались на мысу – интересно, они нас заметили? Мы стали размахивать руками. У перископа рук, понятно, не было, и ответного знака мы не получили. Быть может, на северной стороне острова, на тамошних пляжах, она обнаружила еще какую-нибудь редкость – старого тюленя, разомлевшего на солнышке, как мусульманин на молитвенном коврике. Но это все опять-таки мало общего имело с войной.
Картинка, двухмерная прежде, стала обретать объем и плотность, когда той же ночью в чернильно-черную бухту суетливо скользнула посланная Нессимом маленькая каика; на борту были трое, угрюмого вида люди, и у каждого – автомат. Они не были греки, но по-гречески говорили свободно, раздражительно и чуть свысока. У них нашлось бы о чем рассказать – об армиях, попавших в окружение, о замерзших насмерть солдатах, – но в некотором смысле было уже поздно, вино затуманило старикам головы. Да и балагурами эти трое не были. Но они произвели на меня впечатление, эти пришельцы из неведомого мира под названием «война». Приятные люди за столом, хорошая еда, хорошее вино, эти же сидели как на иголках. На небритых скулах застыли желваки, словно бы мышцы свело от усталости. Курили они жадно, сладострастно выпуская струйки сизого дыма разом из носа и рта. Когда они зевали, зевок завязывался чуть не от самой мошонки. Мы предали себя в их руки не без опаски: то были первые недружелюбные лица за несколько проведенных здесь лет.
В полночь мы вышли из бухты по касательной к лунной дорожке – луна стояла высоко, и тьма у горизонта стала чуть мягче и не внушала тревоги. С белого пляжа по-над водой неслись нам вслед несвязные, едва различимые слова прощания. Нет, все-таки ни один язык не провожает и не встречает так, как греческий!
Какое-то время мы шли вдоль прерывистой линии скал, то и дело попадая в чернильные пятна тени: торопливый пульс дизеля рябью перебегал от рифа к рифу, эхо собирало такты, как мальков, в стайки и залпами отправляло их обратно, к нам. Затем наконец-то открытое море. Мягкие, округлые груди волн принялись согласно, будто бы играючи, баюкать нас, развязывать в душе узлы. Ночь была тихой и теплой – до нарочитости, до перехлеста. Дельфин прыгнул, по носу, еще, еще раз. Мы легли на курс.
Ликование пополам с глубокой грустью, усталость и счастье. Я облизнул губы: добротная морская соль. Мы сели и молча выпили чаю с шалфеем. Девочка буквально онемела, зачарованная роскошью пути и ночи: мерцающий след за кормой, тающий понемногу во тьме, как хвост кометы, текучее, живое пламя. Над нами – раскидистая крона неба, перистые облака; высыпали звезды, огромные, будто цветы миндаля, перемигивались тихо, загадочно. В конце концов, счастливая сознанием добрых этих знаков, убаюканная вдохами и выдохами моря и монотонной песенкой мотора, она уснула, с улыбкой полураскрыв губы, прижав к щеке куколку из оливкового дерева.
Разве мог я не думать о прошлом, в которое мы возвращались на маленьком судне сквозь густые заросли времени по торным путям греческого моря? За мною следом ложилась ночь – словно раскручивалась лента тьмы. Морской полночный бриз мягче кисточки из лиса лизал лицо. Я лежал меж сном и явью, чувствуя, как тянет меня вниз тяжелый невод памяти: разбегаются по Городу нити, вены, жилки на листе, и память услужливо ловит в сеть не людей, но маски, разом прекрасные и злые. Я снова буду бродить по Александрии, думалось мне, уклончивой, недолговечной повадкой призрака – ибо всякий, кто ощутил однажды ход времени, иного, некалендарного времени, становится в каком-то смысле слова призраком. В сумеречном этом царстве я слышал эхо слов, сказанных давным-давно другими голосами. Бальтазар говорит: «Сей мир есть обещание счастья, оно нас ждет, но мы не в силах взять его». Извечное право сильного, коим пользуется Город в отношении каждого из своих жителей, калечит чувства, сваливает все и вся в бездонные свои резервуары и заливает их – всклянь – крутым рассолом старческих своих страстей. Чем сильнее мучит совесть, тем в поцелуях больше страсти. Жесты рук в янтарном сумраке закрытых ставнями комнат. Стаи белых голубей взлетают по спирали вверх меж минаретов. Эти картинки казались мне опознавательными знаками Города, каким я снова его увижу. Но я ошибся – ибо каждое следующее приближение не похоже на предыдущие. И всякий раз мы обманываем себя и думаем, что все будет так, как и прежде. Я и представить себе не мог, каким будет Город, когда я увижу его в первый раз с моря.