Текст книги "Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар"
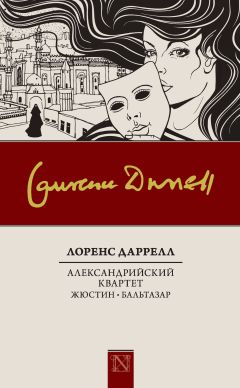
Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Они встретились там же, где я впервые ее увидел, в сумрачном вестибюле отеля «Сесиль», в зеркале. «В вестибюле этой отжившей свой век гостиницы зеркала в позолоченных рамах ловят и ломают пальмовые листья. Только богатые могут позволить себе жить здесь постоянно – те, кто обитает в позолоченных рамах обеспеченной старости. Я ищу комнат подешевле. Сегодня в холле торжественно заседает маленький кружок сирийцев, неповоротливых, в темных костюмах, желтолицых под красными фесками. Их бегемотоподобные, слегка усатые дамы уже удалились, позвякивая драгоценностями, спать. Овальные лица мужчин, мягкие и любопытные, и женоподобные их голоса кружат вкруг бархатных футляров – каждый из александрийских маклеров носит при себе в шкатулке свои излюбленные камешки; после обеда разговор плавно переходит на мужские драгоценности. Это последняя тема для беседы, оставшаяся у средиземноморского мира; самолюбование, нарциссизм, дитя сексуального истощения, выявляет себя в символе обладания: ты встречаешь мужчину и через минуту знаешь, сколько он стоит; стоит тебе встретить его жену, и тот же сдавленный шепот назовет тебе сумму ее приданого. Они мурлычут над бриллиантами, как евнухи, подставляя свету одну грань, другую, прицениваясь. Они улыбаются – мягкие женские улыбки – и показывают мелкие белые зубы. Они вздыхают. Одетый в белое официант с лицом из полированного черного дерева приносит кофе. Откидывается серебряная крышка над толстыми белыми (как бедра египетских женщин) папиросами, и в каждой – обязательные несколько крошек гашиша. Несколько зернышек забвения на сон грядущий. Думал о девушке, которую встретил прошлой ночью в зеркале: на фоне мрамора и мамонтовой кости – темная вспышка; блестящие черные волосы; удивительные, бездонные глаза – и взгляд твой тонет в них бесследно, ибо они переменчивы, любопытны, ненасытны. Хочет казаться гречанкой, но наверняка еврейка. Нужен еврей, чтоб унюхать еврея: ни у кого из нас не хватает смелости покаяться в собственной крови. Я сказал ей, что я француз. Рано или поздно мы друг друга раскусим».
«Женщины из иммигрантских общин здесь красивее, чем где бы то ни было. Страх и неуверенность одолевают их. Им кажется, что они осели на дно беспредельного океана черноты. Этот город выстроен как дамба на пути прилива африканской тьмы; но черные с их мягкой поступью уже начали проникать в европейские кварталы, размывать их: запущен вихрь расового осмоса. Чтобы быть счастливым, нужно бы родиться мусульманином, египетской женщиной – жадной, податливой, вялой, с пышными формами; поклонницей внешнего лоска; их восковая кожа отливает то лимонной желтизной, то зеленью дыни в ярком лигроиновом свете. Жесткие тела, ленивые жесты. Груди яблочно-зеленые и твердые – змеиная прохлада плоти, вибриссы пальцев рук и ног. Их чувства похоронены в подкорке. В любви они не умеют отдать и малой толики себя, ибо им нечего отдавать, они обволакивают вас облаком мучительной рефлексии – мукой невыразимого томления, полярно противоположного наслаждению и нежности. Столетиями были они заперты в стойлах вместе с волами, с закрытыми лицами, обрезанные в духе. Откормленные во тьме сладостями и пряным жирным мясом, они стали бездонными бочками наслаждения, перекатывающимися на бумажно-белых ногах с голубоватыми прожилками вен».
«Идешь сквозь египетский квартал, и запах плоти меняется – аммиак, сандал, селитра, специи, рыба. Она не позволила мне подвезти ее до дому, явно стесняясь тамошних трущоб. И притом удивительно хорошо говорила о своем детстве. Кое-что записал: она вернулась домой и застала отца, колющего маленьким молоточком грецкие орехи при свете масляной лампы. Я его вижу. Никакой он не грек, он еврей из Одессы в меховой шапке на сальных витых волосах. Еще: поцелуй берберки; огромный напрягшийся пенис, как обсидиан ледниковой эры; наклонилась, чтобы взять ее губу красивыми неровными зубами. Мы, здешние, оставили Европу где-то позади и движемся к новым духовным широтам. Она отдалась мне с таким презрением, что впервые в жизни я был вынужден задуматься об истинной природе ее страсти; моментальная мысль – она отчаянно, до высокомерия горда тем, что несчастна. И все же эти женщины из затерянных общин, из колен утраченных, обладают какой-то отчаянной смелостью, совершенно непохожей на нашу. Они изучили жизнь плоти до степеней запредельных и стали для нас чужестранцами. Как мне написать об этом? Придет она или навсегда исчезнет? Сирийцы расходятся спать по комнатам с легкими криками, как перелетные птицы».
Она приходит. Они говорят. («Под показной провинциальной изощренностью и резкостью ума я разглядел, как мне показалось, неискушенность – не в мире, нет – лишь в свете. Я заинтересовал ее, вне всяких сомнений, как иностранец с хорошими манерами – и она обратила на меня полный какой-то застенчивой совиной мудрости взгляд огромных карих глаз; голубоватые белки и длинные ресницы оттеняют блеск зрачков, сияющих, искренних».)
Можете себе представить, с какой болезненной, захватывающей дух страстностью я в первый раз читал повествование о давнем романе Жюстин; и, честное слово, несмотря на то что я уже много раз перечитывал эту книгу и знаю ее теперь почти наизусть, она всегда была и будет для меня документом, полным личной боли и не перестающим меня удивлять. «Любовь наша, – пишет он в другом месте, – была подобна силлогизму, истинные посылки которого утрачены: я имею в виду расположенность друг к другу. Это было что-то вроде взаимной власти умов, поймавшей нас в ловушку и пустившей в дрейф по мелким и теплым водам Мареотиса, словно лягушек, мечущих икру, – нас, жертв инстинктов, идущих от апатии и духоты… Нет, не те слова, неправда. Попробую еще набросать портрет Клодии сим расшатанным, неверным инструментом. С чего начнем?»
«Природное чутье, позволявшее ей находить выход из любой ситуации, безотказно служило ей на протяжении двадцати лет беспорядочной и бессистемной жизни. Об ее происхождении я почти ничего не знаю, если не считать того, что выросла она в крайней нищете. Она произвела на меня впечатление человека, старательно импровизирующего одну за другой злобные карикатуры на самого себя, – это, однако, общая черта большинства одиноких людей, понимающих, что истинная их сущность не может найти отклика и соответствия в другом человеке. Скорость, с какой она переходила от одного окружения, от одного мужчины, места, времени к другому, была потрясающей. Но само ее непостоянство было в своем роде очаровательным. Чем больше я узнавал ее, тем менее предсказуемой она казалась; единственное, что оставалось неизменным, так это ее неистовые попытки прорвать блокаду собственного аутизма. И каждая попытка кончалась провалом, чувством вины и раскаянием. Как часто мне приходилось слышать это ее: “Хороший мой, на этот раз все будет иначе, я тебе обещаю”».
«Позже, когда мы уехали за границу: в “Адлоне” [44]44
«Адлон Кемпински», шикарный берлинский отель, пик популярности которого пришелся на 1920 – начало 1930-х годов.
[Закрыть] пыль прожекторов оседает на телах испанских танцовщиц, скользящих в дыму тысяч сигарет; над темными водами Буды, где ее слезы обжигающе капают на тихо плывущие мертвые листья; на иссохших равнинах Испании, верхом – звук конских копыт оспинами остается на теле тишины; у Средиземного моря, мы загораем на каком-то пустынном рифе. Ее измены никогда не выводили меня из себя – ибо там, где дело касалось Жюстин, вопросы мужской чести, обладания как-то сами собой уходили на задний план. Я был околдован иллюзией, что смогу наконец по-настоящему ее понять; теперь я вижу: в действительности она была не женщина, но воплощение Женщины, и не склонна была снисходить до удобных обществу условностей. “Я охочусь за жизнью, которую бы стоило прожить. Как знать, если бы я могла умереть или сойти с ума, прямо сейчас, все, что бесится внутри меня, в темноте и тесноте, глядишь, и нашло бы выход. Тот доктор, в которого я была влюблена, он говорил мне, что я нимфоманка, – но в радостях моих нет ни обжорства, ни распущенности, Жакоб. С этой точки зрения я просто даром трачу время. Даром, дорогой мой, даром! Ты говоришь, что я получаю удовольствие с печалью в душе, подобно пуританам. Даже и в этом ты ко мне несправедлив. Я принимаю удовольствие как трагедию, а если мои друзья-медики не могут обойтись без членистоногого слова, чтобы определить то бессердечное создание, каковым я, наверное, кажусь со стороны, по крайней мере им придется признать, что все недостатки моего сердца с успехом компенсирует душа. Вот где проблема-то!” Сами видите, это отнюдь не обычная женская логика. Ее мир был словно бы лишен не только объема, но и прочих измерений, и любовь была вынуждена обратиться вспять на самое себя и стать чем-то вроде идолопоклонства. Поначалу я принял это за всепоглощающий и опустошительный эгоизм, поскольку она не имела ни малейшего представления о тех маленьких обязательных проявлениях внимания, что составляют основу привязанности между женщиной и мужчиной. Выглядит помпезно, ну да и бог с ним. Теперь же, вспоминая нападавшие на нее по временам приступы страха и счастья, я начинаю сомневаться в своей правоте. Я думаю об утомительных спектаклях – о сценах в меблированных комнатах, когда Жюстин открывала краны в ванной, чтобы заглушить звуки рыданий. Она ходила взад-вперед по комнате, зажав ладони под мышками, бормоча себе под нос, тихо тлея, словно бочка с нефтью, готовая взорваться. Мое весьма посредственное здоровье и слабые нервы – но прежде всего мое европейское чувство юмора – в такие минуты, казалось, совершенно выводили ее из себя. Страдая, скажем, от некоего ею самой придуманного косого взгляда на банкете, она металась по ковровой дорожке в ногах кровати, как пантера. Стоило мне уснуть, и она приходила в ярость – трясла меня за плечи с криком: “Проснись, Жакоб, ты что, не видишь, что я страдаю?” Когда я отказывался принимать участие в этом цирке, она разбивала что-нибудь на туалетном столике, чтобы получить предлог и позвонить. Каких только вариаций на тему перепуганного лица ночной горничной я не насмотрелся – она встречала их с убийственной вежливостью и роняла что-нибудь вроде: “Окажите мне такую любезность, уберите на туалетном столике. Я, кажется, нечаянно что-то там разбила”. Затем она сидела, куря сигарету за сигаретой. “Я ведь знаю, в чем дело, – сказал я ей однажды. – Сдается мне, что всякий раз, как ты мне изменяешь и мучаешься угрызениями совести, тебе хочется спровоцировать меня на то, чтобы я, ну, скажем, побил тебя, что ли – и вроде как отпустил тебе грех. Дорогая моя, я не желаю потворствовать твоим прихотям. Свою ношу изволь нести сама. Ты все пытаешься меня заставить вытянуть тебя пару раз арапником. А мне тебя просто жаль”. Могу поклясться, это заставило ее на минуту глубоко задуматься, и ее рука невольно коснулась гладкой поверхности тщательно выбритых утром лодыжек…»
«Позже, когда я начал от нее уставать, подобные вспышки казались мне настолько утомительными, что я уже нарочно старался задеть ее и откровенно над ней смеялся. Как-то ночью я назвал ее претенциозной, нудной, истеричной еврейкой. Она разразилась жуткими хриплыми рыданиями, к которым я за это время настолько привык, что даже и сейчас при одном воспоминании о них (такое богатство, такая мелодическая плотность) меня передергивает болью; и бросилась на свою кровать, безвольно раскинув руки и ноги: приступы истерии играли с ними, как струи воды со шлангом».
«Действительно ли такого рода истерики случались с ней настолько часто или это моя память их умножила? Может быть, это и было-то всего один раз, а я теперь обманываюсь эхом. Как бы то ни было, я помню, как часто и напряженно я вслушивался в звук откупориваемой в ванной бутылочки и в тихий плеск таблеток, падавших в стакан с водой. Даже и сквозь сон я считал, чтобы она не приняла их слишком много. Все это, конечно, было гораздо позже, поначалу я просто звал ее к себе в постель, и – взвинченная, замкнутая, холодная – она подчинялась. Я был настолько глуп, что надеялся растопить лед и умиротворить ее хотя бы физически, – тогда я верил, что от этого должна зависеть и умиротворенность ума. Я ошибался. Существовал некий тугой внутренний узел, с которым она безуспешно пыталась справиться, и узла того распутать я не мог – ни как любовник, ни как друг. Конечно же. Конечно. Я знал ровно столько, сколько в то время было известно о психопатологии истерии, но было в Жюстин что-то иное, и, как мне казалось, я выследил зверя там, в глубине. В каком-то смысле она хотела вовсе не жизни, а некоего всепоглощающего откровения, способного дать жизни цель».
«Я уже писал о нашей первой встрече – в длинном зеркале отеля “Сесиль”, перед настежь распахнутой дверью бальной залы, в карнавальную ночь. Первые слова, сказанные между нами, были произнесены, что само по себе весьма символично, сквозь зеркало. С ней был какой-то мужчина, похожий на камбалу, стоявший поодаль, пока она внимательно изучала свое смуглое отражение. Я остановился поправить непривычно сжавшую горло бабочку. В ее глазах жила здоровая голодная искренность, с ходу отметавшая всякое предположение о развязности или навязчивости; она улыбнулась и сказала: “Вечно не хватает света”. На что я безо всякой задней мысли ответил: “Возможно – для женщин. Мы, мужчины, не настолько взыскательны”. Мы улыбнулись друг другу, и я прошел за ее спиной в залу, готовый, не задумываясь, навсегда уйти из ее зеркального бытия. Позже церемонный лабиринт одного из чудовищных английских танцев, именуемого, если мне не изменяет память, “Пол Джонс”, оставил нас с ней наедине на тур вальса. Мы сказали лишь несколько ничего не значивших слов – я плохой танцор, и к тому же, должен признаться, ее красота не произвела на меня впечатления. И лишь потом она принялась вычерчивать вдоль становых опор моей личности стремительные малообдуманные пируэты, повергая мою способность к трезвой оценке ситуации в полный хаос серией быстрых метких ударов, приписывая мне тут же выдуманные качества – из жгучего желания привлечь мое внимание. Женщины просто не могут не атаковать писателей – и как только она узнала, что я писатель, она прониклась необходимостью заинтриговать меня препарированием моей же собственной персоны. Все это могло бы в высшей степени польстить моему amour-propre [45]45
Самолюбию (фр.).
[Закрыть], если бы некоторые из ее наблюдений были чуть дальше от опасной черты. Но она была весьма проницательна, а я был слишком слаб, чтобы отказываться от подобных игр, – ах, эти ухищрения ума, предвестники гамбитов флирта!»
«Далее я не помню ничего до той самой ночи – волшебной летней ночи на залитом лунным светом балконе над морем, – когда Жюстин прижала теплую ладонь к моим губам, чтобы остановить меня, говоруна, и сказала что-то вроде: “Ну же! Engorge-moi [46]46
Обними меня (фр.).
[Закрыть]. От страсти к отвращению – давай с начала и до конца”. Было такое впечатление, что она – про себя – уже успела высосать меня до капли. Но слова эти были произнесены с такой усталостью, с таким смирением – и как же я мог не влюбиться?»
«Нет смысла перебирать события и мысли инструментом столь ненадежным, как слово. Я помню наши бессчетные встречи, то острые как бритва, то заходящие в полный тупик, и я вижу твое двойное дно, Жюстин, вижу, как ты прятала неутолимый голод познания, голод по власти через познание себя, за обманом чувств. С печалью я вынуждаю себя обращаться к мысли – а трогал ли я ее вообще когда-нибудь более или менее серьезно или просто был лабораторией, где она могла работать. Она многому у меня научилась: читать и связно думать. Ни того ни другого она прежде не умела. Я даже заставлял ее вести дневник, чтобы для нее самой стали более внятными ее подчас далеко не ординарные мысли. Однако весьма вероятно, что чувство, принятое мной за любовь, было просто-напросто благодарностью. Среди тысяч сброшенных, как сыгравшие карты, людей, впечатлений, объектов анализа – где-то там я вижу и себя, безвольно влекомого потоком, – и протягиваю руки. И вот что странно: как любовник я так ее по-настоящему и не обрел, но обрел как писатель. Здесь мы и впрямь подали друг другу руки – в аморальном мире подвешенных суждений, где удивление и любопытство выглядят величественнее, чем порядок – порядок навязанных рассудком силлогизмов, здесь то самое место, где ждешь в молчании, затаив дыхание, пока не запотеет стекло. Я стерег ее именно так. Я влюбился в нее без ума».
«У нее было много тайн, ведь она была истинной дочерью Мусейона, и мне приходилось отчаянно оберегать себя от ревности и от желания вмешаться в ту, скрытую, часть ее жизни. Мне это почти удавалось, и если я и следил за ней, то лишь из чистого любопытства, из желания знать, что она может делать и о чем может думать, когда она не со мной. Была, к примеру, в городе некая женщина, которую она часто навещала и чье влияние на нее было столь глубоким, что натолкнуло меня на мысль о предосудительной связи; еще был мужчина, ему она писала длинные письма, хотя, насколько я понимаю, жил он в городе. Может быть, он был прикован к постели? Я наводил справки, но мои шпионы всегда приносили мне совершенно неинтересные сведения. Женщина была гадалкой, в возрасте, и вдовой. Мужчина, к которому она писала – повизгивая пером по дешевой бумаге, – оказался доктором, работавшим временно и в незначительной должности в местном консульстве. Он не был прикован к постели; но он был гомосексуалист и тихо копался в герметической философии, столь модной в наши дни. Однажды она оставила необычайно четкий отпечаток на промокашке, и в зеркале – опять зеркала! – я смог прочитать: “моей жизни есть нечто вроде Незаживленного Места, как ты это называешь, и я пытаюсь заполнить его людьми, происшествиями, недугами, всем, что попадает под руку. Ты прав, когда говоришь, что это лишь жалкое подобие истинной жизни, более мудрой жизни. Однако, хотя я уважаю твою науку и твои знания, я чувствую, что, если мне и суждено когда-нибудь примириться с собой, я должна пробиться сквозь ошметки моей личности и спалить их дотла. Искусственным путем проблемы мои смог бы решить кто угодно – нужно только уткнуться в манишку к попу. Но мы, александрийцы, слишком горды для этого – и слишком уважаем веру. Это было бы нечестно по отношению к Богу, дорогой мой, и кого бы я еще ни подвела (я вижу, как ты улыбнулся), я решила ни в коем случае не подвести Его, кем бы он ни был”».
«Мне тогда подумалось: если я только что прочел отрывок из любовного письма, то такие любовные письма пишут, наверное, святым; и снова меня поразила, сквозь невнятицу и неумелость ее письма, та легкость, с какой она жонглировала идеями самого разного порядка. Я стал иначе смотреть на нее: как на человека, способного от избытка ложной смелости уничтожить себя самого и лишить себя права на счастье, а о счастье она, как и все мы, мечтала, и ради будущего счастья стоило жить. Подобные мысли привели к тому, что моя любовь к ней стала понемногу слабеть, иногда я даже замечал: она мне неприятна. Но вот что меня и в самом деле напугало – некоторое, весьма непродолжительное время спустя я, к ужасу своему, осознал: я не могу без нее жить. Я пытался. Я пробовал ненадолго уезжать. Но без нее жизнь моя становилась унизительно скучной, до невыносимости. Я влюбился. Сама эта мысль наполняла меня невыразимым отчаянием. Я вроде бы даже понимал подсознательно, что встретил в ней своего злого гения. Приехать в Александрию совершенно свободным ото всяческих привязанностей и встретить amor fati [47]47
Роковую любовь (лат.).
[Закрыть] – это было такое невезение, которое мое здоровье и мои нервы переносить отказывались. Глядя в зеркало, я напоминал себе, что мне уже перевалило за сорок и что на моих висках уже проглядывают седые волосы! Я даже подумывал прервать эту связь, но не мог же я не видеть, как с каждой улыбкой и с каждым поцелуем Жюстин терпят крах мои благие намерения. Но если я был с ней, тени толпились вокруг нас и властно вторгались в мою жизнь, наполняя ее новым звучанием. Чувство, столь противоречивое и богатое смыслами, было невозможно отменить единственным актом воли. Иногда она казалась мне женщиной, каждый поцелуй которой был – удар в ворота смерти. Я обнаружил, к примеру (как будто я этого не знал), что она постоянно мне изменяла, причем в то самое время, когда я чувствовал себя ближе к ней, чем когда бы то ни было, – и я не почувствовал ничего определенного, скорее это было похоже на внезапную атрофию чувств, как если бы я ушел, оставив в больнице друга, или шагнул в лифт и упал на шесть этажей вниз в полной тишине, стоя рядом с автоматом в униформе и слушая его дыхание. Тишина моей комнаты оглушала меня. Потом же, обдумав все как следует, старательно собравшись с мыслями, чтобы оценить происшедшее, я понял, что сделанное ею не имело до меня никакого касательства: то была попытка освободиться ради меня же – отдать мне то, что было моим по праву. Не могу сказать, чтобы я не различал во всем этом привкуса софистики. И тем не менее сердце мое, кажется, знало правду и диктовало мне тактичное молчание – и она ответила мне новой теплотой, новой страстью, страстью благодарности, примешанной к любви. И это снова меня оттолкнуло».
«Боже мой, но если бы вы видели ее, как видел я, в минуты простоты и смирения и помнили о том, что она всего лишь ребенок, вы бы не стали упрекать меня в трусости. Ранним утром, уснув в моих объятиях, с волосами, упавшими на улыбающийся рот, она не была похожа ни на одну другую женщину: она и вовсе не была похожа на женщину: но на некое чудесное существо, пойманное и застывшее в плейстоцене своей эволюции. А еще позже, думая о ней, – а думал я о ней постоянно, сколько бы лет ни прошло с тех пор – я с удивлением понял, что пусть я все еще люблю ее и пусть я знаю, что никогда не смогу полюбить другую женщину, меня передергивает от мысли: а вдруг она вернется. Два голоса говорили во мне разом, не мешая друг другу. Я думал с облегчением: “Прекрасно. Я наконец-то влюбился. Есть чем гордиться – и к этому мое alter ego добавляло: – Избави меня от мук любви и от Жюстин – орудия пыток”. Эта загадочная полярность чувств была для меня полной неожиданностью. Если это называть любовью, то во всяком случае я обнаружил некую странную разновидность всем известного растения, никогда мною прежде не виданную. (“Проклятие на это слово, – сказала однажды Жюстин. – Хотела бы я произносить его задом наперед, помнишь, ты рассказывал, что елизаветинцы поступали так со словом “Бог”. И тогда оно превратилось бы в составляющую слов “эволюция” и “бунт”. Никогда не применяй его ко мне” [48]48
Английское слово God (Бог), произнесенное наоборот, становится словом dog (пес). Любовь (love) превращается в evol, созвучное слову evil (зло) и часть слов evolution (эволюция, развитие) и revolt (бунт).
[Закрыть].)»
* * *
Последние отрывки я взял из раздела, названного в дневнике «Жизнь после смерти», – своеобразная авторская попытка суммировать и оценить происшедшее. Помбаль находит многое здесь банальным и даже скучным; но кто из нас, знакомых с Жюстин не понаслышке, смог бы избежать очарования этой книги? Кстати, небезынтересны и сам замысел автора, и некоторые высказанные им идеи. Он считает, например, что реальные люди могут существовать лишь в воображении художника, достаточно сильном, чтобы вместить их и придать им форму. «Жизнь, сырой материал, имеет быть прожита лишь in potentia [49]49
Потенциально, в возможности (лат.).
[Закрыть], пока художник не воплотит ее в своем произведении. Хотел бы я сослужить эту службу моей бедной Жюстин». (Я, конечно, оговорился – «Клодии».) «Я мечтаю о книге, достаточно сильной, чтобы вместить куски ее личности, – непохожей на книги, к каким мы привыкли сейчас. Примера для: на первой странице – выжимка сюжета в нескольких строках. Таким образом мы могли бы разделаться с повествовательной интонацией. А следом – драма, свободная от груза формы. Я дам моей книге волю мечтать и видеть сны».
Конечно же, от структуры, которую он считает навязанной извне, так просто не отделаешься, ведь на самом деле она органично растет вместе с произведением, внутри него и полностью ему соответствует. Чего не хватает его роману – это, однако, относится абсолютно ко всем вещам, не дотягивающим до первого разряда, – так это чувства игры. Он слишком рьяно набрасывается на свой материал; так рьяно, что его стиль волей-неволей подхватывает от Клодии заразу этакой истерической взвинченности. И вот результат – любой источник чувств для него равноценен; жест, сделанный Клодией среди олеандров Нуги, камин, в котором она спалила рукопись его романа о ней («Целыми днями она смотрела на меня так, словно пыталась прочесть во мне мою книгу»), маленькая комната на Рю Лепсиус… Он говорит о своих персонажах: «Все они связаны временем, а время отнюдь не есть реальность, как бы нам того ни хотелось – оно существует как одно из условий, необходимых для работы. Ибо любая драма создает систему связей, и актер значим лишь в той мере, в которой он связан».
Но если оставить в стороне все эти оговорки, насколько полный очарования и насколько точный портрет Александрии удался ему – Александрии и ее женщин. Здесь есть наброски Леони, Габи, Дельфины – женщина бледно-розовая, золотистая, битумно-черная. Кое-кого можно узнать безо всяких усилий. Клеа все еще живет в своей студии на чердаке; ласточкино гнездо, сотканное из паутины и старых холстов, – он написал ее безошибочно. В большинстве же случаев всех этих александриек отличают от женщин других широт лишь пугающая честность и утрата веры в себя и в мир. Он в достаточной степени писатель, чтобы поселить эти качества не где-нибудь, а в городе Сомы. Можно ли ждать большего от чужака не без способностей, чуть ли не по ошибке пробуравившего черепаховый панцирь, стальной корпус сложного твоего механизма, Александрия, – чтобы найти себя.
Что же до самой Жюстин, то я лишь с большим трудом сумел отыскать кое-что, касающееся Арноти, в непролазных дебрях ее дневников. Несколько раз я натыкался на букву А, но чаще всего в отрывках, посвященных чистейшей воды самоанализу. Вот один из них – в данном случае идентификация вполне вероятна:
«Первое, что привлекло меня в А., – его комната. Мне всегда казалось, что за этими тяжелыми ставнями бродит некий беспокойный дух. Книги, разбросанные повсюду – обернутые в белую чертежную бумагу или в суперобложках, вывернутых наизнанку, – словно специально, чтобы скрыть названия. Кипы газет, искромсанных дырами, такое впечатление, что здесь пировали орды крыс, – А. делает вырезки из “реальной жизни”, как он называет эту абстракцию, столь далекую от его собственной жизни. Он садится за свои газеты как за обеденный стол, в залатанном халате и бархатных тапочках, и кромсает их вдоль и поперек парой тупых маникюрных ножниц. Он удивляется “реальности” мира за стенами его кельи, как ребенок; ведь, судя по всему, люди там могут быть счастливы, могут смеяться и рожать детей».
Несколько подобных отрывков – вот и все, что осталось от автора Moeurs; скудное вознаграждение за кропотливый и с любовью сделанный труд; я не смог отыскать ни слова о том, как они расстались после краткого своего и бесплодного брака. И все же интересно было порой натыкаться в его книге на те же суждения о ее характере, которым позже суждено было прийти в голову нам, Нессиму и мне. Удивительного согласия ей удалось ото всех нас добиться. Такое впечатление, что в ее присутствии мужчины совершенно независимо друг от друга сразу догадывались, что нет никакой возможности судить ее по привычным стандартам. Клеа сказала о ней однажды (а уж ее-то суждения никогда не страдали излишней сдержанностью): «Кто по-настоящему нужен мужчине, так это настоящая стерва – вроде Жюстин; только у нее получается задеть мужчину всерьез. Хотя, конечно, наша общая подруга – это всего лишь мелкотравчатая современная копия великих hetairae [50]50
Гетер (древнегреч.). (В оригинале использован латинский шрифт).
[Закрыть] прошлого, она принадлежит к тому же типу, хоть и не отдает себе в том отчета: Лаис, Харис и прочая компания… У Жюстин украли ее роль, и вдобавок ко всем бедам общество возложило на ее плечи груз вины и ответственности. Это печально. Она ведь истинная александрийка».
Клеа маленькая книжка Арноти тоже показалась пустой и страдающей ненужным стремлением все объяснить. «Это наша болезнь, – сказала она. – Мы пытаемся втиснуть вселенную в рамки компетенции психологии или философии. В конце концов, Жюстин невозможно оправдать или объяснить. Она просто и непостижимым образом есть, и нам придется смириться с этим, как с первородным грехом. Но обзывать ее нимфоманкой или пытаться разложить ее по Фрейду, мой дорогой, значит напрочь отсечь всю мифологию, – а в ней и нет ничего другого, в Жюстин. Как и все аморальные люди, она стоит где-то на грани между женщиной и богиней. Если бы наш мир был устроен так, как должно, в нем были бы храмы, способные дать ей прибежище и покой, которого она ищет. Храмы, где можно было бы с течением времени избавиться от проклятия, подобного тяготеющему над ней: не в пример этим дерьмовым монастырям, до отказа забитым прыщавыми католическими девственницами, соорудившими себе из гениталий велосипедные седла».
Она имела в виду главы, объединенные Арноти под заголовком «Проклятие» [51]51
В оригинале слово Check, слишком богатое значениями, существенно важными для понимания гностического и др. символических контекстов романа и всей тетралогии Даррелла, чтобы быть адекватно переведенным на русский язык. Вот некоторые из них: 1) препятствие, 2) проверка, 3) отметина, 4) шахматный шах, 5) потеря собакой следа и, в конце концов, просто чек – вспомните Мелиссу, выкупившую Дарли у «дьявола» Каподистриа, «наложившего лапу» также и на Жюстин (см. далее).
[Закрыть], где, как ему казалось, он нашел ключ к душевной нестабильности Жюстин. Может быть, все это и пустое, как считает Клеа, но раз уж каждую божью вещь стоит с самого начала подозревать в вероятности более чем одного истинного толкования, не будем пренебрегать и этим. Я и сам не слишком доверяю данной версии Жюстин, но до определенной степени она высвечивает ее манеру действовать – их бесконечные путешествия вдоль и поперек Европы. «В самом сердце страсти, – пишет он, добавляя в скобках, – (страсти, которая казалась ей самой легкодоступной формой человеческой одаренности), лежало проклятие – всерьез мешавшее ей чувствовать в полную силу, и я заметил его лишь долгие месяцы спустя. Оно тенью выросло между нами, и я увидел, или мне показалось, что я увидел, истинного врага того счастья, которого мы так ждали и от которого – мы это почувствовали – нас почему-то отлучили. Что это было?»
«Она сказала мне однажды ночью: мы лежали в огромной уродливой кровати, в чужой комнате, снятой за деньги, – мрачной прямоугольной комнате неясных франко-левантинских очертаний и тонов: лепнина на потолке – разлагающиеся заживо херувимы, покрытые язвами отпавшей штукатурки, гирлянды из виноградных листьев. Она сказала мне и оставила меня беситься от ревности, которую я все еще пытался скрыть, – и сама ревность была теперь совершенно иного свойства. Объектом ревности был мужчина, еще живой, но, несмотря на это, более не существующий. Фрейдисты, наверное, назвали бы это фоновой памятью о событиях ранней юности. Она была (и трудно было не заметить, сколь важным было для нее признание, – хотя бы по пролитым потокам слез; никогда, ни прежде, ни после той ночи, я не видел, чтобы она так рыдала), – она была изнасилована кем-то из родственников. Трудно удержаться от улыбки – до того банальна вся эта история. Понять, в каком возрасте все это случилось, было совершенно невозможно. И все-таки – и здесь, мне кажется, я проник в самую суть Проклятия: с тех самых пор она не могла получить удовольствия в постели, покуда не вспоминала о том случае и не проигрывала про себя с начала до конца все, что тогда произошло. Мы, ее любовники, могли дать ей лишь эрзац любви, ибо служили сменяющимся орудием воспоминания об одном и том же детском акте, – и любовь ее, подобно некой форме мастурбации, окрасилась во все цвета неврастении; она страдала от собственного анемического воображения, потому что полноценное обладание мужчиной во плоти было ей недоступно. Она не могла влюбиться так, как ей того хотелось, ибо ее источники наслаждения были спрятаны в сумеречных уголках жизни, давно уже ставшей для нее посторонней. Это было страшно интересно. Но что меня особенно позабавило, так это удар по моему мужскому самолюбию, который я незамедлительно почувствовал; как будто она только что покаялась мне в преднамеренной измене. Как?! Всякий раз, когда она лежала в моих объятиях, я не мог дать ей наслаждения, пока она сама не вспомнит о другом мужчине? Это означало, что в каком-то смысле я не мог ею обладать и никогда не обладал ею. Я был просто куклой. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я не могу не улыбнуться при воспоминании о том сдавленном голосе, которым я спросил ее – кто этот человек? где он теперь? (Интересно, что я собирался с ним сделать? Вызвать его на дуэль?) И тем не менее он был здесь, расположившись весьма недвусмысленно между Жюстин и мной; между Жюстин и светом солнца».









































