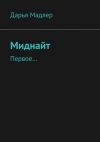Текст книги "Март, октябрь, Мальва"

Автор книги: Люба Макаревская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Where Is My Mind (лето/осень 2010-го)
В ИЮЛЕ, когда я пила коньяк в глубине и жаре летнего двора с незнакомым парнем и с останавливающимся от волнения сердцем восьмой раз за два часа позвонила Демьяну, на этот раз с телефона незнакомого парня, он сказал мне коротко и ясно, что мое поведение отдает шизофренией. Не могу сказать, что он был не прав, но я не могла это осознать в те минуты. Я поблагодарила незнакомого парня за коньяк и ушла от него, когда он попытался занять у меня двести рублей, потому что у меня их не было. Вечер перешел в летнюю ночь, и от алкоголя и томления мне казалось, что мозг взрывается. Я зашла в лифт, поднялась на последний этаж и подошла к окну, где год назад занималась сексом с человеком, уничтожившим мою психику. В голове у меня отчего звучала идиотская песня «Гостей из будущего»:
Я люблю тебя…
«Я больше не люблю тебя», –
Твои слезы мне вслед прокричали.
От тебя уйти без «прости».
Мне было больно оттого, что никто не может мне протянуть руку и я никому тоже не могу ее протянуть, а только порчу все. Демьян бросил трубку – и мой мир рухнул.
Повзрослев, люди часто смеются над потребностью любви в юности, над степенью ее важности. Но мне кажется, что в этой незащищенности и наивности есть какая-то первобытная беззащитность и что она истинная. Да, потом личность меняется под грузом взрослых проблем и ответственности, закаляется страданиями, но когда человек плачет оттого, что кто-то не смотрит на него или он не увидит объект любви два-три дня, он настоящий. Он оплакивает свое сиротство в мире, и нет еще этого металлического взрослого каркаса, скрывающего личность, как железная маска скрывает лицо.
Я спустилась на лифте на пятый этаж и позвонила в дверь, ее открыла мама, и Мальва встретила меня оглушительным приветственным лаем.
Каждое утро город застилал молочно-серый ядовитый туман, невыносимый запах гари надвигался отовсюду, и я просыпалась уже в коконе тошноты.
И все же каждый день я шла гулять с Мальвой, к концу июля она уже совсем превратилась в подростка, и все собачники района знали нас, и я часто слышала:
– О, это Мальва, она сумасшедшая.
Как и полагается молодой собаке, она правда была немного безумной в своей игривости, и когда ей очень нравилась какая-то другая собака (чаще всего собаки-мальчики), конечно, Мальва делала приветственный круг и так призывала играть объект своей симпатии. У нее был лучший друг – бигль, и вот вокруг него она пробегала бесконечное количество раз и в этом беге становилась похожей на гончую; набегавшись, она падала перед ним на спину и, отдышавшись, вскакивала, ударяла его лапой, возбужденно взвизгивала и снова убегала от него по кругу, он пытался ее догнать и никогда не успевал.
* * *
Мальва боялась громких звуков и потому несколько раз вытаскивала то меня, то маму на красный свет прямо на машины, и мы чудом оставались живы. В редкие же спокойные минуты это была самая милая собака на свете, она лежала у моих ног во дворе, пока я курила, грустила или думала, звонить или не звонить Демьяну. Тогда выходил наш пожилой сосед, смотрел на Мальву и говорил:
– О, это гениальная собака, она похожа на кенгуру.
Она и правда была похожа на кенгуру со своим желто-рыжим телом и длиннющими лапами.
А дома она топотала этими лапами, как гусь, когда бежала из комнаты на кухню за едой. И еще она была похожа на нескладного жирафа без пятен, так как шея у нее тоже вытянулась быстро и непропорционально, но больше всего она и правда была похожа на кенгуру и настоящего собачьего подростка, каким и была в те месяцы.
Конец июля был совсем огненным, я снова увидела Демьяна на митинге. Красно-оранжевый свет, дым от гари, между нами толпа молодых людей в черных масках, они кричат:
– Остановим вырубку леса! Это наш лес!
Мы с ним смотрим друг на друга. Я подхожу к нему и говорю что-то глупое от стеснения, затем произношу:
– Ну ладно, пока.
И он отвечает мне иронично:
– Пока.
Он позвонил мне через неделю, когда гарь уже начала уходить из города, его голос был спокойным и почти ласковым, он рассказывал о предстоящей поездке в Грузию.
Я слушала его и смотрела в окно на остывающий город. Мне было одновременно тревожно и хорошо.
Он говорил, что мы еще погуляем, когда он приедет из Грузии.
Ночью я написала ему глупое, почти любовное эсэмэс, и после этого он больше ни разу не взял трубку.
Наступила сухая пустота выжженного города. Каждый день Мальва бесилась в песке на собачьей площадке. А я корила себя за свою прямоту и избыточность.
Наступила осень, и я бродила все по тем же Чистым прудам с пустым желудком и болью в грудной клетке. Я отдавалась бесконечной тоске с упоением, в котором не решалась себе признаться. Я растворялась в чувстве голода и в поиске любви, в собственной пустоте. В дни, когда у меня было немного денег, я покупала чизбургер в «Макдоналдсе» на Маросейке или творожный сырок в «Дикси» на Покровке.
Я доходила до Лялиного переулка, где тогда жил Демьян, и тут же со стеснением и страхом быть замеченной возвращалась назад к прудам смотреть на зацветающую воду и уток.
Один раз вечером я видела его идущим откуда-то, и моя печаль и мой аффект как будто совсем не были связаны с ним. Это состояние было связано только со мной. С моим предельным одиночеством в мире тогда. В последующие годы мы будем видеться с ним на разных акциях протеста.
Иногда я напивалась, и большая пустая комната в сталинском доме на Тверской, где я выросла, начинала светиться всеми цветами радуги, и Мальва нависала над мной, как динозавр, когда я, пьяная, лежала и плакала под самую разную музыку, от Баха до Максим и Земфиры, оттого что Демьян, конечно, не берет трубку.
Часто мне снился сон: он стоит у стены в моей комнате, я подхожу к нему, обнимаю и пытаюсь поцеловать, и он растворяется.
В конце года из-за бесконечных финансовых проблем мы переехали с Тверской. Но этот сон еще несколько лет был со мной. Так растаял 2010 год. Остались я и Мальва.
2011–2012
Я СТОЮ на прудах, и постепенно робкий крик становится громким, общим, я вижу лицо молодого парня, стоящего рядом со мной, и восторг охватывает нас сквозь стеснение, и мы начинаем кричать вместе с ним уже громко, наравне со всеми. И в течение нескольких минут крик становится всеобщим. Уже совсем поздно вечером я вернулась с этого митинга домой страшно замерзшая, окоченевшая до самых костей и радостная. Я залезла в горячую ванну, и Мальва ломилась ко мне в дверь, как обычно: она любила лежать на полу, пока я принимала ванну, и дремать. Я открыла дверь, и она, как всегда, улеглась на пол в ванной комнате. Из-под крана лилась горячая вода, почти кипяток, и я вдруг почувствовала себя невероятно счастливой, мне казалось, что впереди только удивительные перемены, увлекательная борьба и целая бесконечно счастливая жизнь – необъятная.
И всегда после всех криков, протестов и белых лент дома меня встречала радостным лаем Мальва. И постепенно за два года у меня сформировалось стойкое чувство, что, где бы и с кем я ни была, в холод, в жару, когда я в депрессии или в любовной ломке, с любой вечеринки меня всегда ждет дома Мальва. Ее внимательный взгляд, мокрый нос, теплый живот и большие лапы, которыми она бьет по мне от радости просто видеть меня, разрывая колготки или царапая сумку, и я уклоняюсь от потока ее хаотичной, всегда по-детски страстной любви. Теплой, шерстистой и бескрайней. Но я всегда знаю, что она есть.
Письмо
ТО, ЧТО письмо – это персональный билет в другой мир, я знала хорошо с одиннадцати лет. И весной 2012 года я возвращала этот мир себе.
Помню, как в пасхальную ночь я валялась на полу одного бара на Патриарших с совершенно незнакомым парнем. И он спросил меня, чего бы я хотела от жизни, а поскольку я была уже очень пьяная, то честно ответила ему, что хотела бы быть гениальным писателем. Он сказал мне, что это процесс, а не результат, и спросил, чего я бы хотела в результате, я ответила, что это будет процесс и результат вместе. Теперь я, конечно, понимаю, что он был прав, письмо – это всегда только процесс и никогда результат.
Но в ту апрельскую ночь я лежала на полу бара и думала, что же такое есть письмо и что оно значит для меня?
И звезды от диско-шаров на потолке плясали и распадались на чистый свет, на целые вселенные.
Итак, звездное небо, черно-белое фото Плат и заляпанные грязью ботинки Ди Каприо в фильме «Полное затмение», фото Набокова, где на его лице видны все морщинки, и впервые прочитанные строчки Гинзберга: «Я видел лучшие умы своего поколения, разрушенные безумием» – или просто постоянный и страшный огонь внутри. Кошмарные сны, когда снится, что находишься в пространстве, где нет бумаги и ручки. Нет телефона или ноутбука, нет ни одного способа зафиксировать мысли. И ты мечешься во сне в этом замкнутом помещении, как наркоман, как человек, отключенный от своего главного топлива. Так я видела не письмо даже, а образ литературы в девятнадцать лет, и этот образ меня поражал.
И тогда я ужасно хотела ему соответствовать, и мои первые попытки этого соответствия кончились аутоагрессией и нервным срывом, внутри которого я начала слышать звук, мне наконец стали нравиться собственные тексты, но в двадцать я еще не до конца верила в свой голос, и потом была живопись, новые срывы – и вот теперь письмо возвращалось ко мне, и я его возвращала себе. Я фиксировала себя саму и мир вокруг с новой страстью. И кружение диско-шаров, и запах весенней листвы, и свой вечный разлом.
И письмо становилось для меня возвращением к себе живой и настоящей, попыткой наконец перестать бояться себя.
Так вначале бегут от своего отражения, а затем вынужденно снова и снова к нему возвращаются.
Когда утром мы с Мальвой гуляли во дворе, я смотрела на деревья, голый асфальт и первую траву, и буквы складывались в слова, предложения и смыслы – во все то, что было у меня внутри.
В мае мне удалили нижнюю восьмерку, и это стало каким-то переломным моментом: удаление было тяжелым, несколько дней я провела в кровати с распухшим лицом, и именно тогда я окончательно погрузилась в текст, я редактировала свою первую повесть, она целиком состояла для меня из солнечных лучей и песни Леонарда Коэна Suzanne.

Я проваливалась в язык, и все другое было мне неинтересно.
Именно из-за распухшего лица я не смогла пойти на Болотную площадь, а события там так драматично закончились для многих моих знакомых, и не знаю, было ли это совпадение счастливым или просто временно уберегающим.
И когда уже несколько дней спустя Мальва тянула меня на улице во время прогулки вперед или в сторону, каждое мое резкое движение отдавало в нижнюю челюсть.
Неделю спустя я встретила на концерте СПБЧ старую знакомую.
Живи там хорошо
Живи там хорошо
Живи там хорошо
Не возвращайся никогда
Я ору ей в уши, перекрикивая музыку:
– Я не была на Болотной из-за челюсти: она распухла, у меня было очень страшное лицо.
Она смеется и, тоже перекрикивая, –
Здесь жизни нет и не будет
Жизни нет и не будет
Жизни нет и не будет
Не возвращайся никогда
отвечает:
– Уродов там тоже хватало.
Упоительно и сладко обезболивающее кетанов мешается с алкоголем, она традиционно рассказывает мне про беспредел «космонавтов», и я не чувствую опасности, только какую-то почти преступную легкость оттого, что накануне ночью почти закончила свой текст.
Я снова слышу настойчивое и отчаянное:
Жизни нет и не будет
Не возвращайся никогда
Умом я знаю, что это так, но еще совсем не могу в это поверить. После концерта я, пьяная, иду по майскому городу и вижу пару: они занимаются сексом прямо у стены на выходе из Столешникова переулка, у нее лицо, как у кореянки, она исступленно обнимает его, нижняя часть одежды спущена у обоих, его лица я не вижу; несколько секунд я смотрю на них как зачарованная, а потом иду дальше, и город кажется мне свободным, и майский ветер ласкает мои голые ноги, и мне видится, что весь мир лежит перед мной и мерцает, просто потому что я могу писать.
И когда я возвращаюсь домой, то пишу до рассвета. Я не отрицаю себя и впервые в жизни не бегу от себя. А днем мы с Мальвой идем гулять в парк.
К лету Петровский парк, где мы всегда гуляли с Мальвой, стал похож на роскошные джунгли, и тексты начинали возникать в моей голове, пока мы с ней шли сквозь тенистые дорожки в самую глубь парка, блики зелени играли на ее золотистой шерсти и морде и на моих голых ногах, или когда она бесилась с другими собаками и потом лежала, счастливая и разморенная, на траве посреди парка и пыталась отдышаться, пока щенки лабрадора бегали вокруг нее, а я переглядывалась с хозяином девочки-щенка Чары, а та снова и снова прыгала на Мальву и звала ее играть.
Мне нравилось смотреть, как легко собаки умеют следовать потребностям своего тела, как они бесятся, когда им хочется, как опьяняются игрой с друг другом. Эта их способность восхищала меня.
Первое время, как только я начинала работать, Мальва очень сердилась, и стоило мне сесть за рабочий стол, она заходила мне за спину и лаяла, чтобы я повернулась к ней и снова всецело была ее, но позже, когда она поняла, что это нечто важное для меня, у нее появилась другая привычка.
Когда я садилась работать, она тихо плюхалась на пол рядом или запрыгивала на кровать, а потом какое-то время смотрела на меня внимательно, прежде чем провалиться в дремоту.
И я начинала слышать свой собственный голос, то робкий, то все более отчетливый и властный, – и он управлял мной уже как инстинкт.
Я поняла тогда, что:
я не умею писать ни о ком и ни о чем, кроме себя самой. Мир для меня – это шершавая пустота моего собственного языка и темнота внутри моего рта.
Затем язык снова терялся, как тонкая красная нитка. Год спустя я опубликовала свою первую повесть, до сих пор помню, в каком ужасе от нее были редакторы «Знамени», и в итоге она вышла на каком-то альтернативном молодежном ресурсе. И все же, что есть мой собственный голос и о чем он, я поняла намного позже. И что голос всегда растет из одиночества, его крайней точки. Зимой 2015 года, когда все друзья и знакомые отчего-то испарились. А я мучилась влюбленностью в одного кинокритика.
Я выходила гулять с Мальвой, и перед моими глазами возникал пустой снежный простор. В нашем дворе тогда были незаконченная застывшая стройка и огромный снежный пустырь. И покров снега на нем казался нетронутым, негородским. Я бросала Мальве ярко-оранжевый мяч, ее любимый, и она бежала за ним, летела, как комета, и возвращалась ко мне, я отбирала у нее мяч и опять бросала – и так снова и снова.
Я смотрела на этот нетронутый снег, словно загипнотизированная.
Я тогда читала Лакана о де Саде, о наслаждении другим, и отчего-то я видела, как сквозь снег проступают то страсть, то смерть, то голая кожа – ее ожог, то исчезновение. И мне хотелось растаять в этом снегу, стать им, его частью, как Русалочка Андерсена стала пеной морской. И сейчас, стоит мне закрыть глаза, я вижу перед собой снег и этот снежный пустырь, серое небо и Мальву вдалеке, свои холодные, замерзшие пальцы и оранжевый мяч. Именно тогда я поняла: что бы я ни написала, это всегда будет про снег.
19 января
– НЕТ фашизму всех мастей, от подворотен до властей, – крик разносится по Тверскому бульвару, скованному крещенским морозом, и я вижу Демьяна: на нем все то же черное пальто, он такой же сутулый, на секунду я вспоминаю то многое, что связывает меня с ним, как, затерянные в пространстве и времени, кажется уже в другой жизни, мы сидели с ним на пустой кухне со стенами цвета лосося, я отчетливо вспоминаю серый вытянутый свитер, который он носил тогда, и как мартовское солнце играло в окнах в тот день, когда я взяла Мальву. И группа митингующих разносит нас по разным сторонам бульвара.
Через мгновение это воспоминание гаснет, я вижу снег и лед под своими ногами и соединяюсь с общим криком: «Не забудем, не простим».
И уже после я думаю, что Москва – это город снега, кажется, что все его бульвары растут из снега, и улицы, и таблички домов с забытыми, ненайденными адресами репрессированных. Все места, куда я больше никогда не вернусь: здание школы, где я училась до сих пор (жалею, что оно не сгорело), дом, где я выросла, – все растет из вечного холода и северного ветра, и если мы теряем или находим друг друга в этом снежном пространстве, то это всегда только случайность.
Это было время полузаконных уличных пикетов, прогулок и белых лент.
Время надежд и обещаний самим себе, годы невиданной несанкционированной свободы. Хохот, бесконечные встречи у разных судов, объятья на вечеринках, общность, которая затем пропала навсегда.
Почти через год, снова увидевшись случайно после серии уличных пикетов у Государственной думы, мы шли с Демьяном по зимним переулкам предновогодней Тверской; не помню, о чем мы говорили, помню только, что улицы были пустыми и казалось, что, кроме свободы, ничего нет.
Потом был длинный Новый год, он уехал в Пхукет со своей девушкой, а я писала дома очередной бесконечный текст; вскоре все иллюзии исчезли, как навсегда исчезла та реальность.
МОЯ МЕРТВАЯ ЛЮБА ПОЗВОНИЛА МНЕ ПО МЕЖГОРОДУ ИЗ 1941 ГОДА С МЕСТА КАЗНИ В РУМБУЛЕ, НО СВЯЗЬ ТУТ ЖЕ ПРЕРВАЛАСЬ, А ТЕЛЕФОНИСТКА СКАЗАЛА ПО-РУССКИ:
– ВЫ ОШИБЛИСЬ АБОНЕНТОМ. ОШИБКА СВЯЗИ.
А ЗАТЕМ ДОБАВИЛА:
– ВЫ ОШИБЛИСЬ ВРЕМЕНЕМ. У НАС 1941 ГОД, А У ВАС В США 1491-Й.
БОРИС ЛУРЬЕ. ДОМ АНИТЫ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МЕНЯ НЕ РАССТРЕЛЯЛИ, И ВОТ Я СИЖУ В СТЫЛОМ ВАГОНЕ, И ПОЕЗД ИДЕТ КУДА-ТО.
МАРИЯ СТЕПАНОВА
Крокодил Вася
СО ВРЕМЕНЕМ я полюбила смотреть, как письмо оставляет след на лицах других пишущих. Словно любовь. Как оно оставляет в глазах особое напряжение и тайное знание, чаще всего грустное. В тот период круг моего общения расширился, я познакомилась с другими литераторами, и среди них был Глеб.
У него был детский затылок, он сидел и рисовал на одном из поэтических вечеров, а я сначала смотрела на его такой невозможно красивый затылок, а потом тоже стала рисовать на какой-то оторванной бумажке, он обернулся и показал мне нарисованное, а я ему в ответ свое, и мы засмеялись. Он нарисовал зубастого крокодила.
После вечера я подошла к нему и протянула руку для знакомства, он пожал мою руку и посмотрел мне в глаза, у него был мягкий и грустный взгляд, возможно чересчур осмысленный для молодого мужчины.
Я сразу почувствовала к нему сильное эмоциональное влечение. Чтобы представить Глеба, можно вообразить себе льва Бонифация из мультика с невозможной печалью на лице и очень-очень худого, а можно представить себе вечного героя Хармса, сдуваемого ветром, или ленивца. Он всегда много и очень смешно шутил над своим еврейским происхождением, вначале ставя меня в тупик. Как-то я рассказывала ему, что не осталась на вечеринку по случаю Шаббата, потому что боюсь оставаться на ночь в новых местах. А он посмотрел на меня серьезно и спокойно и ответил:
– Конечно, тем более когда кругом одни жиды.
Я растерялась, а он вдруг захохотал, и тогда я тоже засмеялась.
Позже, когда я показала ему фотографию Мальвы в своем телефоне, он долго смотрел на нее, а потом поставил свою оценку:
– Ну слушай, это собачья собака.
Как-то он пристраивал в своем «Фейсбуке»[3]3
Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена.
[Закрыть] похожую девочку-дворняжку и, конечно, назвал ее Геринг. Традиционно используя своей губительный юмор.
Это всегда было гомерически смешно и мрачно, как голый корешок «Дома Аниты» Лурье. Я читала эту книгу ночами, как одержимая, и тогда мне было почти жалко, что я не умерла в юности. И возлюбленную главного героя звали, как меня, Люба. И мне остро хотелось существовать внутри чьего-либо текста через трагедию, которую невозможно прервать.
Я еще не знала, что через несколько лет окажусь в пространстве, где звонок с места казни будет уже чуть ближе к реальности, чем самый страшный сон.
А тогда «Козлиная песнь» Вагинова и неподцензурная поэзия, по которой он когда-то писал диссертацию, дорога от Волхонки до «Библиотеки имени Ленина» в метель, вдруг ставшая такой длинной и сказочной. Я смотрела на его черные, как самая черная сажа, вьющиеся волосы и смеялась, мы могли бы вообразить себя героями позднесоветских фильмов, которые он так любил, французскими левыми или обэриутами.
Однако это была совсем другая реальность, которая только теперь кажется безмятежной.
Обсуждение скандала вокруг 54-й школы, постоянная исступленная пересборка внутренних и внешних границ. Такие частые бесконечные разговоры о насилии и гендере, сравнение поведения некоторых знакомых, близких и далеких, с делом Трушевского. Все художественное сообщество превратилось в минное поле признаний и их отрицания. Но правда для женщины в том, что изнасилованная – это всегда ты сама: и когда ты говоришь об этом, и когда ты отворачиваешься от этого разговора.
Иллюзорная герметичность, где бывшие любовники или насильник и жертва встречаются только в комментариях «Фейсбука»[4]4
Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена.
[Закрыть].
Мы так много говорили тогда и спорили о насилии, не думая и не подозревая, что однажды оно станет настолько тотальным, что уже не оставит пространства для дискуссии, и снег навсегда превратится из сказочного в тоталитарный.
Какая странная игра: друг присылает тебе фото Шаламова, а ты и не думаешь, что однажды оно будет про тебя или него.
Как быть, если сухой лист – это ты или я.
Телегин Николай Фомич
ДАТА РОЖДЕНИЯ 1903 год
ПРОФЕССИЯ / МЕСТО РАБОТЫ: нач. агропроизводственного управления Льноконоплеводтрактороцентра
ДАТА РАССТРЕЛА 12 марта 1933 года
Ильинская Софья Александровна
ДАТА РОЖДЕНИЯ 1900 год
ПРОФЕССИЯ / МЕСТО РАБОТЫ: пенсионерка
ДАТА РАССТРЕЛА 7 апреля 1942 года
Металликова Бронислава Соломоновна
ДАТА РОЖДЕНИЯ 1910 год
ПРОФЕССИЯ / МЕСТО РАБОТЫ: научный сотрудник НИИ эндокринологии Наркомата здравоохранения РСФСР
ДАТА РАССТРЕЛА 13 октября 1941 года
Мы еще могли встречаться у Соловецкого камня и читать имена, как непричастные. И весь звук вокруг оборачивался в непрерывный гул: «Расстрелян», «Расстреляна». Можно уничтожить память, имя, тело наконец. Вечность – это путь холода, но, возможно, должно существовать пространство, где отнятые, забытые, стертые имена возвращаются к своим владельцам.
Мы тогда могли верить, что да, это пространство возможно, как возможны скорбь и уважение, даже когда ничего отменить уже нельзя.
Прикрываешь глаза – и вот уже это ты едешь в стылом вагоне туда, откуда никогда не вернешься, и просыпаешься или не просыпаешься. И только мелкий снег гуляет над «Детским миром» и Лубянкой, над забытыми и помнящими. Над остатками нашего детства в дырявых карманах.
После встреч с ним в библиотеках или на выставках я возвращалась домой, читала или писала. Меня жутко тянуло к нему, но он не отвечал на мои чувства, у него была девушка, яростная и прекрасная, как огонь, но в этом приятельстве между мной и ним было очень много тайной теплой нежности.
Как-то в феврале он спас меня на Бауманской на переходе к Елоховской церкви, когда мы шли и болтали, и я совсем забылась, а он за ворот пуховика утянул меня прямо из-под колес машины.
Почему-то были еще бесконечные поездки в метро – и то мы оказывались там вдвоем, и оба немного смущались, и сквозь смущение я, как завороженная, смотрела на него, то с нами ездил его друг психоаналитик, и мы ужасно много смеялись втроем и говорили, говорили: то о Лакане, то о новой этике, то о поп-музыке, то о кино и смерти – об всем на свете.
Позже этот его друг будет вынужден уехать, и имена почти всех друзей – и моих, и его – превратятся в грустную игру, в считалочку-вычиталочку.
Но тогда мы могли не думать, какую цену мы заплатим за нашу интеллектуально невротическую молодость.
И эскалатор на всех станциях серебрился, как змеиная кожа на солнце.
Вместе с Глебом мы сделали выставку безумных рисунков против закона о домашнем насилии, и на ней были вагины, динозавры, академик Сахаров и все звери на свете.
А летом он специально для меня нарисовал ярко-зеленого крокодила и подарил мне рисунок. Я назвала его Вася.
В солнечный летний вечер во дворе Некрасовской библиотеки мы стояли с ним и Никитой, с которым я только что познакомилась, и обсуждали психиатров: кто какую книжку подарил своему лечащему врачу. Никита гордо сказал:
– После сумасшедшего дома я подарил своему Ницше.
Глеб ответил:
– А я своему Набокова.
Я произнесла:
– А я ничего, я не лежала в сумасшедшем доме, но это, конечно, чистая случайность.
Но лучше всего я помню эти бесконечные поездки в метро, и тот поход от Волхонки до «Библиотеки имени Ленина», и как летел снег, а я смотрела на его черные волосы, а он смеялся, как школьник. Позже, когда я влюблюсь снова, страшно и сильно и на этот раз взаимно, и мы будем сидеть с ним и нашей приятельницей в ночном кафе с неоновой вывеской и дешевой китайской едой, он снова будет шутить в духе радикального национализма и говорить мне:
– Ты русская, на тебе ответственность.
А я буду хохотать и отвечу ему:
– Я всегда влюбляюсь только в евреев или армян, таких как ты.
Декабрь, и вот я смотрю на очень старую открытку: я украла ее из одного бара ровно десять лет назад, – и вспоминаю, как совсем случайно в тот вечер познакомилась на какой-то презентации с девушкой-сценаристкой. У нее были длинные светлые волосы, и она была сильно не в себе. Как и я. Тогда мы обе страдали от несчастной любви, и она говорила:
– Не рассказывай, а то я буду плакать.
А я отвечала ей:
– Нет, ты не рассказывай, а то я буду.
И как потом мы с ней пошли по барам. И конечно, рассказали друг другу все. Были снег, коньяк, несколько такси за ночь, вереница каких-то мужчин, среди них был один известный актер. А я смотрела только на нее. И она то плакала, то смеялась. В течение одной минуты она успевала и то и другое, и я с восхищением думала шаблонное: вот она, настоящая героиня Достоевского. Почему-то моя память часто и настойчиво воспроизводит тот бесконечный вечер и ночь. И время раздваивается, теряется, усиливается, стирается наконец. И вот я понимаю, что прошло ровно десять лет и времени нет, потому что изменилось все и не изменилось ничего.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?