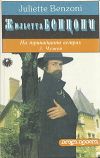Читать книгу "Не говори, что у нас ничего нет"

Автор книги: Мадлен Тьен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Вот какой был Воробушек, он тоже хотел существовать в музыке. Когда я была маленькая, он слушал свои тайные записи только по ночам, днем – никогда. В деревне, где я выросла, ночное небо было как вечность.
– Но как можно запретить музыку, Ай Мин?
Сама идея была такой дикой, что я чуть не засмеялась.
Ай Мин поморщилась при взгляде на раковину, посуды в которой как будто стало даже больше, а не меньше, взяла полотенце и решительно отодвинула меня в сторону. Она пустила холодную воду и принялась перемывать посуду.
Много ночей подряд, сказала Ай Мин, оставив мой вопрос без внимания, она просыпалась от отцовской музыки. Воробушек, неспешно продолжала она, был из самых известных шанхайских композиторов. Но после того, как в 1966-м Консерваторию закрыли и уничтожили все пятьсот роялей, Воробушек двадцать лет работал на заводе, где делали деревянные ящики, потом проволоку, а потом радиоприемники. Ай Мин замечала, как он, когда думает, что никто его не слышит, напевает без слов обрывки музыки. В конце концов она поняла, что эти обрывки – все, что осталось от его собственных симфоний, квартетов и прочих музыкальных произведений. Все рукописи были уничтожены.
Ай Мин могла проснуться от Шостаковича, Баха или Прокофьева; всех их она знала, но их музыкой не интересовалась. Она ерзала рядом с храпящей грудой бабкиного тела и надеялась, что Большая Матушка Нож проснется; в полусне та говорила такое, что Ай Мин слышать не полагалось.
– Я покоя ей не давала, – поведала мне Ай Мин. – Чтобы ее разбудить, я, бывало, громко пела “Юность жизни как цветок”, которая, кстати, тоже тогда была запрещена. Бабушка меня случайно научила, и я умела идеально изображать ее саму.
По моей просьбе Ай Мин это продемонстрировала. Большая Матушка Нож, с нежными ручками и плечами борца, с хрупким, но все же звучным альтом, завитые волосы – как ватный шарик, встала у меня перед глазами как живая: о родина любимая моя, когда же я паду в твои объятья?
По большей части, просыпаясь по ночам, Большая Матушка сердито бранила внучку и вновь проваливалась в сон. Но время от времени она смягчалась.
– Мои рассказы для тебя слишком старые, – говаривала она. – У тебя мозгов не хватает их понять.
– Может, это ты их плохо рассказываешь.
– Мои рассказы слишком длинные. Тебе терпения не хватит. Поди лучше поиграй в грязи.
– У меня терпения побольше твоего.
– Злобное дитя!
В такие моменты Ай Мин знала, что отец подслушивает. Она слышала, как он давится приглушенным смехом. Запах его табака скользил над ними, словно он сидел прямо за стеной.
– Я полагала, – сказала мне Ай Мин, – что, когда рассказы Большой Матушки закончатся, жизнь пойдет своим чередом и я снова стану собой. Но это была неправда. Рассказы становились все длиннее и длиннее, а я делалась все меньше и меньше. Когда я это сказала бабушке, та чуть не лопнула со смеху. И ответила мне: “Но ведь так устроен мир, разве нет? Или ты что, думала, что больше целого света?” Еще она спрашивала: “Ну что, готова? Следующая история будет такая длинная, что ты забудешь, что вообще на свет родилась”.
“Большая Матушка, скорее!”
“Ну так слушай: однажды вечером молодой человек с карманами, полными стихов, услышал в чайной «Новый Свет», как поет Завиток. Бедняга пришел туда впервые в жизни и влюбился в нее. Ну, а кто бы в нее не влюбился? – произнесла Большая Матушка. Почему ее голос так дрожал? Она что, плакала? – Никто ничего не мог с этим поделать. Так тогда все было устроено”.
Вэнь Мечтатель, начинающий поэт, родился в деревне Биньпай, в зажиточном семействе с непростой историей. В 1872 году его дед был удостоен великой чести: императорский двор избрал его одним из ста двадцати детей, которых отправили учиться в Америку. Его семья все продала, лишь бы оплатить мальчику эту поездку. Удача им улыбнулась, поскольку всего десять лет спустя их восхитительный сын, теперь прозванный “Старым Западом”, отплыл домой – пожив по соседству с Марком Твеном, поучившись в Йельском университете и получив диплом в области гражданского строительства.
Но, проведя десять лет в Шанхайской оружейной, Старый Запад внезапно скончался от чахотки, оставив по себе вдову и новорожденную дочь – и еще десять неотбытых лет квалифицированного труда, что задолжал Императору. Это была катастрофа. Отец Старого Запада выплакал себе все глаза и призывал погибель на свою голову. Оставшиеся четыре сына, решительно настроенные показать, чего они стоят, сплотились вместе. За пару десятков лет братья приобрели дюжину акров земли, включая яблоневые сады и завидный кирпичный дом, и стали одними из богатейших людей Биньпая.
Тем временем дочь Старого Запада выросла в ужасе от отцовских книг, словно те переносили заразу, способную уничтожить деревню. Маленький Запад упаковала книги в ящики и все их закопала. Единственный сын, появившийся на свет сильно после того, как она уже успела отчаяться родить ребенка, стал смыслом ее жизни, и она надеялась, что он вырастет достойным землевладельцем, как двоюродные деды. Но вместо этого мальчик помешался на поэзии. Он был ходячая тележка с книгами – сидел за партой, с кистью для каллиграфии в руке, и таращился в потолок так, словно ждал, чтобы слова его поглотили. Спальня его как будто плавала, оторванная от земли, над осязаемым миром сделок, торговли и земли. Мать звала его, порой нежно, а порой сердито, Вэнем Мечтателем. Он был наблюдательным, чувствительным подростком, и когда война пришла – она его сломала.
В сорок девятом, когда бои закончились, Маленький Запад отправила его в Шанхай в надежде на то, что это вернет ему волю к жизни. Карманы у него все до единого отяжелели от книг. Когда по дороге ему встречались знакомые, Вэнь говорил, что не может останавливаться обсуждать коммунистов, националистов, Сталина, Трумэна или погоду, потому что сочиняет в уме восьмистрочное рифмованное стихотворение на шесть иероглифов и любое отклонение в его пути нарушит расположение слов. Он врал. На самом деле поэзии в нем не осталось, а слов он боялся. В войну Биньпай накрыл самый страшный голод за сотню лет, но сам Вэнь никогда не знал голода. Он сидел у себя в кабинете и учил наизусть стихи, современные и старинные, в то время как снаружи матери продавали детей, а совсем еще мальчишки гибли на передовой кошмарными смертями. Половина Биньпая умерла с голоду, но помещики, наследники словно бы безграничных запасов, выжили. Теперь же шанхайские книжники толковали о новом роде поэзии, революционной литературе, достойной перерожденной нации, и эта идея казалась Вэню и трогательной, и тревожной. Мог ли авангард выразить идеи, о которых не говорили вслух, мог ли он противостоять лицемерию его собственной и подобных ей жизней? Он не знал. Когда один революционный журнал вернул ему стихи с отказом, на странице было намалевано толстой кистью: “Каллиграфия превосходная. Но твои стихи все еще дремлют в пасторальной темнице. Луна там, ветер сям, и кому какое дело до твоего гребаного деда?! Проснись!!!”
Он знал, что они правы. Вэнь оставил себе письмо с отказом и выбросил стихи. Он вспомнил Бертольда Брехта:
Я хотел бы быть мудрецом.
В древних книгах написано, что такое мудрость.
Отстраняться от мирских битв и провести свой краткий век,
Не зная страха.
Обойтись без насилья.
За зло платить добром.
Не воплотить желанья свои, но о них позабыть.
Вот что считается мудрым.
На все это я неспособен.[1]1
Перевод Б. Слуцкого.
[Закрыть]
Случайно он забрел в чайную “Новый Свет”. Там пела молодая женщина, и Вэнь Мечтатель, сбитый с толку и зачарованный, слушал ее пять часов подряд. После он хотел с ней заговорить, отметить суровую красоту ее музыки – но какими словами? Музыка девушки содержала и поэзию, и писаное слово, и все же уносилась куда как дальше этих границ в иную обитель, в молчание, что он прежде полагал невыразимым. Вэнь хотел ее окликнуть, но вместо этого смотрел, как она в одиночку уходит вверх по лестнице. Ничто не сдвинулось с места, мир был все тот же, и все же по пути домой Вэню казалось, что его жизнь переломилась надвое. Он долго стоял, глядя на маслянистую от грязи бессонную реку, от которой в темноте остались одни только звуки, и гадал, что же переменилось.
Жаркой и влажной августовской ночью Завиток, делившая жилище с тремя вдовушками, получила посылку. В посылке содержалась единственная тетрадка: в форме крошечной двери, переплетенная на хлопковую нить коричневого цвета. Ни марки, ни обратного адреса, ни пояснительного письма, только ее имя, выведенное на конверте квадратными, но все же трогательными иероглифами. Она уселась было за ужин, состоявший из подсоленной репы, но тетрадь, лежавшая рядом, так и манила. Завиток открыла ее на первой странице и принялась читать. Это была книга, переписанная от руки тушью. Она много лет уже не читала книг и сперва ничего не поняла.
Страница за страницей ее забитая хламом одинокая комнатка растворялась; Завиток вдохнула пыльный воздух воображаемого Пекина, где правительство поставили на колени, старая вера была сплошь подорвана, и два друга, Да Вэй и Четвертое Мая, некогда во всех смыслах близкие, пришли к “десятому слову” – туда, где нарушаются клятвы и расходятся жизни. Когда тетрадка закончилась так же, как и началась – на полуфразе, – Завиток вновь достала конверт и от души его потрясла, надеясь, что выпадет еще один; но конверт был пуст. Она сидела на кровати во вновь притихшей комнате и утешалась, перекладывая отрывок из повести на музыку. Когда она пропела слова, те обрели еще одну, новую жизнь и заполнили комнату возможностью. Вдовушки-соседки забарабанили в стены и заорали, чтобы она вела себя потише.
Несколько дней спустя прибыла вторая глава. Зачем бы кому-то преследовать ее по почте? На следующую неделю пришли третья и четвертая. Роман продолжался, следуя сперва за Да Вэем, а затем за Четвертым Мая по пути через лежащий в развалинах Китай. Повествование петляло и перескакивало, словно из него были выдраны целые страницы или главы; но и Завитка саму война выдрала из почвы с корнем, и ей не составляло труда самой заполнять пустоты. Мало-помалу ее раздражение уступило место узнаванию и, медленно, втайне от нее самой, привязанности.
На поверхности история эта была обыкновенной эпопеей – хроникой падения империи, но заключенные в книгу люди напоминали ей о тех, кого она старалась забыть: о братьях и о родителях, о погибших сыне и муже. О людях, которых, против их воли, война толкнула на край пропасти. Она читала четвертую, девятую и двенадцатую тетради так, словно чтение могло приковать персонажей к страницам. Конечно же, она была всего лишь зрителем; один за одним они срывались с обрыва в море и исчезали из виду. Были там и такие душераздирающие моменты, что ей хотелось захлопнуть книгу и зажмуриться, только бы не видеть этих образов – но все же роман настойчиво тянул ее вперед, словно от того, забудет ли она прошлое и мертвецов, зависело само его существование. Но что, если автором романа был кто-то, кого она знала? Все ее родственники были певцы, артисты и рассказчики. Что, если они каким-то образом выжили – или прожили достаточно долго, чтобы сочинить этот выдуманный мир? Эти иррациональные мысли ее пугали, словно ее вновь соблазняли вернуться в скорбь большую, нежели весь мир и вся реальность вообще. Что, если тетради приходили от ее покойного мужа, убитого в начале войны солдата-националиста, а письма потерялись в общем хаосе и только теперь начали прибывать? Завиток слыхала, что такое случается – в четвертом веке на Северо-Западе Китая потеряли мешок почты, а воздух пустыни его сохранил. Тринадцать веков спустя венгерский путешественник нашел эти письма в обрушившейся сторожевой башне. Но это были все равно что сказки. Завиток отчитала себя за фантазии.
Посылки приходили вечерами, по воскресеньям или по четвергам, когда она была занята в чайной внизу, исполняя “Грезу Западного крыла”. Может, автор был среди зрителей – или просто пользовался возможностью незаметно проскользнуть в чайную, оставив посылку у Завитка под дверью? Бессонными ночами Завиток жгла свечи, которые не могла позволить себе транжирить, и перечитывала тетради в поисках улик. Автор играл с именами Да Вэя и Четвертого Мая. Например, в первой тетради “вэй” писалось как 位, что означало “место” или “положение”. В третьей – как “вэй”, 卫, древнее царство не то в провинции Хэнань, не то в провинции Хэбэй. А в шестой тетради – как “вэй”, 危, другое название Тайваня – словно местонахождение автора было закодировано в самой книге.
В день, когда Завиток получила двадцать пятый блокнот, она встретилась с сестрой в парке Фусин.
– Не могу избавиться от чувства, что я его знаю, – сказала Завиток. – Но к чему такая тонкая игра и почему именно я получатель? Я же просто вдова без какого бы то ни было литературного вкуса.
– Так посылки до сих пор приходят? – не веря ушам своим, переспросила Большая Матушка. – Надо было тебе раньше мне рассказать. Это могут быть бандиты или политическая ловушка!
Завиток только рассмеялась.
– И пожалуйста, избавь меня от этой ереси про литературный вкус, – продолжала ее сестра. – Это все бред сивой кобылы и ерунда на постном масле. Кстати говоря, когда ты уже бросишь жить с этими злосчастными вдовушками и переедешь ко мне?
В их следующую встречу Завиток вовсе не упоминала роман. Речь о нем завела Большая Матушка, заявив, что такого рода сочинения – поддельный мир, в котором ее младшая сестра, если только не проявит осторожность, утратит свое телесное существование и вся обратится в томление и воздух.
Но Завиток слушала вполуха. Она думала о персонажах романа: Да Вэе, искателе приключений, и Четвертом Мая, ученой. Больше всего на свете они боялись не смерти, но краткости скудной жизни. В них она узнала те желания, что до сей поры в ней самой не находили себе выражения. Она улыбнулась сестре, не в силах скрыть грусть.
– Большая Матушка, – сказала она, – не принимай это так близко к сердцу. Это же всего лишь книга.
После тридцать первой тетради она ждала, как обычно. Но день шел за днем, неделя за неделей, а посылок больше не приходило.
Со временем холодное одиночество жизни Завитка вновь утвердилось на своем месте. Она ужинала напротив груды тетрадей, словно напротив притихшего друга.
Внизу же в изобилии плодились слухи.
Управляющий волновался, что с приходом к власти Председателя Мао чайные объявят буржуазными излишествами, певцов припишут к трудколлективам, а все тексты песен станут подцензурны. Хлебный Ломтик тревожился, что правительство запретит все игры, в том числе и шахматы. Завиток не впервые задумалась, не пора ли покинуть Шанхай; проезд до Гонконга ото дня ко дню становился все дороже. Но в билетной кассе она столкнулась с владельцем Библиотеки богов, прогуливавшимся со своим какаду. Забывшись, она упомянула таинственные тетради. Книготорговец поддразнил ее и сказал, что у нее в окрестностях есть брат-близнец – поэт-неудачник, известный как Вэнь Мечтатель, бродил туда-сюда в поисках списка той самой книги.
– Спроси-ка у Старой Кошки в книжной лавке “Опасные высоты”. По набережной Сучжоухэ, – посоветовал он. – Третий переулок вниз по течению. Она всюду нос свой совала.
Завиток его поблагодарила. Она доехала до книжной лавки на трамвае, думая, что купит остаток романа и увезет его с собой в Гонконг. Книжная лавка “Опасные высоты” размещалась в одном из флигелей приземистого домика с внутренним двором, и книги стояли в три ряда от пола до потолка. В отделе художественной литературы Завиток взобралась на стремянку и принялась просматривать полки. Но, не зная ни автора, ни заглавия, искала она тщетно. Тем временем прибывал уверенный поток посетителей – молодых людей и девушек, оглядывавшихся на все стороны, словно в поисках чего-то оброненного. Один из них подошел к продавщице и принялся быстро что-то шептать. Его оттолкнул старичок в пиджаке западного покроя поверх темно-синей одежды.
– Готово? – между приступами сухого кашля выговорил он.
Старая Кошка, которая вовсе не выглядела такой уж старой, вручила ему стопку размноженных на мимеографе листов. С высоты Завитку было видно, что это копия “Доктора Фауста” в переводе Го Можо.
Губы Старичка задрожали.
– Но как же вторая часть?!
– Тут вам не завод, – заявила Старая Кошка, шлепнув на прилавок леденец от кашля. – Приходите на следующей неделе.
Остальным нужны были зарубежные романы, труды философов, экономистов и ядерных физиков. Пока у Завитка копились вопросы, Старая Кошка почти не смотрела наверх. Сама она тем временем текучим почерком переписывала бесконечные страницы. Судя по всему, мимеограф нуждался в замене детали – каковая могла вовсе не состояться.
Когда Завиток слезла со своей стремянки и осведомилась насчет Да Вэя и Четвертого Мая, книготорговка пробурчала:
– Ну вот, опять.
Каждое утро Завиток теперь приходила в книжную лавку; внутри было спокойно, а полки ломились от сокровищ. Вне всякого сомнения, другая повесть могла послужить той же цели и вырвать ее из одиночества. Она забывалась в путеводителях по Парижу и Нью-Йорку, воображая путешествие, что привело бы ее на далекий Запад.
Старая Кошка за своим столом редко поднимала глаза; двигалась только шариковая ручка, прилежно скользившая вверх-вниз по листу – так что казалось, что это именно ручка дарит советы, сведения и поддержку. Чтобы страницы не разлетелись, их прижимал бестселлер – “Бедняки берутся за ружье во имя революции”.
Через несколько недель после того, как установилось ее новое расписание, Завиток увидела, что на столе пристроена новая бумажная башня – словно прошлая стопка привлекла к себе обожателя. Затем ее взгляду поочередно предстали: чистое серое пальто с обтянутыми тканью пуговицами, полный карман бумаг и, наконец, гладкие, в чернильных пятнах руки. Она взглянула еще – и увидела молодого человека с волнистыми волосами, что глядел на нее со смущенным узнаванием.
– Вэнь Мечтатель, – сказала она.
– Госпожа Завиток, – отозвался он.
– Ну наконец-то, – сказала Старая Кошка. Ее ручка так и захлебывалась в волнах страницы.
Рукопись юноши грозила вот-вот упасть, и он придержал ее кончиками пальцев правой руки. Завиток слезла со стремянки и бесстыдно уставилась на верхнюю страницу, изучая аккуратные столбцы слов, спокойно-страстный каллиграфический почерк, что описывал обреченный роман между Четвертым Мая и Да Вэем. Ей хотелось подхватить рукопись в объятия, вновь присоединиться к Четвертому Мая в поезде на Хух-Хото, подглядывая сквозь покрытые коркой пыли окна за тем, как возлюбленный ее курит на платформе; и через неделю, и через месяц, и целую жизнь спустя он был бы там, попроси она его об этом. Не мое, осознала она, влюбляться в того, кто будет ждать. Полсвободы мне всегда будет мало.
– Разрешите? – спросила она, кивая на рукопись.
Кончики пальцев юноши не сдвинулись со страниц.
– Боюсь, – сказал он, – к несчастью, по моей небрежности…
Он совершенно не походил на ее мужа. Так вот кто был автор, таинственный отправитель посылок. Вэнь Мечтатель был худ и бледен, в то время как военная форма националистов на ее муже едва не лопалась по швам. Завиток покраснела.
– Простите, – снова начал он. – Я боюсь, что эта рукопись – другая история. Другого писателя.
– И все же она ваша.
– Да, – сказал он. – Нет. Что ж, понимаете, почерк мой.
Она подошла к нему чуть ближе. Почти-почти…
– Хватит отсиживаться в кустах, – сказала Старая Кошка. Ручка приподнялась и указала кончиком на Завитка. – Если вы, барышня, ищете создателя Да Вэя, то флаг вам в руки! Я вас первая поздравлю, когда вы его найдете, а ему, конечно, предложу щедрое вознаграждение, отличные условия и все такое. Но местонахождение автора – такая же загадка для бедняги Вэня, как и для вас. При всем при том, если вам нужен кто-то, кто перепишет ваши письма или будет вести за вас переписку, то что ж! Не найдете ни руки точнее, ни сердца добрей.
– Я везде искал окончание романа, – сказал Вэнь Мечтатель. – Должно быть по меньшей мере еще пятьсот страниц. Может, больше. Я думаю, он называется “Книга записей”.
– Но вы… – начала было Завиток. Она не отводила взгляда от рукописи, которая казалась плотной и безупречной.
– Я переписал для вас книгу, потому что надеялся… Я хотел…
Завиток знала, что нужно прекратить этот разговор. И все же она не могла заставить себя отойти от стола.
– Я хотел, чтобы повесть доставила вам удовольствие. Старая Кошка говорит правду, слова – не мои, – он сомкнул и стиснул хрупкие руки. – Я послал первые главы до того, как закончил переписывать рукопись. Когда я понял, что произошло, что книга заканчивается в буквальном смысле на полуфразе, я попытался дописать главы сам. Я пытался закончить историю, но…
– Тебе не хватило дарования, – сказала Старая Кошка.
Его хрупкость обрела какой-то скорбный оттенок. Но все же он не дрогнул и не отступил; он стоял очень неподвижно и не сводил с Завитка глаз.
– Может быть, когда-нибудь…
– Извините, – сказала Завиток, отступая.
Ей было стыдно, но она никак не могла сообразить почему, принадлежит ли это чувство ему или ей. Она развернулась, подошла к двери и ухитрилась ее открыть. Свежий воздух наполнил ее легкие, и отовсюду до нее донесся шелест страниц.
– Вы подивитесь, как мало людей способны рассказать историю, – говорила Старая Кошка. Голос ее звучал хрипловато и успокаивающе, как катящаяся галька. – И все же эти новые императоры хотят их запретить, сжечь, всех до единого вычеркнуть. Они что, не знают, как это трудно – урвать себе чуточку удовольствия? Или, может, как раз знают. Хитрые козлы.
– Не позволите ли мне проводить вас до дома? – спросил Вэнь Мечтатель.
Ветер словно втолкнул ее назад и развернул вокруг собственной оси. Но стоило ей оказаться к нему лицом, стоило увидеть его внимательные, полные надежды глаза, как слова ее покинули. Она открыла рот и снова его закрыла.
– О небеса, что за интрига! – сказала Старая Кошка.
Наконец, словно и в этом был повинен ветер, Завиток кивнула Вэню в ответ.
– Если вам так будет угодно.
Вэнь Мечтатель очутился рядом, он придерживал дверь, и она вышла.
Повсюду падали листья. Вскоре обещала прийти зима, с ватниками и вязаными варежками, и с первыми заморозками Вэнь Мечтатель начал носить ей шарфы и шерстяные носки, банки меда и романы, которые переписывал от руки своим сдержанным, но тем не менее страстным почерком.
Зима была к Вэню добра. Его худоба превратилась в изящную жесткость. Девушки и их матушки, развешивая в переулках стираное белье, любовались вытянутым вопросительным знаком его силуэта, когда Вэнь бежал вприпрыжку по скользким улочкам – к чайной, где пела Завиток. “Не спеши ты так! – кричали ему соседи. – Слова перемешаются!” Он все еще понятия не имел, как говорить о новом политическом устройстве, различных фракциях и собственных идеалах; мысли его полнились стихотворными строками, он записывал их и выбрасывал. Он писал и писал, и сжигал листы. Он ждал.
“Почтовый голубь”, – звали они его.
И все же из настойчивого любопытства Завиток взялась подходить к читавшим в чайных незнакомцам, чтобы осведомиться: не знакомы или они с Да Вэем? Не случалось ли им, часом, посетить пустыню Такла-Макан и впечатлиться изобретательностью, с которой он слал возлюбленной личные послания по радио, хоть их и слушали десятки тысяч человек? “На виду спрятано, – ответила одна хорошо одетая дама. – Но нет, об этом чертяке я никогда не слышала”. “А вы уверены, что это местный писатель? – спросил некий поэт. – Тут все гроша ломаного не стоят. Должно быть, это перевод иностранной книги”. Один университетский студент был убежден, что книга списана с романа Лао Шэ, другой – что это больше похоже на современный пересказ “Записей о забытых событиях” или “Поразительного” Ли Мэнчу. “И вообще, не тратьте времени на романы, – сказал ей кто-то. – Сейчас самое время читать того новомодного поэта из Чэнду, который еще оружие коллекционирует. Хотя, в общем и целом, все, что хвалят в один голос, обычно нелепица и чепуха”.
Как-то вечером она вернулась к старым тетрадям, перечитывая их все с самого начала. В мерцании свечи она уверилась, что автор удалился в изгнание или, может, пережил некую трагедию. Быть может, ее ранило войной, вырвало из ее прежнего существования, и роман был теперь не более чем прерванной грезой. Или, возможно, как и муж Завитка, автор пал в бою, и до последних глав получилось бы добраться только в лучшем мире. Вэнь рассказал ей, что это автор, а не он, записал имена главных героев – Да Вэя и Четвертого Мая – разными идеограммами. Вэнь тоже был убежден, что имена были частью шифра, след, по которому можно было пройти. Но куда? Завиток аккуратно обернула тетради в коричневую бумагу – следовало быть бдительной. В конце концов, Книга записей лишь отвлекала от реалий современной жизни. Это была всего лишь книга, так почему же она не давала ей покоя? Завиток открыла сундук и увидела вещи из собственного прошлого, исчезнувшие времена и прошлую себя. Стоило ей расслабиться, как она чуть ли не видела, как к ней ползет сын. Он тянул ее за платье, за кончики пальцев, и его восторг сжимал ей сердце, точно шнуром. Завиток родила его, когда ей было всего четырнадцать. Ночь его смерти была слишком темна, слишком ветрена, чтобы дитя путешествовало в иной мир в одиночку. Она хотела последовать за ним с края утеса в море, но Большая Матушка разрыдалась и молила Завитка не покидать ее.
Она не могла сомкнуть глаз и до утра лежала без сна.
Шторы очертил тусклый свет. Завиток услышала плач младенца, подошла к окну и, поглядев вниз, увидела, как семейная пара пытается всунуть ребенка в зимнее пальто, сперва руки, затем ноги, затем голову; младенец, развалясь, слабо отбивался, а затем сморщил личико и завыл – но пальтишко все равно отказывалось застегиваться. На проспекте появился Вэнь Мечтатель с торчащей из кармана пачкой листов. Он склонился над плачущим ребенком, как запятая, так что младенец, сбитый с толку, мгновенно прекратил рыдать, пальто застегнули, и маленькое семейство удалилось по своим трепетным делам.
Позже, тем же утром, когда она стояла рядом с Вэнем на улице Хуайхай и он отдавал дань памяти ее пропавшим без вести родителям и старшим братьям, погибшим мужу и любимому сыну, когда он испрашивал благословения ее старшей сестры, Завиток вдруг посетило ничем не замутненное воспоминание о собственном малыше. Он поскользнулся и выпал из трамвая на спину прямо на бетон. И ни царапины. Он засмеялся и спросил, можно ли ему повторить, а затем протянул хрупкую ручку и выхватил хлеб у Воробушка изо рта. Воробушек захлопнул рот, откусив пустой воздух, и его маленькое личико наполнилось замешательством.
На улице Хуайхай Вэнь просил ее стать его женой.
Завиток помнила, как тихо было в постели, когда она вдруг проснулась. Она взяла безупречную ручку сына – и серая скорбь словно переползла из его груди в ее, и в этот миг, когда она поняла, что ее дитя мертво, она вновь потеряла родителей, братьев и мужа. Не в силах перестать плакать, она отказывалась выпускать тело сына из рук. Но, мертвый, он закостенел и похолодел. Только Большой Матушке удалось наконец вынуть тело у нее из объятий.
– Госпожа Завиток, – говорил теперь Вэнь, пока мимо с пустыми сумками брели направлявшиеся за покупками горожане, – обещаю вам, что всю нашу совместную жизнь я буду искать слова, которые, возможно, никогда не встретились бы нам в нашей отдельности и одиночестве. Я не дам в обиду нашу семью. Я разделю вашу скорбь. Я свяжу свое счастье с вашим. Наша страна вот-вот явится на свет. Пусть же и у нас будет возможность начать все заново.
– Да, – сказала Завиток, словно слова его были молитвой. – Пусть.
3
Как-то раз Ай Мин сказала:
– Ма-ли, я не сомневаюсь, что я исчезла. Разве нет? Ты что, правда меня видишь?
Она подняла правую руку, затем левую – очень, очень медленно. Не будучи уверена, шутит она или нет, я повторила за ней, воображая, что отдана на милость ветра и меня влекут вперед и вертят по сторонам незримые силы.
– Я тоже невидимая, Ай Мин. Правда же?
Я затащила ее в ванную, и там мы уставились на свои отражения, словно они, а тем самым – и мы сами, были миражом. Только сейчас, задним числом, я думаю, что она воспринимала собственное исчезновение как нечто желательное. Что, возможно, ей нужно было наконец пожить не под слежкой.
Шел 1991 год, середина марта, и Ай Мин жила с нами уже три месяца. Мама теперь все время работала и взяла еще подработку, чтобы в будущем оплатить расходы Ай Мин. Я решила воспользоваться деньгами, подаренными мне на китайский Новый год – деньгами на счастье, – чтобы угостить Ай Мин ужином. План мой был сводить ее в любимый папин ресторан. Вечер, когда мы вышли из дому, был довольно теплым, и мы, держась за руки, шагали вдоль кустов на Восемнадцатой авеню, мимо покосившихся домов и нестриженых газонов, под цветущими вишнями, что наполняли ароматом даже самого прискорбного вида кварталы.
На Мэйн-стрит мы свернули на север. Я помню, что посреди тротуара лежала пожилая серая кошка – и не пошевелилась при нашем приближении, только вытянула подальше одну лапку и помахала хвостом. Ресторан словно выступил из теней, одетый в сотканную из света жилетку. Это было польское заведение под названием “Мазурка”. Внутри оказалось тепло и где-то на четверть зала народу, а еще там были белые салфетки и настоящие столовые приборы и чайные свечи в крошечных стаканчиках. Рядом с Ай Мин я чувствовала себя взрослой и повидавшей мир, форменной аристократкой. Она, в конце концов, была из Пекина, города, где в 1991 году жило 11 миллионов человек. Ай Мин объяснила мне закон больших чисел и различные методы построения математических доказательств, включая “доказательство без слов”, прибегавшее лишь к визуальным образам. Я восхищалась утверждениями вроде:
Если известен x, то также известен и y, так как…
или
Если из p следует q…
Летом 1989-го, еще в Пекине, Ай Мин выдержала вступительные экзамены в национальный университет. Вскоре после того ей предложили место на только что открывшейся кафедре компьютерных наук в Университете Цинхуа, самом престижном естественнонаучном университете Китая.
– Я должна была поехать, – сказала она мне. – Но как я могла?
Решение Ай Мин не поступать в Цинхуа, принципиальное, но безрассудное, теперь меня поражает. Но тогда, в одиннадцать лет, я сказала ей, что это было совершенно разумно.
За голубцами и варениками Ай Мин поведала мне, что благодарна за щедрость моей матери, но чувствует себя недостойной. При свете дня она ощущала себя уязвимой, боялась показаться на глаза, но ей нужно было быть мужественной и начать жизнь заново. Ай Мин сказала, что одиночество может переменить всю жизнь.