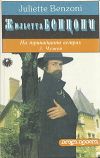Читать книгу "Не говори, что у нас ничего нет"

Автор книги: Мадлен Тьен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Партийцы прибыли в Биньпай как раз в тот день, когда Вэнь со своими дядюшками таскали лед с горного озера. То был тяжкий труд, но он того стоил – поскольку, если укрыть его соломой, лед мог храниться много месяцев, а применение ему всегда находилось.
Прежде дядюшки нанимали работников, но теперь предпочитали заниматься такой работой сами. В прошлом году, когда перераспределение земель докатилось и до Биньпая, братья не стали тратить время на споры. Бывали жребии и много горше, чем отказаться от нескольких акров земли. В соседнем уезде против дюжины человек устроили борьбу – что-то вроде большого митинга, на котором выкрикивали обвинения, а обвиняемых били и иногда пытали – и казнили их, но покойные были по большей части богачи, печально известные своей жестокостью. В прошлом году, когда делегаты от крестьянского союза Биньпая явились к их воротам, братья не стали противиться и отказались от прав собственности на все семнадцать акров семейных владений, которые теперь должны были перераспределить между жителями деревни. Допустим, жена Эр Гэ от него ушла, но у него еще оставалось двое взрослых детей. А Цзи Цзы грозился покончить с собой, но его слов никто не принимал всерьез. Тем временем жизнь продолжалась: пока земельная реформа не завершится, поля все равно следовало пахать, а за фруктовыми садами – ухаживать. В том году урожай сладких яблок выдался, на памяти братьев, самый обильный.
Когда тележка, жалобно скрипя, катилась к воротам, Вэнь с дядюшками с удивлением узрели, что снаружи стоят два незнакомца, а с ними председатель сельсовета, он же председатель крестьянского союза. Да Гэ вышел из-за глыбы льда. Он поприветствовал посетителей и пригласил их в дом, разделить трапезу. Председатель отказался. Все это было довольно неловко, и Да Гэ, всегда бывший нетерпеливым, сказал:
– Ну, если ничего срочного, то мы вернемся к работе. Лед ждать не будет.
Вмешался незнакомец, который до сих пор не представился. Внизу, в сельской школе, уведомил он их, идет митинг, а братья опаздывают.
Председатель шагнул вперед.
– Эти два учителя, – сказал он, указывая на чужаков, – пришли к нам из самого уездного комитета партии. И конечно же, зная, как значима ваша семья в Биньпае, не могли же мы начать митинг без вас.
Молчание во дворе, казалось, эхом отражалось от льда и кирпичей. И где вообще все? Ни Да Гэ, ни его братья вот уже почти шесть часов ничего не ели. И все же он вывел родичей и Вэня за ворота и пошел следом за чужаками и председателем.
В здании начальной школы Завитка с дочерью отогнали в сторону; там они и еще двадцать с чем-то человек стояли на коленях на холодной земле. Были там и жены дядюшек Вэня; их привели под стражей, и теперь они стояли на главном помосте. Толпа насчитывала уже не одну сотню человек, но на митинг прибывали все новые и новые люди. Жену Да Гэ постоянно лупили и пинали, пока она не взмолилась о пощаде. Суровая, не терпящая праздной болтовни женщина хорошо за пятьдесят была в совершенной истерике. Она скребла землю руками, точно пыталась отыскать во льду монетку.
Чжу Ли давно прекратила плакать. Она цеплялась за мать в полном молчании. Завиток не отваживалась попытаться ее успокоить. Когда доберусь домой, сказала она себе, согрею воды, намочу тряпочку и утру ее замерзшие слезы. Ничего страшного. Ничего такого, чего нельзя было бы смыть теплой водичкой.
Теперь явились мужчины – четыре брата и ее Вэнь. Их окружили и споро связали. Завиток слышала, как кричит Да Гэ. Ее дочь слабо звала: “Папа!” Завиток закрыла Чжу Ли собой, думая, что нельзя девочке ничего видеть, нельзя ничему случиться. Но тут возникли чьи-то руки и вырвали у нее Чжу Ли. Из толпы малышке велели открыть глаза – ей пора было учиться. Завиток с трудом поднялась на ноги и попыталась отобрать дочь обратно, но остальные двигались решительно и жестоко. Подняв глаза от пола, она увидела, как какой-то мужчина поднял Чжу Ли на худые плечи. Девочка сидела, не шевелясь, уставясь прямо перед собой.
Прибытие Вэня Мечтателя и его дядюшек заново оживило замерзающую толпу. Наперебой зазвучали новые обвинения. Один вспоминал о голоде и о том, как продал свою землю Да Гэ за бесценок.
– Грабеж! – заорал кто-то. – Когда тебе повезло, ты взял и втоптал ближнего в грязь! Как бы еще ты так быстро заполучил больше семнадцати акров?
Брат жены Эр Гэ обвинял Эр Гэ в том, что тот дурно обращался с нею, бил ее и даже не давал ей есть. Эр Гэ это отрицал, он попытался кинуться в драку, но тут же подбежали другие и сшибли его на землю. Царил форменный хаос. Чужаки рассыпались по толпе и спрашивали у людей:
– Кто вас бил? Кто унижал ваших отцов и насиловал ваших дочерей? Они?
– Это… это были…
– Кто разбогател во время войны?
– Да эти помещики думают, что от клочка земли от них не убудет. Думают, что вам бы на колени встать да благословить их за это!
– Пора нам освободиться! – в голосах их звучала жажда возмездия, но также и скорбь, и плач.
– Товарищи, имейте мужество раз и навсегда встать плечом к плечу!
– Жизнь за жизнь!
– Кто вас унижал? Скажите нам. Это не ваш позор! К чему вам его сносить?
В круг ворвалась женщина. Она указала на мужчину в темно-синих одеждах.
– Этот человек изнасиловал меня, когда мне было шесть лет, – сказала она. – Он закрыл мне лицо платьем моей матери и… – Прижимая руки к животу, она принялась всхлипывать. – Это было только начало. Он понимал, что отец моей умер и заступиться за меня некому. Этот зверь, это чудовище! Он наслаждался каждым мигом боли, которую мне причинял.
Кто-то вложил ей в руки лопату. Сперва она била слабо, словно ей двигала лишь скорбь, не ярость. Но выкрики толпы ее раззадорили, и лопата обрела новый, решительный ритм. Она продолжала бить лопатой даже тогда, когда это уже ничего не меняло.
– Двадцать лет войны – и ради чего? Чтобы нас снова вышвырнули в сточную канаву?
– Я до смерти упахивался, чтобы собрать пять дан зерна. А ты при этом четыре дана забирал за аренду, – сказал Да Гэ какой-то человек. – Мы ели рисовую шелуху, пшеничную, просяную. Мои дети голодали с рождения. Но что тебе до твоих испольщиков? Они для тебя просто удобрение!
– Я предложил тебе честные условия… – начал было Да Гэ, но его слова тут же потонули в криках толпы.
– Честные? – горько рассмеялся человек.
– Плати по счетам! Все должны платить по счетам!
– Если вы сейчас с ними не разберетесь, – спокойно сказал чужак, – эти помещики дождутся, пока мы уедем, а затем перебьют вас по одному. Не бывает революции наполовину.
На помещиков обрушился шквал презрительных насмешек. Общее возбуждение нарастало. Привели еще одно семейство, и последовали новые обличения и рассказы о преступлениях. Взятые вместе, их истории складывались в обвинение, которого никто не мог отрицать.
– Разве не твои это соотечественники? – напустился на Вэня какой-то мужчина. – Разве не твое это преступление?
– Мое, – сказал Вэнь.
Мужчина отвесил ему пощечину.
– Твое преступление?
– Я это признаю. Принимаю, – вскрикнул он.
У Вэня из носа пошла кровь. Мужчина продолжал бить его по щекам, словно наказывая ребенка. Толпа смеялась – с резким, блеющим призвуком. Двоих стоявших на помосте мужчин били ногами до тех пор, пока те не перестали шевелиться. Когда появились пистолеты и Да Гэ с женой расстреляли, Завиток решила, что ей это чудится. Запалили факелы, а остальные требовали все больше убийств. Она увидела, как вперед выволокли Вэня. Ее муж молил о пощаде. От него отвели ствол, затем снова навели, отвели, навели. Ее дочь рыдала, пытаясь высвободиться из негнущихся рук чужака. “Папа! – вопила она. – Папа!” Эр Гэ выстрелили сперва в грудь, затем в лицо. Расстреляли еще троих. Один все никак не умирал, и пришлось его забить. Завиток почувствовала, что теряет сознание. Казалось, отовсюду на нее накатило гробовое молчание.
– Уже все, – сказал кто-то.
Она подняла голову и пошарила во мгле глазами. Над ней склонилась женщина. Это была жена председателя, совсем еще девочка, которая порой приходила посидеть с Завитком в сельской школе, чтобы поделиться городскими байками и выучить несколько песен.
– Иди домой, – шепнула она. – Завтра ваш дом займет крестьянский союз, но выше по холму есть пустые хижины. Вас переведут туда. Без крыши над головой вас не оставят. Они лучше, чем помещики прошлого.
Голос девушки истаял, и облик ее смешался с тенями. Чжу Ли, вся перепачканная, теперь дергала Завитка за руки. Когда Завиток наконец подняла глаза, то увидела, что Вэнь согнулся над телами двух своих дядей и тщится взять на скорченные руки труп Да Гэ.
Но все это Большой Матушке Нож еще долго не рассказывали. Завиток молчала, и Вэнь тоже. В то время Большая Матушка не вполне сознавала, что преследования и обличения все еще продолжались. Никого больше не казнили. Напротив, Завиток заметила, как неловко держатся те, кто заносил лопаты, бил, жал на спусковой крючок. Столкнувшись на проселочных дорогах с Вэнем, они таращились на него в страхе, словно это Вэнь убил человека. И даже если он и не сделал этого собственноручно – то уж конечно, если бы его не было, никакого насилия бы и не понадобилось. На этой высоте туман никогда не отступал. Собственной тени человек и то не видел.
На четвертую ночь своего визита Большая Матушка лежала без сна. Да вся эта землянка вместе взятая, думала она, теснее кладовки в прежнем доме Вэня Мечтателя. Прохудившуюся соломенную крышу следовало заменить – звуки она издавала такие, словно дух предка ежился на ветру. Большая Матушка закрыла глаза, и в памяти у нее всплыл отрывок из известного стихотворения, что она читала наизусть на свадьбе у Завитка:
Свадьба девицы вдали от родителей —
Как лодчонку пустить по великой реке.
Когда мать опочила, ты юной была,
И от этого нежность моя к тебе лишь возросла.
А сестра тебе старшая мать заменила,
И теперь вы в слезах, и не в силах расстаться еще,
Но тебе уж своею дорогой идти…
Слова эти были родом из прежней версии этой страны, из очередного сна. На канге малышка Чжу Ли ткнула Большую Матушку пятками в спину, словно говоря: “Тепла на всех не хватает! Грей-ка меня, старушка, или иди куда хочешь”. И как только такому щуплому существу удавалось занимать столько места? Будучи сыта этим по горло, Большая Матушка выбралась из постели. Маленькая чертовка удовлетворенно заурчала, раскидываясь поверх оставленного ею тепла.
Большая Матушка отыскала свои туфли. Она яростно их вытрясла. Удостоверившись, что внутри не угнездилось никаких кусачих созданий, она сунула ноги в туфли, застегнула поверх второго свитера подбитую ватой куртку, надвинула поглубже шерстяную шапочку и вышла на улицу.
Зимний воздух оказался не так ужасен, как она боялась. Большая Матушка покосилась здоровым глазом сперва направо, затем налево, уясняя свое местонахождение. Луна окуталась облаками, так что Большая Матушка доверилась компасу у себя в голове и шла вниз по холму, пока деревья не расступились и вокруг не распростерлась заснеженная земля. На хрусткой белизне лежала упавшая ветка. Большая Матушка ее подняла.
– Ну почему я не сплю, – спросила она себя, – и против кого мне это оружие?
Ее сердце, до того так и колотившееся, успокоилось. Когда Большая Матушка дошла до нарядного дома, она не колебалась. Она вскинула палку, уверенно прошагала через лишенный ворот вход и поднялась по первому лестничному пролету.
Ее здоровый глаз мало-помалу приспособился к полумраку. То тут, то там она различала груды мусора – но ни следа мебели.
Тем утром она невинно осведомилась у Завитка, трудно ли добраться до предмета, что та хотела бы изъять.
– И да, и нет, – сказала Завиток. – Помнишь в восточном крыле ступеньки, которые ведут наверх, в альков?
Ступеньки шли наверх не до самого конца, поведала ей сестра, а служили лестницей, с помощью которой можно было достичь высоко подвешенной полки – очень длинного и узкого выступа.
– На дальнем конце, под крышей, есть небольшая ниша. Добраться до нее – сплошная головная боль, можно поскользнуться и шею себе свернуть. Крестьянский союз наверняка начнет сперва искать там, где попроще.
Большая Матушка пошла по комнатам дальше. Теперь она очутилась у ступенек в альков. Отставив в сторону трость, она остановилась, дабы принести стихотворение в жертву божеству книг – потому что, в конце концов, таинственные тетради проходили по его ведомству. Она прочитала наизусть:
Когда ум возвышен,
Тело теряет тяжесть
И чувствует, будто парить способно по ветру.
Город этот прославлен как средоточие писем;
И все вы, о прибывающие сюда писатели,
Доказательство тому, что великая слава земли
Добывается лучшим, нежели богатством.
Она пошла наверх.
Выступ, когда она до него добралась, и в самом деле оказался узким – едва ли полфута в ширину – и простирался по стене довольно далеко. Призраки, впрочем, оказали ей услугу, обчистив полку догола – теперь на ней не имелось никаких препятствий.
Неуклюже, как голубь, она шагнула на полку, проклиная свой плотный ватник. “Я отказываюсь, – сказала она себе, – кончить жизнь на полу мешком с костями, и чтоб сестра выносила мой труп”. Большая Матушка засеменила вдоль полки. Она чувствовала, как потеют в туфлях ее ноги, и прокляла книжное божество за то, что оно не подсказало ей взять с собой Летучего Медведя. Уж ее младшенький был бы только рад поучаствовать в такой глупости. Наконец Большая Матушка нащупала край полки, слепо пошарила в поисках тайника, но тщетно. Потянувшись еще раз, она потеряла равновесие. Бедро щелкнуло, и она судорожно замахала рукой в поисках опоры; но поймала только воздух. Одна нога соскользнула с выступа. Большая Матушка изо всех сил подалась вправо. Врезалась в стену, широко размахнулась правой рукой, и тут, стоило только ее мыслям замедлиться, а ей самой – понять, что вот ей и конец, как ее пальцы налетели на нишу. Большая Матушка уцепилась за нее как за последнюю соломинку, так крепко стиснув пальцы, что почувствовала, как скребут друг о друга косточки. Комната встала на место. Большая Матушка все еще стояла – одной ногой зависнув в воздухе.
Она было рассмеялась, но по зрелом размышлении посерьезнела. В нише, как и сказала Завиток, обнаружилась картонная коробка. И все же Большая Матушка хотела быть совершенно уверена и поэтому развязала одной рукой шнурок, спихнула крышку и сунула руку внутрь. Она никогда прежде не держала в руках этих тетрадей, но их поверхность показалась ей совершенно знакомой – словно ее пальцы касались Книги записей уже тысячу раз.
– Старый боже, – радостно сказала она, – не стоило мне тебя ругать. Ты только погляди, что я нашла!
Подхватив коробку одной рукой, Большая Матушка вперевалку поковыляла по балке обратно, спустилась на площадку, сошла по ступеням и вновь завладела своим оружием.
Затаив дыхание, она возвращалась по своим следам. Трость хорошо ей служила, напоминая о зрячей девочке, что вела слепых музыкантов сквозь рокот войны, прочь от стертого с лица земли города. То было целую жизнь назад, и девочка сейчас должна была уже вырасти. Большая Матушка поспешила по проходу, что вел во внутренний двор, пока наконец не выбралась, отчаянно глотая свежий воздух, под ночное небо. До звезд в их ясном сиянии, казалось, было рукой подать. Что же отворяло столько дверей в ее памяти, неужели эта самая коробка? Да что за создание такое была эта книга? Большая Матушка подумала о малыше Завитка – том, который умер в сорок втором. Он был старше Воробушка всего на несколько лет, но, в отличие от Воробушка, никогда вроде бы не боялся выстрелов, взрывов, криков и пламени. Она помнила, как вынимала его тельце из рук сестры и как слезы Завитка словно прожигали ей кожу.
Этот дом, полагала она, рано или поздно обратится в руины. Он исчезнет с лица земли и не оставит по себе ни оттиска, и все книги и рукописи, что Вэнь Мечтатель с матерью, дядюшками и Старым Западом хранили с таким тщанием – или же со страхом – обратятся в прах и в пыль. За исключением, быть может, лишь этой книги, что отправится в новое укрытие, чтобы существовать и впредь.
Той ночью Воробушек проснулся в темноте. Музыка сочилась из стен, наполняя комнату, в которой спали он сам и два его младших брата. Музыка мешалась с неровными всхрапываниями мальчишек, словно те играли в унисон в одной оркестровой группе. Пятилетний Летучий Медведь был маленький, хорошенький и храпел, как танк. Он, должно быть, пихал брата ногами во сне, потому что Да Шань вжался в стену, уступив и одеяло, и подушку. В свои семь лет Да Шань уже был аскетом, предпочитавшим всему кипяток и паровые булочки; мальчик решительно намеревался вступить в Народно-освободительную армию при первой же возможности.
Воробушку приснился сон. Во сне он шагал по первому этажу Шанхайской консерватории, мимо комнаты, где, словно статуэтки в витрине, выстроились скрипачи, мимо величественных покоев с гучжэном, пипой и дульцимером, пока не пришел наконец в зал, где, как могучие дубы, стояли семь концертных роялей. За мерцающими окнами испускало дух ночное небо и обращалось в утро. Старый Бах явился в Шанхай собственной персоной; он уселся за самым дальним роялем. Седьмой канон Гольдберг-вариаций Баха катился к Воробушку, словно приливная волна печали. Воробушек хотел было отойти с дороги, но замешкался, и в него врезались ноты. Они бегали вверх-вниз у него по позвоночнику и словно разбирали его на тысячи кусочков одного целого, где каждая часть была полнее и живее, чем когда-либо доводилось быть всему его “я”.
Лежа в постели, Воробушек гадал, снился ли когда-нибудь герру Баху Шанхай. Он откинул покрывала и встал. Завидев, что Летучий Медведь захватил себе всю кровать, Воробушек передвинул его на место; мальчик злобно заблеял во сне. Да Шань, почуяв вокруг свободное пространство, откатился от стены обратно. Воробушек вышел из комнаты.
По дому тоненькой струйкой бежали ноты. Он забыл надеть шлепанцы, и пол обжег его холодом, но все же Воробушек шел, пока не добрался до отцовского кабинета. Дверь была приоткрыта, и в щелку сочилась музыка. Зная, что отец рассердится, если его увидит, Воробушек не издавал ни звука, ни шепота. Так что, когда Папаша Лютня его окликнул, он сперва даже и не знал, что ответить.
Отец вновь нарушил молчание.
– Воробушек, тут тепло. Заходи.
Воробушек вошел в комнату.
Папаша Лютня сидел на низком стульчике перед патефоном. Он сгорбился, почти что увял и был сам на себя не похож. Квартира без Большой Матушки Нож становилась совершенно пуста, заключил Воробушек. Ее вечное недовольство и ругань были такой же основой их жизни, как балки дома, пища, что они ели, и членство отца в Коммунистической партии.
– Я уже сто раз слышал эту пьесу, – сказал Папаша Лютня. – Но слушать ее в одиночестве, ночью, это воистину что-то.
От густого дыма отцовских сигарет Flying Horse глаза Воробушка заслезились, но все же он прошел дальше в комнату и сел за отцовский стол. Папаша Лютня возражать не стал. Музыка продолжала играть, мешаясь с дымом, теперь – быстрая и легкая, с нотами размытыми, как порхание крыльев, как истончающаяся ветка. Папаша Лютня склонил голову. Он прикрыл глаза, словно глядя на что-то у себя внутри. Когда закончилась вторая сторона, он перевернул пластинку и снова поставил ее играть. Девятая вариация вынудила Воробушка положить голову на стол. Он хотел лишь одного – поселиться в этих Гольдберг-вариациях, чтобы они вечно простирались все дальше и дальше у него внутри. Он хотел знать их так же хорошо, как собственные мысли.
– А что, если там беда? – сказал Папаша Лютня. – Она что, думает, у них иммунитет?
Воробушек поднял глаза. Кто это – они, удивился он.
Желая прозвучать как сын героя-коммуниста, Воробушек сказал:
– Можно поехать и ее спасти.
Отец промолчал.
Музыка продолжала играть.
Воробушек вышел в лунный пейзаж пятнадцатой вариации бок о бок с отцом – и все же отдельно от того. Гленн Гульд играл и играл, зная, что музыка написана и пути проложены, но озвучивая каждую ноту и интервал так, словно никто и никогда их прежде не слышал. Музыка была столь утонченной и вместе с тем столь осязаемой, что Воробушек громко вздохнул при мысли о том, что, даже сочиняй он музыку сто тысяч лет, ему никогда не достичь подобного изящества.
– В музыке нет будущего, – сказал Папаша Лютня. В голосе его не было упрека. С тем же успехом он мог бы сказать, что комната квадратная, а в отечестве двадцать две провинции, один автономный регион и население в пятьсот двадцать восемь миллионов человек. Воробушек слушал, как если бы отец говорил с кем-то другим – например, с портретами Председателя Мао, премьера Чжоу Эньлая или вице-премьера Лю Шаоци, что мудро взирали на него со стен. Лицо отца вполне соответствовало на вид портретам. – Когда ты был ребенком, то еще ладно, мечтателем было быть нормально. Но теперь-то ты поумнел чуть-чуть, нет? Неужели не пора уже читать газеты и строить свое будущее? В новом мире надо учиться жить по-новому. Тебе бы прилежней штудировать марксистко-ленинско-маоистскую мысль! Надо тебе включаться в революционную культуру. Как сказал Председатель Мао: “Если хочешь получить знания, то участвуй в практике, изменяющей действительность. Если хочешь узнать вкус груши, то тебе нужно ее изменить – пожевать ее… Если хочешь знать теорию и методы революции, то тебе нужно принять участие в революции”.
Тут на них величаво нахлынула шестнадцатая вариация – грандиозное, расцвеченное трелями вступление. Ноты сменяли друг друга все быстрее, и Воробушек словно уносился вдаль вместе с ними. Ему привиделась огромная площадь, залитая солнечным светом.
– Когда ты практически живешь в консерватории, – продолжал отец, – когда захлопываешь за собой дверь репетиционной, ты что, думаешь, никто тебя не слышит? Ты что, правда веришь, что никто не замечает, что ты семьдесят девять дней подряд играл Баха, а до того тридцать один день подряд – Бузони?! Снизойти до эрху, пипы или саньсяня тебе не с руки. А я-то так много сделал для земельной реформы! Я был образцовым отцом, никто тебе другого не скажет… – Папаша Лютня угрюмо выпил и замолчал. – Что тебе дались этот Бах и этот Бузони? Какое тебе-то до них дело?
Отец поднялся и обошел комнату, пока не очутился нос к носу с портретом премьера Чжоу Эньлая.
– Ну, конечно, и Баху было чем заняться, – признал Папаша Лютня. – Бедный сукин сын не меньше дел имел, чем наш генсек: что ни неделя, то месса, фуга, кантата, как будто Бах – это вам завод какой, а не живой человек. Но Воробушек, ты на мою жизнь посмотри.
Премьер Чжоу на портрете выглядел так, точно сочувственно кивает.
– Каждую неделю по пятьдесят выступлений в школах, в деревнях, на заводах, на митингах! Я – машина на службе партии и, если надо, буду выступать даже на смертном одре. Старина Бах понимал, что музыка служит высшему благу, но я-то этого разве не понимаю? А Председатель Мао разве не понимает?.. В глубине души ты, Воробушек, думаешь, что иностранец – лучший товарищ, чем твой собственный отец, – Папаша Лютня испустил тяжкий вздох. – И что же он тебе такое обещает? Когда-нибудь ты больше не сможешь выезжать на Бахе, и придется тебе уже делать что-то свое, разве нет?
Снаружи мир был погружен во тьму, и молоденькое зонтичное деревце во дворе словно держало на своей жидкой кроне весь гнет зимней ночи. Воробушку страстно хотелось, чтобы можно было перевести стрелки часов вперед, промотать год, а потом еще, пока его симфонии не зазвучат в зале Консерватории. Он воображал себе исполинский оркестр малеровских масштабов, такой большой, что музыка у него внутри потрясла потолок, заставила вздрогнуть пол и передвинула стены.
– А мой сын меня и не слышал, – сказал Папаша Лютня. – Оглох.
– Пап, я слушаю.
– Меня, – сказал отец, уставившись на обложку пластинки. – Слушай меня, – но говорил он, словно обращаясь к Гленну Гульду или к самому Баху. – Сын, будь практичней. Думай о будущем. Попытайся понять. Много дорог ведет к счастью, и степени счастья бывают разные.
Когда Большая Матушка Нож вернулась в земляную хижину, Завиток и маленькая чертовка лежали точно так же, как она их оставила – вместе на канге, в тяжелом сне. Вэнь завернулся в одеяло на полу. Лицо сестры в лунном свете казалось бледным и морщинистым, а Чжу Ли как будто вцепилась в нее, как это делают дети – упрямая и твердо намеренная получать, что хочет. Сидя в уголке под ватником как под одеялом, Большая Матушка наблюдала, как лунный свет крадется под дверь. Он лился в комнату, такой пронзительный, что, взглянув на собственные пальцы, она едва себя узнала. Ей показалось, что это руки Завитка. Ей показалось, что ее туфли – это туфли не кого иного, как Вэня Мечтателя, что колени ее – Папаши Лютни, руки ее принадлежат Да Шаню, живот – Летучему Медведю, сердце ее – Воробушку. У нее появилось ужасное предчувствие, что их, одного за другим, отломят от нее и отнимут. Или это она уйдет первой?
Эскапада Большой Матушки и книжного бога, казалось, состоялась много лет назад – и за многие мили отсюда.
Накануне Большая Матушка сходила в город и накупила самых простых потребных в быту предметов – плотные одеяла, термос, подбитые ватой куртки, а еще рис, ячмень, масло для готовки, соль и сигареты. Через несколько месяцев, сказала себе Большая Матушка, она снова получит разрешение приехать и навестить сестру. К тому времени начнется весенний сев, и она опять поможет им удовлетворить свои нужды. Завиток рассказала, что партсекретарь пообещал ей место учительницы в начальной школе. Может, положение и не такое уж отчаянное. Но даже думая об этом, она испытывала непроглядную печаль. Она подняла глаза и увидела, что Чжу Ли проснулась и подмигивает ей, прикрыв правый глаз ладошкой.
– Доброе утро, маленькая чертовка, – сказала Большая Матушка.
Девочка переменила руки и прикрыла левый глаз.
Большая Матушка цыкнула.
– Наглая мартышка!
– Отец меня так называл, – сказала Завиток. – Вот теперь вспомнила, – сестра села, и волосы хлынули у нее по плечам. – А почему ты сюда не идешь? Тут тепло.
Большая Матушка медленно поднялась на ноги. Все тело болело. Оно старело и делалось бесполезным – вне всякого сомнения, итог бесконечных митингов и политинформаций. Партийная пропаганда глушила мысли, окутывая густым тестом умственной отсталости.
– Что случилось? – спросила Завиток. – Почему ты плачешь?
– От радости, – солгала Большая Матушка.
Ее сестра рассмеялась. Девочка тоже прыснула.
Подмигнув девочке, Большая Матушка подхватила картонную коробку и поставила ее на канг рядом с сестрой.
Завиток пристально поглядела на коробку, словно та напомнила ей о ком-то, кого она много лет не видела. Она протянула руку, потянула за петлю, и бечевки распустились. Завиток подняла крышку и сдвинула ее в сторону. Она уставилась на тридцать одну тетрадь – все главы Книги записей, что удалось отыскать Вэню.
– Но… – она коснулась угла коробки. – Я же знаю, что это невозможно.
– Скажем так – божество книг позвало их домой.
На следующее утро, в автобусе на Шанхай, провидение поместило Большую Матушку на соседнее сиденье с крепкой молодой женщиной, женой председателя сельсовета.
– Далеко от дома забрались, а? – сказала молодая женщина, развернув красный платочек, расправив его на коленях на манер скатерти и насыпав туда внушительное количество подсолнечных семечек.
– В нашей огромной и славной стране, – нежно сказала Большая Матушка, – мы везде дома.
– Истинная правда! – сказала женщина, перебирая пальцами семечки, словно вылавливала в них серебряную монету.
За окнами пролетал пробуждавшийся в первом свете утра пейзаж. На сиденьях вокруг все спали или притворялись спящими. Молодая женщина предприняла терпеливую попытку выудить из Большой Матушки причину ее визита в Биньпай (“А кто, вы говорите, ваша сестра? Та молодая дама, что раньше пела в чайных?”), влезая под кожу Большой Матушке, точно иголка. Большая Матушка, созерцая росшую на полу кучку подсолнечной шелухи и размышляя в самом общем смысле об алчности, что подстрекает к войнам и оккупациям, и о кровавых разгулах гражданской войны, открыла термос и щедро налила своей спутнице чашку чаю. Как часто случалось, по внезапному наитию Большая Матушка Нож решила подправить свою стратегию.
– Приятно было, – начала она, – воочию увидеть земельную реформу тут в селе, во всей ее славе.
– Гениально! – веско сказала молодая женщина. – Придуманная – нет, написанная как музыка! – самим Председателем. Программа мысли, которой нет равных во всей истории человечества, будь то прошлое, настоящее или будущее.
– Действительно, – сказала Большая Матушка.
Они немного посидели во вдумчивом молчании, и затем она продолжила:
– Я сама приветствую любые жертвы во имя освобождения наших возлюбленных сограждан от этих омерзительных…
– Ой, очень омерзительных! – прошептала молодая женщина.
– …феодальных оков. Вне всякого сомнения, ваш муж, председатель, с отличием исполнил свой долг, – Большая Матушка запустила руку в карман пальто и вытащила горсть конфет “Белый кролик”.
– Ох ты ж! – в изумлении произнесла молодая женщина.
– Прошу вас, возьмите конфетку. Берите не одну. Эти деликатесы нам прислал сам глава шанхайского ведомства пропаганды. Вкус нежный, но вместе с тем богатый. А я не упоминала, что мой муж – композитор и музыкант? Говорят, что его революционные оперы пришлись по нраву самому Председателю Мао.
– Ах, ах, – тихонько сказала женщина.
Большая Матушка понизила голос. Слова словно сочились к ней прямиком из одной из тридцати с лишним тетрадей в сумке, которые, по настоянию Завитка, она забрала в Шанхай; от любовных писем сестра должна была избавиться сама – во всяком случае Большая Матушка надеялась, что так она и поступит.
– Но наш Великий Кормчий всегда направляет нас в наших делах, равно и великих, и скромных. Конечно же, мой муж скромнее самого робкого вола, однако он дошел бок о бок с героями нашего народа до самого Яньаня, аж десять тысяч ли! Мой муж играл с таким революционным пылом, что мозолей у него на пальцах было больше, чем на босых ногах. Да, он шел и на ходу все играл на гуцине. А смычок ему пришлось перетянуть конским волосом.
– Никогда прежде конский волос не жертвовал собой с такой радостью!
Большая Матушка позволила себе улыбнуться.
– Уверена, так оно и было.
Молодая женщина угостилась еще горсточкой сластей. Все конфеты, кроме одной, она ссыпала в карман блузки.
– А муж ваш родом откуда?
– Из провинции Хунань, самой колыбели революции, – сказала Большая Матушка. Женщина нервно разворачивала свою конфету, и Большая Матушка терпеливо дожидалась, пока шорох фантика стихнет. – Его революционный псевдоним – Песнь Народа. Он, если позволите, тот еще здоровяк и громила. Подлинный дух нынешнего времени.