Текст книги "Как проиграть в войне времен"
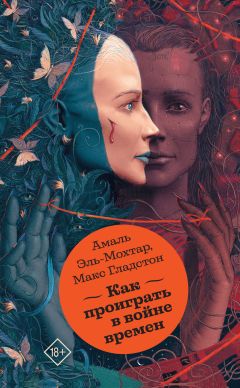
Автор книги: Макс Гладстон
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Атлантида тонет.
И поделом. Рэд ненавидит это место. Хотя бы за то, что их слишком много, этих Атлантид, и они вечно тонут, на всех своих прядях: остров у берегов Греции, срединно-атлантический континент, развитая доминойская цивилизация на Крите, космический корабль, залетевший к северу от Египта, и так далее, и так далее. На большинстве прядей Атлантиды не существует вовсе – там о ней знают только понаслышке, из грез и безумных слов еще более безумных поэтов.
Из-за того, что их так много, Рэд не может навести порядок или потерпеть неудачу только с одной. Иногда кажется, что пряди порождают Атлантиды ей назло. Словно сговорившись. История заключает альянс с ее врагом. Тридцать, сорок раз за время своей службы она покидала тот или иной тонущий, горящий остров с мыслью: «Зато хотя бы с этим покончено». Тридцать, сорок раз поступал приказ: «Возвращайся».
У подножия вулкана темнокожие атланты ищут свои корабли. Мать одной рукой прижимает к себе ревущего сына, а другой – держит дочь. За ними идет отец. Он несет их домашних божков. Слезы чертят дорожки на его покрытом сажей лице. Жрица и жрец не покидают храма. Они сгорят там дотла. Они отдали свои жизни в качестве жертвоприношения – кому на сей раз? Рэд сбилась со счета. Ей стыдно за это.
Они отдали свои жизни в качестве жертвоприношения.
Атланты заполняют лодки, пропуская вперед божков и детей. Когда земля сотрясается, а небо вспыхивает огнем, даже самые храбрые и целеустремленные бросают свои труды. Записи, вычисления и новые механизмы оставлены позади. На лодки берут только людей и предметы искусства. Цифры сгорят, двигатели расплавятся, арки раскрошатся в пыль.
Эта Атлантида не входит в число самых странных. Здесь нет кристаллов, летающих машин, идеального правительства и экстрасенсорики. (Тем более двух последних и не существует в природе.) И все же: этот мужчина сконструировал паровой двигатель с пропеллером на шесть веков раньше обычного. Эта женщина, благодаря уму и экстатической медитации, осознала полезность нуля для своих вычислений. Этот пастух воздвиг в своем доме стены из свободностоящих арок. Незначительные штрихи, идеи настолько фундаментальные, что кажутся бесполезными. Никто здесь еще не знает себе цену. Но если они не сгинут вместе с этим островом, кто-то может осознать свою роль на несколько столетий раньше и все изменить.
И Рэд пытается дать им время.
Ее имплантаты, отводящие тепло, светятся алым. Жгут ее плоть. Она выделяет много пота. Рычит. Сверкает глазами. Выжимает себя до капли. Спасение острова – работа не для одной женщины, и она прилагает столько усилий, сколько ни одна женщина не в состоянии.
Она катит гигантские валуны, чтобы остановить потоки подступающей лавы. Руками роет русла искусственных рек. С помощью имеющихся в ее распоряжении орудий ломает камни и формирует из обломков другие, в других местах. Вулкан дрожит и раскалывается, выплевывая в воздух булыжники. Из его вершины вырастает каменная сосна из сажи. Она бежит в гору, превращаясь в смазанное пятно тела и света.
Лава мерцает, пузырится, расплескивается. Часть приземляется рядом с ней. Она отходит в сторону.
В пепельно-зеленом море отражается непроглядная муть неба. Разлетаются последние бакланы, черные на фоне черноты. Рэд ищет знак. Она упускает что-то, но не знает, что именно. Некоторое время она размышляет о небесах и океанах, думает.
Она смотрит в сторону, когда ей в лицо прилетает сгусток лавы. Не глядя, она ловит его в ладонь. Ее кожа должна была бы обуглиться, будь она той кожей, которая обтягивает скелеты паникующих на земле атлантов. Но это не та кожа, и она не обугливается.
Слишком засмотрелась. Она поворачивается обратно к кальдере, к кипящей лаве.
И замирает.
Разливающуюся красноту испещряют черно-золотые прожилки. Так выглядят поверхности некоторых солнц, на которые она заглядывает во время увольнения на берег. Не это приковывает ее внимание.
Переливающиеся цвета образуют слова, написанные уже знакомым почерком. Слова задерживаются на считаные мгновения и сменяют друг друга по мере течения лавы.
Она читает. Шевелит губами, беззвучно вторя каждому слогу. Она сохраняет слова под огнеупорными щитами в памяти старого типа. В ее глаза встроены камеры, но сейчас она их не использует. Записывающий механизм зафиксирован на волокнах в ее черепе, которые можно принять за зрительный нерв; она отключает его – Агентство не знает, что она это умеет. Лава переливается через край. Она хотела сломать высокий мыс, на котором стоит, чтобы соорудить из него что-то вроде желоба, по которому расплавленная порода выплеснулась бы в заранее отведенный канал. Но она лишь стоит и смотрит.
Внизу полыхает деревня. Без фундаментального сдвига на пике ее дамбы и редуты на склонах работают не так хорошо, но по крайней мере у математички еще есть время, чтобы захватить свои восковые таблички. Лодки отчаливают. Они уплывут достаточно далеко, чтобы пережить волну, вызванную землетрясениям, когда их дома упадут в море.
Это не полный провал. Рэд качает головой и уходит, надеясь, что это последний раз, когда ее командируют на спасение Атлантиды. Она помнит все.
Вулкан затихает. Со временем ветры разгоняют облака, расчищая синеву неба.
Ищейка карабкается вверх по гладкому голому склону. Рядом с остывающей лавой собираются тонкие, блестящие нити вулканического стекла. В другое время и в другом месте их назовут Волосами Пеле. Ищейка набирает их в руки, как цветы, что-то напевая.
Мой осторожный кардинал,
Позволь мне открыть тебе секрет: я ненавижу Атлантиду. Все до единой Атлантиды на всех без исключения прядях. Это прогнившая нить. Все, чему тебя должны были учить о Саде и о моей Смене, вероятно, приводит тебя к заключению, что мы дорожим этим местом как оплотом добродетели, чистым платоническим идеалом образцовой цивилизации: о, сколько юношей с горящими глазами вложили свои пылкие души в воображаемые там жизни? Магия! Беззаветная мудрость! Единороги! Боги, как они есть, сошедшие с небес! Для поддержания этих представлений мы работаем гораздо изощреннее, чем может показаться на первый взгляд, учитывая издательские грешки дюжины двадцатых веков. Это насколько же мощным должно было быть духовенство Атлантиды, чтобы хватило на такое количество молодых людей, проникновенно рассказывающих о своих прошлых жизнях, проведенных в ее храмах!
Но до чего все-таки тоскливое место. Застойное, как болото, болезненное, как нарыв. Удачный эксперимент с омерзительными результатами. Вулкан был лучшим, что могло с ним произойти: Атлантида стала легендой, вероятностью, тайной, а это куда более продуктивный двигатель, чем все, что удалось изобрести атлантам за несколько тысяч лет.
Вот чем мы дорожим. Вулканы и волны – всегда наших рук дело.
Спасибо за твой рассказ о еде. После долгих недель на корабельных сухарях он был как нельзя кстати. Не могу не отметить, как отметила бы и миссис Ливитт, что письма принято запечатывать так, чтобы их можно было вскрыть, не сломав печати, но я оценила твою изобретательность больше, чем могу выразить словами.
Что я могу выразить словами: на льду было очень холодно, а твое письмо согрело меня.
Твои рассуждения об идеографических подписях и оперативной безопасности напомнили мне о работе, которую я провела среди садовников Бесс из Хардвика на нескольких прядях. Там я имела удовольствие наблюдать за перепиской между ними и их госпожой. До чего же многослойной и хитросплетенной может быть простая речь, а уж сколько тайн скрывается под стягом Искренности (слово, чаще всего изобретаемое в шестнадцатых веках). Конечно, даже эта идеографическая подпись легко может оказаться ложью: поддельные марки, конверты, спрятанные под отдельной обложкой, воск или шелковая нить не того цвета. Сколько сказано было слов с двойным дном, пока Мария, королева Шотландии, находилась под ее крышей! Поверь мне на слово: криптография меркнет в сравнении; представь себе шифр, состоящий из взаимозамкнутых настроений, меняющихся в ответ на внешние раздражители.
К тому же тогда английскому языку еще не была присуща стандартизированная грамматика. Подделывать чей-либо почерк было напрасной тратой усилий, если не принять во внимание чужие орфографические идиосинкразии. Забавно, что именно это сослужит дурную службу копиистам последующих веков. Чаттертону[9]9
Томас Чаттертон (20 ноября 1752– 24 августа 1770) – английский поэт, с 12 лет писал поэмы, выдавая их за средневековые записи (некоего Томаса Роули), найденные в древней церкви. Не получив признания (его поэмы отказывались публиковать), он принял мышьяк и скончался в возрасте 17 лет. Практически все его произведения опубликованы после его смерти.
[Закрыть], этому «чудо-отроку», и ему подобным.
Как многое в эпистолярном жанре мы трактуем буквально, не так ли? Даже не считая разбитых печатей. Письма как путешествия во времени – письма, путешествующие во времени. Скрытые смыслы.
Интересно, понимаешь ли ты, о чем я сейчас говорю?
В твоем рассказе о еде – таком сладком, таком пикантном – ни словом не упомянуто о чувстве голода. Ты пишешь об отсутствии потребности, да – никакого льва, дышащего тебе в шею, никакого «животного отчаяния, вызванного тягой к продолжению рода», – это, безусловно, приводит к получению удовольствия. Но голод многогранен в своих преимуществах; не стоит воспринимать его в одном только лимбическим смысле как биологию. Голод, Рэд, – утолить его или разжечь, как печку, испытывать голод, вести по нему языком, как по зубам, – знакомо ли тебе, конкретно тебе, это чувство? Испытывала ли ты когда-нибудь голод, который лишь обострялся от пищи, которую ты ему скармливала, затачивался до такого состояния, что как будто распарывал тебя надвое и извлекал что-то новое наружу?
Иногда мне кажется: вот что у меня есть вместо друзей.
Надеюсь, тебе не слишком сложно это читать. Ничего лучше я не смогла придумать за столь короткое время – надеюсь, письмо достигнет тебя раньше, чем остров дезинтегрирует.
В следующий раз пиши мне в Лондон.
Блу.
Следующий Лондон – того же дня, месяца, года, но с разницей в одну прядь, – это Лондон, который другим Лондонам только снится: окрашенный в сепию, небо усеяно дирижаблями, империя, порочность которой обозначена лишь розоватым свечением на заднем плане, благоухающим пряностями и цветочным сахаром. Жеманный как роман, грязный лишь тогда, когда этого требует сюжет, город монархии и пирогов с мясом – Блу любит это место и презирает себя за свою любовь.
Она сидит в чайной в Мейфэре, в самом углу, спиной к стене, одним глазом поглядывая на дверь – некоторые правила шпионажа преодолевают границы времени и пространства, – а другим на стилизованную карту Нового Мира. Она думает, что карта смотрится здесь несколько неуместно – чайная явно выдержана в эстетике ориентализма, но, среди прочего, именно за эклектику Блу и ценит волокно этой конкретной пряди.
Ее волосы, сейчас – черные, густые и длинные, – хитро уложены в высокий шиньон из заплетенных кос, а россыпь аккуратно завитых локонов на загривке привлекает внимание к изгибу ее длинной шеи. Платье на ней – скромное и опрятное, отнюдь не последний писк моды; с выпуска линии «Принцессы» прошло уже пару лет, но Блу хорошо дополняет темно-серый наряд. Она здесь не для того, чтобы играть роль; она здесь для того, чтобы оставаться незаметной.
Она с наслаждением разглядывает тончайший фарфор, которым славится заведение: майсенский дракон эпохи Мин, витиеватый, как артерии, кумачово-красный на молочно-белом фоне с позолоченной каемкой. Она с нетерпением дожидается своего чайника, предвкушает темный, подкопченный, солодовый аромат, который выбранный ею чай проложит в нотах засахаренной розы, нежного бергамота, шампанского, муската и фиалки.
Подходит официантка и тихо, ненавязчиво расставляет на столе майсенскую пирожницу, чайник, сахарницу. Однако, когда она водружает чашку на блюдце, Блу резко перехватывает ее отстраняющееся запястье. Официантка пугается.
– Эта посуда, – говорит Блу, сразу же адаптируясь, смягчая свой взгляд добротой, а крепкую хватку – лаской, – из разных сервизов.
– Мои извинения, мисс, – говорит официантка, кусая губы. – Я уже заварила чайник, когда оказалось, что чашка треснула, и я решила, что вам бы не захотелось ждать чай вдвое дольше, а все остальные сервизы были заняты, потому что такое сейчас занятое время дня, но если вы согласны подождать, я с радостью…
– Нет, – говорит она, и ее улыбка подобна расступившимся облакам; она кладет руку к себе на колени, стирает все, что было – официантке все померещилось, конечно, ведь эта женщина – сущая леди. – Все очень красиво. Спасибо.
Официантка склоняет голову и удаляется на кухню. Блу пристально смотрит на чашку, блюдце, ложечку: голубой итальянский фарфор, классические силуэты под ободком пожизненно собирают пшеницу, носят куда-то воду.
Осторожно, не отцеживая заварку, она наливает себе чай. Подносит ложечку к свету – замечает, что та покрыта каким-то веществом из низовий времени, которое она вроде бы узнает, но на всякий случай принюхивается, чтобы не ошибиться. Она заставляет себя не оглядываться, не позволяет шелохнуться ни единому атому своего тела, пресекает потребность броситься на кухню и преследовать, и выследить, и поймать.
Вместо этого она пустой ложечкой мешает чай и наблюдает за тем, как разворачиваются, кружатся и скручиваются в буквы листья. Ложечка совершает обороты медленно, и Блу отмечает красные строки маленькими глотками; каждый глоток баламутит буквы, пока она снова не вмешивает в них смысл.
На мгновение она спрашивает себя, не яд ли это – комок в ее горле, вокруг которого удушающее невозможно сглотнуть. Мысль не пугает ее.
Пугает альтернатива, но Блу закрывает на нее глаза.
Когда чай допит, а письмо дочитано, остается заварка; в гуще листьев Блу читает постскриптум. Это совсем несложно, когда карта Нового Мира так безупречно ему соответствует; в несовпадении легко прочесть направление.
Она вытирает губы, переворачивает чашку донышком вверх, помещает под свой каблук и размалывает ее в порошок с такой силой и такой скоростью, что уничтожение не производит ни звука.
Когда она уходит, ищейка, одетая как прислуга, вооружившись совком и веником, собирает останки чашки, бережно, как лепестки роз. Скрывшись от посторонних глаз, она нарезает смесь глины, кости и чайного листа на три ровные дорожки, туго скручивает банкноту и вдыхает так резко, что что-то дымится за глазными яблоками.
Дорогая 0000FF,
Кто бы мог подумать – общий интерес на Атлантиде! Что ж, всякая прядь сложнее, чем кажется; в нас воспитывают незыблемую уверенность в этом знании. И каждой присущи свои грани, шипы, крючочки, по-своему полезные, в зависимости от постановки вопроса. Новички верят, что единственное исправление способно сделать прядь такой или сякой. Но любое событие – вторжение, судорога, вздох – похоже на молоток, один конец которого тупой и как нельзя лучше подходит для забивания гвоздей, другой же сплюснут, чтобы выдирать их. Вы убираете Атлантиды с глаз долой, чтобы не мешали, как те самые молотки – суете их в ящик и прячете в безопасное место, пока в них снова не возникнет необходимость.
В связи с этим я задаюсь вопросом: как часто результаты твоих трудов помогали мне в работе, и наоборот – вопросом, выходящим за рамки моих вычислительных способностей. Я бы спросила у Оракула Хаоса, но в настоящее время мне и так хватает проблем с руководством. Пришлось активизироваться после того, как я зазевалась, читая твое последнее письмо. Остров затонул, унеся с собой массу бесценных сокровищ, и комендант потребовала от меня объяснений, что в целом свойственно комендантам. Кратковременный спад производительности, согласно аналитике Агентства, вполне приемлемый с учетом моего послужного списка. Но после рейдов, организованных вашей стороной против наших отрядов, находящихся под прикрытием и наиболее уязвимых… Впрочем, хватит разговоров о работе. Это ведь скука смертная, как сказали бы твои подружки из чайного салона.
Резюмирую: после моего предыдущего письма прошло слишком много времени.
Атлантида Пряди 233 была не самой постылой из списка, да и времени я провела там достаточно мало. Шутки шутками, но я все понимаю. Людям нужны эталоны, чтобы к ним стремиться, но несовершенные цивилизации умирают. Вот мы и строим для них идеалы. Агенты перемен поднимаются вверх по косе времени, находят полезные пряди, сохраняют то, что будет иметь значение, а всему остальному позволяют перегнить в удобрение для семян более совершенного будущего.
Миссис Ливитт рекомендует отдавать предпочтение метафорам, которые будут резонировать с корреспондентом – а это, я полагаю, ты? Признаюсь, я не вполне представляю, что может с тобой резонировать. Я вынуждена оперировать одними догадками: семена, трава и растениеводство. Граничит со стереотипом. Ты же пишешь мне из горнила и пламени.
Ты спрашиваешь меня про голод.
Ты спрашиваешь конкретно про мой голод.
Короткий ответ: нет.
Более длинный: я так не думаю.
Мы удовлетворяем свои нужды до того, как они заявляют о себе. Орган (спроектированный, имплантированный, многократно протестированный орган), в этом теле расположенный вверху живота, фиксирует момент, когда мой метаболизм начинает требовать топлива, и останавливает первобытные подсистемы, которые вызвали бы во мне чувство дискомфорта, раздражительности и притупили остроту мысли – все эти хитрости, которые придумала госпожа Эволюция, чтобы сделать из нас охотников, убийц, чревоугодников, ищеек и ловцов. При необходимости я могу отключить этот орган, но ведь гораздо надежнее регулярно получать статусные отчеты, нежели чувствовать свою слабость.
Но голод, который описываешь ты – его острие, вспарывающее кожу, чувство опустошения, подобное выветриванию породы на склоне холма, часто поражаемого грозами, – все это звучит волшебно и так знакомо.
В детстве я любила читать. Знаю, знаю: архаичное времяпрепровождение; каталогизация и загрузка – более быстрый, эффективный, во всех смыслах непревзойденный способ хранения и приобретения знаний. Но я читала – старинные фолианты, попавшие ко мне в руки, и новехонькие реплики: как необычно узнавать что-то последовательно! И вот однажды я прочла комикс про Сократа. В нем он был воином – это, кстати, правда, я у него узнавала, – и как-то ночью, когда товарищи Сократа уже устроились на ночлег, он начал думать. Он стоял неподвижно, предаваясь своим думам, пока не забрезжил рассвет – и в этот самый миг нашел ответ на свой вопрос.
Тогда это показалось мне очень романтичным. Поэтому я покинула свою капсулу и поднялась высоко вверх по косе, подальше от разговоров и взаимной слежки. Я нашла холм в одном маленьком мирке, пригодном для дыхания, но совершенно безжизненном, и стояла на его вершине, как Сократ в комиксе, погрузившись в раздумья, опираясь на одну ногу, не шевелясь.
Солнце село. Взошли звезды. (Они ведь тоже восходят, не так ли? Как небесные розы? Что-то в этом духе было у Данте.) Когда мои уши привыкли к тишине, я поняла, что все еще слышу своих: наши разговоры, заполонившие небеса; наши голоса, эхом отраженные от звезд. Совсем не то переживали Сократ, Ли Бо и Цюй Юань. Мое уединение, мой эксперимент вызвал тихое беспокойство среди тех, кто дорожил мной и кем дорожила я, и это беспокойство перекинулось на остальных. Глаза и объективы устремились на меня.
Лет мне было, кажется, тринадцать.
Мне стали предлагать помощь: учебники по философии, руководства по медитации, предложения альянсов и услуг в обучении. Они роились вокруг меня. Шептали мне на уши: «Ты в порядке? Тебе нужна помощь? Ты можешь поговорить с нами. Ты всегда можешь поговорить с нами».
Были слезы. Этот процесс – плач – тоже контролируется органами. Они поддерживают ясность наших глаз и трезвость разума, но химия есть химия; кортизол есть кортизол.
Писать сложнее, чем хотелось бы. В то же время писать проще, чем хотелось бы. Я противоречу сама себе. Геометры были бы мной разочарованы.
Я отослала всех прочь.
Каждое живое существо имеет право на личное пространство, поэтому я не позволила им увидеть меня. Я была единственной на этом крохотном булыжнике, и я погрузила весь мир во тьму.
Дул ветер. Ночью на возвышенностях всегда холодает. Острые камни больно впивались мне в ноги. Впервые за тринадцать лет я осталась одна. Я, кем бы я ни была тогда, кем бы я ни была и по сей день, ринулась сначала вверх, к звездам, а затем вниз, на иссушенную землю. Я зарылась глубоко в почву. Пели ночные птицы; мимо прошмыгнул какой-то одинокий зверь, вроде волка, но более крупный, о шести лапах и с глазами, смотрящими в разные стороны.
Мои слезы высохли.
И я ощутила одиночество. Мне не хватало этих голосов. Не хватало разумов, стоящих за ними. Я хотела, чтобы меня видели. Эта потребность впилась мне в самое нутро. Это было хорошее чувство. Не знаю, с чем сравнить его, чтобы тебе стало понятно, но представь человека, слившегося с Вещью, искусственного бога размером с гору, созданного для ведения войн в дальних уголках космоса. Представь колоссальную тяжесть металла, сдавившего ее со всех сторон, погребая под своим весом, отдавая ей свою силу, представь, как его провода сливаются с ее плотью. Представь, как она отсекает их и выходит: беззащитная, выжатая, ослабевшая, свободная.
Я чувствовала невесомость, опустошение, голод. Взошло солнце. Откровение не постигло меня. Я не Сократ. (Я знаю Сократа, я с ним служила, а ты, сенатор… Но я отвлеклась.) А я пошла дальше, путешествуя с места на место, снова и снова, пока, много лет спустя, не вернулась домой.
И когда меня нашла комендант, скользнула в мысли и сказала: «Для таких, как ты, есть работа», – я подумала, все ли агенты такие же, как я? Нет, не все – я убедилась в этом позже. Каждый из нас отклоняется от курса по-своему.
Голод ли это? Я не знаю.
Но как это, у тебя нет друзей? Блу! Вот уж ни за что бы не подумала. Не знаю… пожалуй, мы все представляем вас водящими хороводы вокруг костров, распевающими старые духоподъемные песни.
Тебе бывает одиноко?
Надеюсь, чай был вкусным. Тебе понравилось? Отлично. В следующий раз буду искать тебя в более многолюдном месте.
Твоя,
Рэд.
PS. Стесняюсь писать, но… Я заметила, что мои письма получаются довольно длинными. Если ты предпочитаешь, чтобы я выражала мысли более сжато, я постараюсь. Мне бы не хотелось навязываться.
PPS. Прости за небрежность моего приветственного обращения – кажется, так это называет миссис Ливитт? Вылетело из головы, какое название лондонцы Восьмой Пряди девятнадцатого века присвоили этому оттенку синей краски на импортном фарфоре. В противном случае я бы использовала его.
PPPS. Мы все равно победим.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































