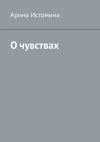Текст книги "Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове"

Автор книги: Максим Антонович
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Максим Алексеевич Антонович
Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове
Я не буду говорить здесь о том, какую потерю понесла русская поэзия и вся литература в лице Николая Алексеевича; эта потеря всеми уже сознана, прочувствована и оплакана. Не буду я также говорить и об его поэтическом таланте и о заслугах его поэзии для русской литературы и жизни: эта заслуга в общих чертах также оценена всеми по достоинству; для подробной же и всесторонней оценки ее еще не настало время, потому что в настоящее время еще слишком сильны всякие личные чувства, и особенно чувство сожаления об утрате поэта, – что, конечно, не может благоприятствовать спокойному, холодному, беспристрастному, словом, основательному обсуждению. Я намерен здесь сказать только несколько слов об уме Николая Алексеевича, об этом светлом и проницательном, здравом и практическом уме, который всегда возбуждал во мне удивление.
Да, это был замечательный ум, которым главным образом и определялось достоинство поэтических произведений Николая Алексеевича. Это не была непосредственная натура, которая всецело отдавалась и подчинялась действовавшим на нее впечатлениям или конкретным явлениям; эти впечатления не завладевали ею прямо, не настраивали ее известным образом с первого же прикосновения к ней, не возбуждали в ней с первого же мгновения известных движений и чувств, не извлекали из нее известных звуков и откликов, и она отвечала на них не прямо, без предварительной рефлексии, а только после умственной подготовки, после обсуждения и вообще после теоретической рефлективной переработки полученных впечатлений. Поэт наблюдал известные явления, везде попадавшиеся ему на глаза, известные резко выступающие картины из обширного ландшафта его родины; они не сразу поражали его, не тотчас же зажигали в нем поэтический пожар одушевления, пламя которого стремительно, неудержимо, почти бессознательно и невольно со стороны поэта пробивается наружу и гармонические звуки которого вырываются из уст поэта, причем рука его невольно просится к перу и бумаге. Нет; он предварительно обдумывал глубоко и всесторонне представлявшиеся ему явления и картины, сравнивал их с другими подобными им, делал из этого свои выводы, живо проникался своими мыслями, которые уже и завладевали всем существом его, возбуждали чувство и производили поэтическое одушевление. Таким образом, это одушевление было не непосредственным, а посредственным, возникшим вследствие рефлексии; его вызвали не самые впечатления, явления и картины, а те рои мыслей, те думы, которые были возбуждены ими в уме поэта. Выражаясь посредством сравнения, поэт в этом случае был похож не на горячего, вспыльчивого человека, который вспыхивает от первого же неприятного или обидного слова, сказанного ему, немедленно чувствует обиду, отдается своему чувству и прямо выражает его словами и действиями, а на человека спокойного и ровного, который принимает неприятные и обидные слова хладнокровно и, пока не вдумается в них и не обсудит их, не предается чувствам обиды, которые, однако, могут бурно и сильно разгореться в нем впоследствии, после рефлексии, может быть даже сильнее, чем у человека вспыльчивого и обидчивого. – Словом, Некрасов не был собственно лирическим поэтом, творящим и поющим в поэтическом увлечении и одушевлении, невольно, безотчетно, почти бессознательно, так что сам поэт не знает, что выйдет из его творения и пения, какую сторону изображаемого предмета или явления оно выставит особенно ярко и резко, чем именно оно произведет свой эффект, какие мысли оно проводит и вызывает, какие чувства возбудит и какие можно извлечь из него результаты, теоретические или практические. Некрасов был поэт по преимуществу, если даже не исключительно, дидактический; он творил холодно, обдуманно и строго сознательно, с определенной, наперед намеченной целью, с известной тенденцией, в хорошем смысле этого слова; он знал и сознавал мысль каждого своего произведения и мог предсказать, какие мысли оно возбудит в читателе. Лирическое произведение – это, так сказать, сама живая природа, сама действительность, непосредственно отразившаяся в поэте; и это отражение фиксируется в известных поэтических чувствах или ощущениях, образах, звуках. Это отражение можно рассматривать, наблюдать и изучать как саму природу; каждый может черпать из него, что хочет и может, что ему по силам, может рассматривать с разных точек зрения и делать свои выводы; и здесь возможны недоумения, перетолкования, разноречия, споры. Обращаясь опять к сравнению, может быть и не строго подходящему, можно сказать, что г. Островский, например, рисуя свои картины темного царства, и в мыслях не имел того смысла, того значения этих картин, какое придавал им Добролюбов, и г. Тертий Филипов мог видеть в них совсем другое[1]1
Статья преподавателя русской словесности Первой московской гимназии Тертия Ивановича Филиппова (1825–1899; у Антоновича – Филипов) о пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» была опубликована в журнале «Русская беседа» (1856. № 1), вызвав полемические отклики Н. Г. Чернышевского («Заметки о журналах» // «Современник». 1856. № 6) и Н. А. Добролюбова («Темное царство» // «Современник». 1859. № 7). Впоследствии Т. И. Филиппов стал чиновником особых поручений при Священном синоде; дослужился до должности государственного контролера, стал сенатором. Как член Русского географического общества способствовал собиранию народных песен.
[Закрыть], а кто-нибудь третий – еще иное. Относительно дидактических произведений, а особенно относительно произведений Некрасова, не может быть никаких недоумений и недоразумений: мысль их до очевидности ясна, цель несомненна, направления и тенденции их выступают резко до наглядности. Г-н Филипов не может увидеть в них ничего благоприятного для своего направления, ничего такого, что было бы не согласно с общепринятым взглядом на них, и священник о. Горчаков в своей надгробной речи мог только с крайней натяжкой представить Некрасова своим сторонником[2]2
Заупокойная служба и отпевание Некрасова прошло в Большом храме Новодевичьего кладбища, где надгробное слово о Некрасове произнес протоиерей, профессор церковного права в Петербургском университете, Михаил Иванович Горчаков (1838–1910). Он сказал о великой, всепоглощающей любви покойного к страдающему народу, за которую простятся ему все его вольные и невольные прегрешения. Затем Горчаков прочитал стихотворение «Рыцарь на час», что вызвало впоследствии недовольство его церковного начальства. В отличие от Антоновича, так и сохранившего свою идеологическую дубинноголовость, выступление Горчакова присутствующими было встречено с сочувствием (сохранились отзывы Г. З. Елисеева, П. В. Засодимского и др.).
[Закрыть].
Но произведения Некрасова, равно как и вся дидактика, имея над лирикой преимущество, состоящее в определенности и совершенной ясности их смысла, идей и тенденции, уступают лирике и лирикам в непосредственной жизненности и живости, в искренности, в задушевности и самой бескорыстной правдивости. Лирик не знает того процесса, посредством которого совершается в нем поэтическое одушевление, или по крайней мере не владеет этим процессом, так что он не может одушевиться по заказу, с известною целью или расчетом; что в нем возбудили внешние впечатления или внутренние воздействия, то он и выражает; в его произведениях возможны ошибки, но никак не фальшь. Дидактики же до некоторой степени сами господа своего поэтического одушевления, которое у них вызывается рефлексией; а рефлексия уже вся в руках человека, и он может направлять ее по произволу. Словом, дидактическое одушевление может приходить по заказу, руководиться известными целями или расчетами. Поэтому в дидактических произведениях часто встречаются неискренность, деланность, натянутость и даже просто фальшь – недостатки, от которых не совершенно свободна и поэзия Некрасова. У него найдется несколько стихотворений, которые не согласны с общим строем его лиры[3]3
Антонович, очевидно, имеет в виду стихотворение Некрасова «Осипу Ивановичу Комиссарову» (1866) в честь известного костромского мастерового, помешавшего террористу Каракозову в осуществлении его злодейского замысла, а также уничтоженные автором стихи, посвященные графу Михаилу Николаевичу Муравьёву, участнику войн с Наполеоном, раненному в Бородинском сражении. В 1863–1864 годах как генерал-губернатор Северо-Западного края, командующий войсками Виленского военного округа, он вынужден был принять жесткие меры для подавления кровопролитного польского восстания. Сразу после этого вышел в отставку. В демагогической атмосфере того времени, создаваемой радикальной печатью, в том числе и его «Современником», Некрасов оказался заложником собственной общественной позиции и, не успев «согрешить», начал каяться (стихотворение того же времени «Ликует враг, молчит в недоуменье…»); тема «неверного звука», исторгнутого лирой Некрасива, была подхвачена т. н. прогрессивной критикой; потом большевистским литературоведением и окончательно запутана.
[Закрыть]; очевидно, они были плодом не естественного, а искусственного, принужденного, заказного одушевления, вроде торжественных од наших старых лириков, и должны считаться как бы вовсе не принадлежащими ему. Они могут иметь значение разве только при оценке личности поэта, но никак не его поэзии.
Инстинктивно чувствуя и сознавая силу своего ума, Некрасов весьма редко прибегал к содействию поэтической фантазии, почти никогда не уносился в тот причудливый, таинственный, чудесный, волшебный, до бесконечности разнообразный и пестрый мир фантазии, в котором часто витают лирики, который кажется им настоящею действительностью и который они изображают до того увлекательно и живо, что и читатель невольно разделяет их веру в действительность этого мира и в подлинность событий и явлений из него, рисуемых поэтом. Некрасов строго держался действительности, изображал обыденную жизнь с ее насущными потребностями, с ее действительным горем и радостями, с ее неприглядною будничною обстановкою. Он не увлекал читателя картинностью, яркостью красок и фантастическим очаровательным блеском, а скорее поражал и убеждал его трезвою, простою правдою. Если Некрасов иногда и позволял себе увлекаться фантазией, то она уносила его не далеко, так сказать только на одну ступень над действительностью, как, например, в его пьесе «Мороз Красный Нос» или в его обращениях к умершей матери. – Так же мало было в его поэзии любви, ее упоений, восторгов и ее мук и страданий, составляющих обыкновенно такой обильный и неизбежный источник вдохновения у лириков.
Ясность и сила ума Некрасова тем поразительнее, что этот ум не был развит тщательным воспитанием, не был систематически дисциплинирован и обогащен связными познаниями, и для него были почти недоступны разнообразные развивающие источники иностранных литератур; его учила непосредственно сама жизнь и практические сношения с людьми, почти единственным источником его знаний были его собственные наблюдения над этою практическою жизнью, а не систематизированные вековые наблюдения других, относившиеся не к одной только практической жизни. Конечно, все это оказывало благотворное влияние на поэзию Некрасова, но имело и свою невыгодную сторону. Может быть, и без этих неблагоприятных обстоятельств она не стала бы сильнее и живее, но, во всяком случае, при отсутствии их она была бы глубже, разнообразнее и всеобъемлющее. При всем разнообразии ее мотивов все эти мотивы имеют один общий характер – дидактический; все вращаются около житейских, практических отношений, затрагивают только деятельную нравственную, так называемую этическую сторону человека, и в них почти вовсе нет теоретического или философского элемента. Муза Некрасова не терзалась муками теоретических сомнений; она не испытывала жгучей, неутолимой, мучительной, но в то же время чарующей и увлекающей жажды к всеобъемлющему знанию; она не напрягала до болезненности, до лихорадочного жара всех своих усилий для разрешения бесчисленных великих вопросов, которые тем сильнее раздражают и волнуют ум, тем настоятельнее и неотвязчивое требуют решения, чем менее они разрешимы; она не предавалась восторгам, найдя эти решения, и не приходила в отчаяние от бесплодности усилий разрешить их; она не чувствовала в себе смелых и гордых порывов обнять весь мир как одно целое, как одно существо, постигнуть всю его жизнь, слиться с ним, чтобы понять, ощутить и осознать в нем все так же, как в своем собственном «я»; занятая насущною людскою жизнью известного времени, в одной частной фазе ее развития, она мало интересовалась общей загадкой человеческой жизни, общим смыслом и ее конечною целью, и ее мало занимал исходный пункт и конечный результат человеческого существования. Словом, она не возносилась в те обширные, необъятные сферы ума, знания и философствования, в которых величественно парили мировые поэты первой величины, учители всего человечества, творившие Гамлетов, Фаустов, юношей, выпытывающих тайны у морских волн и т. д., сферы, до которых иногда долетали Пушкин и Лермонтов и которых касался даже Кольцов, в своих детски наивных думах погружавшийся в вопросы о том, какова будет жизнь духа без телесного сердца, что заменит тогда слух и потухшие очи и т. п.[4]4
Пересказывается стихотворение А. В. Кольцова «Молитва» (1836).
[Закрыть] Даже в этической области она не создавала титанических или сатанинских типов людей, гордых своею независимостью, непреклонно самостоятельных, с несокрушимою и неукротимою свободою и силою, смело, даже дерзко вызывающих на борьбу все силы мира и ада, все власти земные и преисподние, не преклоняющихся перед бессмертными и всесильными богами и даже перед главою их, самим Зевесом, – этих типов Прометеев, классических, мильтоновских, шиллеровеких, байроновских и других, в которых так ярко выражается могущество свободной, в самой себе имеющей опору человеческой личности и которые служат таким утешением и отрадой, такой поддержкой и ободрением для столь же непреклонных, но не столь могучих характеров, изнурившихся и изнемогающих в подобной же борьбе за свободу своего духа.
Но при этом нужно с особенным ударением заметить, что отсутствие указанных мотивов и типов вовсе не составляет недостатка поэзии Некрасова. Конечно, эти мотивы и типы сообщили бы ей еще большую прелесть, сделали бы ее еще разнообразнее, шире и глубже и придали бы ей еще большую увлекательность для ума; но и без этого она довольно совершенна в своем роде. И как знать, если бы Некрасов живее интересовался и сильнее увлекался областью высшей поэзии, универсальными и общечеловеческими мотивами и образами, если бы он более заботился о поддержании нашей национальной чести на международном литературном состязании, на общечеловеческих олимпийских играх, то, может быть, он не так живо принимал бы к сердцу менее обширные, но более насущные и непосредственные интересы данного времени и данной обстановки и не так всецело и безраздельно отдавался бы мелким, но едким злобам дня, потребностям и нуждам окружающей жизни и ближайшей действительности. И это – не праздная догадка, а она несколько подтверждается тем фактом, что великие поэты, сильно занятые мировыми вопросами и страдающие мировою скорбью, иногда слишком погружаются в свое олимпийское величие, с высоты которого они смотрят совершенно равнодушно, даже презрительно на заурядную вседневную жизнь обыкновенных смертных и бесстрастно относятся к их радостям, нуждам, горю и страданиям, может быть еще более жгучим и невыносимым, чем мировые страдания. За такое бесстрастие укоряли, например, Гете.
Еще явственнее и резче выражался светлый, практический ум Некрасова в его журнальной деятельности, в его роли издателя-редактора. Он умел признать и оценить всякую настоящую литературную силу, умел отличить Белинского от Межевича, и выбор его почти всегда останавливался на литературных деятелях, которые действительно были способны придать силу и значение журналу и привлечь к нему публику. Что Некрасов предоставил свой журнал в полное литературное распоряжение Белинского – это, может быть, и не было особенной заслугой с его стороны, не было знаком его особенной проницательности: литературная репутация Белинского тогда уже прочно установилась в лучших литературных кружках, общий голос их единодушно признал его критический талант, и потому Некрасов мог только следовать общему голосу, приобретая Белинского для своего журнала. Гораздо больше чести проницательности Некрасова делает то, что он привлек к своему журналу товарища Добролюбова[5]5
Речь идет о Чернышевском, который в период публикации статьи Антоновича по-прежнему оставался в сибирской ссылке и его имя было запрещено упоминать в печати.
[Закрыть], который впоследствии ввел в журнал и самого Добролюбова. Сначала его связь с этими людьми не стоила ему ничего, не требовала от него никаких жертв, не вынуждала его на разрыв с прошлым, на прекращение связей с сверстниками, с друзьями и приятелями. В первое время люди сороковых годов, окружавшие Некрасова и бывшие его друзьями, шли мирно и дружелюбно рука об руку с Добролюбовым а его товарищами; они не понимали друг друга и воображали, что идут к одной и той же цели и даже по одной и той же дороге. Не было надобности, не представлялось сначала поводов и случаев для взаимного и подробного уяснения их понятий; одна сторона знала другую только огульно; не являлось пробных камней, на которых бы обе стороны испытали себя и сравнили бы свои пробы. Было время, когда, по-видимому, не существовало разногласий между «Русским вестником» и «Современником»; точно так же казалось, что нет разногласий между людьми сороковых годов и Добролюбовым с товарищами[6]6
«Человек сороковых годов» – стихотворение Н. А. Некрасова (1866–1867), роман А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов» (1869), соответствующие мотивы в «Бесах» Достоевского (см. также публикуемую в этом томе статью П. Н. Ткачева) и т. п. литературно закрепляют образ, сложившийся в русском историко-культурном сознании эпохи реформ императора Александра II. Эти представители старшего поколения общественных деятелей, в частности вошедшие в круг авторов нового тогда журнала «Русский вестник», во второй половине 1850-х годов будущими «шестидесятниками» воспринимались еще достаточно миролюбиво.
[Закрыть].
Но затем, по мере того как обе стороны более узнавали друг друга, по мере того как увеличивалось число пробных случаев для испытания их существенных и задушевных идей и стремлений, несогласие между ними все более и более определялось и выяснялось, и, наконец, дело дошло до решительного разрыва. Тогда-то перед Некрасовым предстала в упор и, так сказать, ребром следующая дилемма: кто ему милее и кого он предпочитает – своих ли сверстников и старых друзей, личных учеников и друзей Белинского, или новых друзей, то есть Добролюбова с товарищами. Некрасов недолго колебался и решительно предпочел новых литературных друзей старым; вследствие чего эти последние сразу отстранились от его журнала и разбрелись кто куда: один в «Библиотеку для чтения», другие в «Русский вестник» и т. п. Это решение Некрасова, как можно судить по некоторым признакам, стоило ему не дешево; разрыв старых литературных и дружеских связей был для него довольно чувствителен. Некоторым из них он писал, что очень жалеет и постоянно помнит о них, и в доказательство этого уверял, что он очень часто видит их во сне[7]7
После разрыва Тургенева с Некрасовым, вызванном публикацией в «Современнике» статьи Добролюбова о романе «Накануне», Некрасов, пытаясь восстановить отношения, обращался к Тургеневу 15 января 1861 года: «…это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 14 (2). СПб., 1999. С. 152). Ответ Тургенева неизвестен, но в его письме к издателю «Северной пчелы» (авторское заглавие: «Письмо в „Северную пчелу“ о жулике Некрасове»; опубликовано: «Северная пчела». 10 декабря 1862. № 334) некрасовское письмо излагается иронически как неуклюжая попытка вернуть его к сотрудничеству (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. Т. 15. М.-Л., 1968. С. 142–143). В своих воспоминаниях о Некрасове Антонович нелестно отозвался об этом и вправду двусмысленном поступке Тургенева.
[Закрыть]. Итак, чувства сердца он принес в жертву голосу, соображениям и интересам ума. И, наверное, он не имел причины раскаиваться в этом. Литературная связь с Добролюбовым и его товарищами имела благотворное влияние на развитие собственных взглядов Некрасова, а следовательно, и на его поэзию. Не одну здравую идею и не одно прекрасное чувство он мог вынести из общения с людьми, столь богатыми всякого рода новыми и свежими идеями и одушевленными энтузиазмом, особенно при его восприимчивости и чуткости ко всему хорошему, при его проницательном уме, могшем сразу распознать в другом всякую светлую мысль. Если кружок Станкевича имел такое большое влияние на всех его членов, если пребывание в этом кружке было благотворно даже для Белинского, в некоторых взглядах которого видны были следы взглядов Станкевича, то тем невероятнее, чтобы осталось без влияния на Некрасова, на его взгляды и поэзию пребывание его в таком более солидном, более установившему и определившемся кружке, как кружок Добролюбова и его товарищей. Да, это была большая заслуга Некрасова для русской журналистики, что он понял этот кружок, предпочел его своим сверстникам и старым друзьям и отдал в его распоряжение свой журнал.
Впоследствии я очень близко стоял к журнальной деятельности Николая Алексеевича, разделяя с ним труды по редакции «Современника», и имел возможность наблюдать каждый шаг его как редактора-издателя. Общее заключение, которое я мог вывести из моих личных наблюдений, формулируется так, что это был замечательно умный и практический редактор-издатель. Конечно, и он не был идеальным издателем, и его можно было упрекнуть кое в чем, особенно если судить о нем безотносительно. Но если сопоставить его с другими редакторами-издателями, действовавшими тогда и теперь, то в сравнении с ними он покажется просто идеальным. Во-первых, в нем нисколько не было мелкого редакторского самолюбия, или, лучше сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности в других редакторах-издателях, которых постоянно мучит опасение, чтобы их не сочли только номинальными, фиктивными редакторами, которые дрожат при мысли, что кто-нибудь может подумать, что не они одни несут на своих гигантских плечах циклопическую тяжесть издания, но что им помогает, а может быть даже и руководит ими, обыкновенный смертный, простой сотрудник, и которые поэтому, к явному ущербу издания, суют свой нос всюду, даже туда, где они ничего не понимают, во все мешаются, не просят и не слушают советов, действуют по-своему, упрямо, наперекор, без всякого резонного основания, а единственно из желания показать свою самостоятельность и шумно заявить о своей независимости. Им, конечно, и в голову не приходит, что вся эта ихняя амбиция, вся эта боязливая и ревнивая заботливость о сохранении своей самостоятельности именно и производит то, чего они боятся, устанавливает то мнение о них, которое они хотят предупредить или разрушить. Некрасову было чуждо подобное самолюбие, подобная амбиция. Первые слова, которыми встретил меня Николай Алексеевич, когда я пришел к нему в первый раз по его приглашению после напечатания моих первых статей в «Современнике», были такие: «О ваших учено-серьезных статьях я судить не могу; мои соредакторы их одобряют – и это их дело; а мне нравятся ваши библиографические статейки, и я бы желал, чтобы вы постоянно писали для нас библиографии; пишите также, если угодно, ученые и критические статьи, но об них поговорите с Н. Г.»[8]8
Н. Г. – Н. Г. Чернышевский.
[Закрыть]. Тут же он дал мне письменное полномочие забирать какие угодно книги из двух книжных магазинов. Впоследствии я на деле убедился, что Некрасов предоставлял полнейшую свободу своим постоянным сотрудникам, ни в чем не стеснял их и не вмешивался в те журнальные вопросы и дела, в которых он не считал себя компетентным. Когда в сомнительных и важных случаях обращались к нему за решением по таким вопросам, он обыкновенно отвечал: «Делайте, господа, как сами знаете; только смотрите хорошенько обсудите дело». Даже по части беллетристики, относительно которой он был компетентный судья, он полагался на мнения сотрудников и руководился этими мнениями. Иногда, бывало, редакция находилась в недоумении и нерешительности или в разногласии относительно того, помещать или не помещать какое-нибудь беллетристическое произведение. В таких случаях Николай Алексеевич, с общего согласия редакции, предоставлял решение вопроса одному какому-нибудь сотруднику и безусловно подчинялся этому решению, хотя оно и не согласно было с его собственным мнением. У меня сохранилась следующая записка от Николая Алексеевича: «Пожалуйста, прочтите эту вещь поскорее (то есть завтра, например, к обеду). Что до меня, то я такого мнения, что ее следует взять в „Современник“: она эффектна, об ней говорят и будут говорить, и относительно содержания (обстоятельство, по которому преимущественно я и препровождаю ее к вам) тоже, кажется, не представляется препятствия. – Но этот вопрос предоставляю окончательно решить вам». И, несмотря на все это, упомянутая «вещь»[9]9
Пьеса Я. П. Полонского «Разлад. Сцены из последнего польского восстания» была отвергнута «Современником» и напечатана в журнале «Эпоха» (1864. Апрель). См. подробнее об этом: Шестидесятые годы. Антонович М. А. Воспоминания… С. 198–199.
[Закрыть] не была принята в «Современник». И посмотрели бы амбиционные редакторы, как все это делалось у Николая Алексеевича просто, без всяких обид, без всяких самолюбий и единственно в интересах дела. Зато и сотрудники, с своей стороны, столь же просто, без амбиций и самолюбия принимали мнения и решения Николая Алексеевича в тех случаях, когда он настаивал на них, считая себя совершенно компетентным и правым. И в таких случаях трудно было не согласиться с ним, трудно было не принять его советов или решений, с которыми бы он и не выступил, если бы не был вполне убежден в их основательности.
В тех случаях, когда он не имел готового, установившегося мнения о каком-нибудь спорном предмете, Николай Алексеевич чрезвычайно быстро составлял для себя такое мнение во время редакционных совещаний и прений. Всякое дельное замечание, высказанное хотя бы в виде самого легкого намека, он немедленно отличал и схватывал его, так сказать, на лету, вполне овладевал им, дополнял и развивал его с таким искусством и полнотой, что приводил в изумление даже самого автора замечания. Я особенно живо помню один из таких случаев. После мастерского и эффектного прочтения одного беллетристического произведения самим автором все пришли в восторг от него и единодушно хвалили. На другой день в разговоре об этом произведении кто-то вскользь заметил, что мысль его не совсем ясна и выступает как будто в тумане. Николай Алексеевич подхватил это замечание, обобщил его, стал развивать, что мысль произведения не только туманна, но и фальшива, что и все оно вообще слабо, что с самого же начала его личное впечатление от произведения было неполно, неудовлетворительно и он только не мог дать себе отчета и определенно уяснить, отчего все это происходит, и т. д. – И подобные случаи встречались довольно часто.
Другим достоинством Николая Алексеевича как редактора-издателя было то, что в нем не было мелочной скупости, того пошлого копеечного скряжничества, которое, к сожалению, не чуждо некоторым нашим редакторам-издателям. Он ничем не скупился для журнала и относительно трат для него разговаривал только тогда, когда дело шло о тысячах; меньшие же траты считались им не стоящими и разговора. Журнал его обильно был снабжен всеми журнальными пособиями и предоставлял сотрудникам все, что нужно было им при журнальных работах. Особенно тороват был Николай Алексеевич в делах с беллетристами; он привязывал их к своему журналу самою любезною и щедрою предупредительностью. Как только, бывало, он заметит хотя слабенький талант, увидит писателя, подающего хотя какие-нибудь надежды, немедленно разыскивает его, узнает его положение и обстановку, которые, конечно, оказывались не блестящими, и прямо предлагает ему ссуду, мотивируя ее тем, что в подобных обстоятельствах и при подобной обстановке нельзя работать спокойно и успешно и что при другой обстановке он легко отработает эту ссуду. Предложение делалось так просто и с таким тактом, что писатель охотно принимал его, если только гнетущая нужда не заставляла его еще прежде просить об этой ссуде. И, таким образом, писатель по необходимости по чувству признательности становился постоянным сотрудником и работником при журнале. Некоторые беллетристы были постоянными должниками журнала. – Конечно, все это были не бог весть какие подвиги со стороны Николая Алексеевича; но многие ли из издателей понимают, подобно ему, что тороватость и щедрость относительно писателей гораздо выгоднее для их изданий, чем тугая расчетливость, а тем более скупость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.