Текст книги "Мистико-аскетический роман"
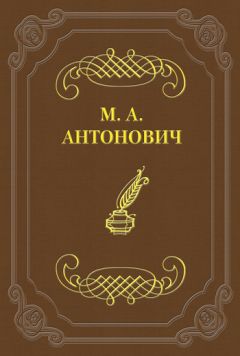
Автор книги: Максим Антонович
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Проведите этот принцип по всем сферам жизни, по всем видам и отраслям человеческих отношений, и вы станете счастливым человеком, не уязвимым ни для каких несправедливостей, обид и притеснений. Вообразите, что кто-нибудь хватил вас кулаком. Если вы человек гордый и без самоотречения, то вы или дадите сдачи и затеете целую драку, или же начнете иск за оскорбление действием и тем подвергнете себя всем неприятным судебным мытарствам, которые скорее и сильнее измучат вас, чем вашего обидчика, которого суд может оправдать, а если и присудит, то к какому-нибудь незначительному штрафу, так что оскорбление ваше еще более усугубляется. Человек же смиренный, когда его хватят кулаком, поступит совершенно иначе; он схватит руку обидчика, с жаром облобызает ее и скажет ему: «Друг, что ты так снисходителен ко мне, ударил меня так слабо и то только один раз; ударь меня еще раз и притом посильней; если я и не виноват перед тобою, то наверное виноват перед кем-нибудь другим, может быть, я сам кого-нибудь обидел; а если я не виноват, то виноват кто-нибудь из моих родных; поэтому бей меня сколько хочешь, и я всякие побои перенесу охотно, потому что я помню заповедь моего старца, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся, за всех людей и за всякого человека на сей земле». Вот это самое и есть то, что на риторическом языке называется «лобызать карающую десницу». Если вас заключили в темницу, хотя бы даже безвинно, то вы должны воспеть гимн темнице; если вас заковали в кандалы, то вы должны любовно лобызать эти кандалы, и т. д. По этому пути самоотречения и терпения можно дойти до того, что все дурное и неприятное будет казаться райскою прелестью, подобно тому как титулярный советник Поприщин, когда сторожа сумасшедшего дома лупили его по спине палками, воображал, что это рыцарский обычай при возведении его в высокое звание испанского короля.
Для нас, русских, такое самоотречение и умерщвление своей личности тем удобнее и легче, что оно составляет, по учению славянофилов, характеристическую черту нашего национального духа, которая непонятна иностранцам, глупо и в недоумении разевающим рот всякий раз, когда им случается видеть, как любовно и долготерпеливо мы переносим всякие невзгоды и удары судьбы и с каким усердием лобызаем руки, дающие нам затрещины, и кары, которые мы с удовольствием переносим за всех и за вся (см. у г. Аксакова анекдот о Достоевском и стихи самого г. Аксакова). Эта национальная черта стерлась только немного у нашей интеллигенции, развращенной Западом и заразившейся иноземным духом. Вследствие этого сама интеллигенция и очутилась в настоящем горьком и безвыходном положении, из которого, впрочем, есть для нее только один выход – возвращение к почве, к народу и усвоение нашей национальной добродетели.
Для того чтобы соблазнить нас к этому возвращению, Достоевский не ограничился одними только отвлеченными поучениями старца Зосимы, но еще воплотил нашу национальную добродетель безропотного терпения и покорности в увлекательном образе Мити Карамазова. Бездушные, слепые крючкотворы мирского суда при помощи ничего не смыслящих мужичков-присяжных осудили ни в чем не повинного, добродетельного Митю и подвергли его ужасному, незаслуженному наказанию. Другой на его месте надрывался бы от негодования, злобы и досады, накопил бы в себе столько горьких чувств ненависти, мести и озлобления, что они отравили бы все его существование и мучили бы его всю жизнь. Митя же покорно и спокойно принял несправедливое осуждение и наказание; он счел его даже уроком и благодеянием для себя; он уверил себя, что он должен невинно пострадать для искупления еще более невинных страданий «дитё», и потому в наказание он воспел гимн и чувствовал себя столь счастливым, как никогда в жизни. Вот идеал и высокий образец для подражания! И недаром отец Зосима поклонился ему в ноги…
Таковы главные тенденции романа «Братья Карамазовы», таково мировоззрение, проводимое в них! Повторяем, это та же буквально мораль аскетизма и принижения, которую проповедовал Гоголь в своей «Переписке с друзьями». Эта «Переписка» в свое время вызвала крайне неприятное изумление, досаду, жалость и вместе с тем строгое осуждение и негодование. Чувства эти нашли себе красноречивого выразителя в лице Белинского. Но его рецензия на эту «Переписку» (Полн. собр. соч., ч. II) есть только весьма слабое и бледное выражение этих чувств, которые загремели со всею силою в его рукописных письмах к Гоголю. Эти письма произвели потрясающее впечатление как на самого Гоголя, так и на всех читавших их, а они известны были всей тогдашней интеллигенции, интересовавшейся литературой. Копия их была и у Достоевского.
Вот как в то время относились к мировоззрению, которое проповедует теперь Достоевский. Гоголь встретил энергическое сопротивление и не нашел последователей; между тем в настоящее время Достоевский, по-видимому, приобретал себе тем больше последователей и почитателей, чем определеннее, резче и яснее формулировалось и выражалось его мировоззрение. Странный факт. Пессимист мог бы увидеть в нем доказательство отсутствия в нас литературного роста и свидетельство того, что тогдашняя литературная публика была строже, требовательнее, чутче, догадливее и менее индифферентна и апатична, чем нынешняя. Гораздо вероятнее объясняется этот факт обаянием самой личности Достоевского, которому невольно поддавались даже люди несогласных с ним убеждений. Его искренность, глубина и сила убеждения, его энтузиазм и страстность, его пророческий вещий вид производили неотразимое впечатление на чувство, увлекавшее собою и отуманенный ум. Люди, слышавшие его московскую речь о Пушкине, при чтении ее в печати крайне изумлялись, каким образом могла произвести на них такое сильное впечатление эта речь, состоявшая большею частью из софизмов и громких фраз. Но это объяснение, вполне применимое к устным речам, мало применяется к печатным произведениям. В русской литературе есть роман, представляющий большую аналогию с романом «Братья Карамазовы» по тенденциозности – хотя тенденции их различаются как небо от земли, – по искренности, по силе и глубине убеждений, по страстности и энтузиазму. Однако все эти качества не служили ни малейшим смягчающим обстоятельством в глазах противников этого романа и его тенденций. На этот роман с неутолимым ожесточением нападали все те лица и направления, которые теперь так восторгаются искренностью и энтузиазмом «Братьев Карамазовых». Значит, тут дело не в одной искренности и энтузиазме, но и в самом содержании тенденции или мировоззрения.
Но как бы то ни было и чем бы ни объяснялось увлечение последними тенденциозными произведениями Достоевского и как бы ни было велико обаяние его личности, во всяком случае настоит серьезная необходимость разъяснить его тенденции и его мировоззрение и дать им отпор. Этого требует как уважение к Достоевскому, так и обязанность каждого перед своими собственными убеждениями. Голос Достоевского, к сожалению, уже умолк теперь навеки; но его произведения все еще живы, громко говорят и проповедуют, и, может быть, проповедь их стала еще действительнее вследствие горестного чувства утраты автора их, которому смерть навсегда сковала уста. Как бы мы высоко ни ценили Достоевского, во всяком случае Гоголь по крайней мере не ниже его как по своим личным качествам, по искренности и энтузиазму своих убеждении последнего периода, так и по своим заслугам для русской литературы, с которыми далеко не могут равняться заслуги Достоевского. И, однакоже, современники, при всем своем глубоком уважении к Гоголю, перестали его слушать, отвернулись от него и даже строго осудили его, когда он, подобно Достоевскому, стал проповедовать аскетическое смирение, слепое послушание и умерщвление своей личности. Едва ли был у Гоголя поклонник более горячий и ценитель более энтузиастический, чем Белинский, и, однакоже, посмотрите, как Белинский отнесся к Гоголю, когда последний сошел с своего пути и возвратился вспять.
Мировоззрение и тенденции Достоевского такого рода, что нет надобности подробно разбирать и опровергать их; достаточно только разоблачить их, разъяснить их настоящее значение, сделать им систематический свод и собрать в одну картину все существенные черты их, рассеянные по всему роману. Мы смеем думать, что в настоящей статье мы именно и сделали это. Чтобы не быть голословными и не подвергнуться упреку в голословности и произвольных навязываниях, мы не скупились на выписки из романа, рискуя даже чересчур удлинить этим свою статью. Поэтому в заключение мы сделаем только несколько общих замечаний об основной идее мировоззрения Достоевского.
По его представлению, в основании гражданского общества должна лежать и быть главным руководящим принципом как личной, так и общественной жизни и деятельности – религия, и притом не религия вообще, а известная, определенная религия, и даже не религия, а, еще частнее, – церковь и даже монастырь; другими словами, он держится направления, которое называется клерикализмом. Согласимся на минуту с этой идеей, примем религию за основание всей жизни. Религия есть вещь многосторонняя, и принципы ее тоже бывают различны; но, чтобы быть последовательным и логичным, не следует брать по произволу одну ее сторону, один принцип. А Достоевский между тем и поступает таким односторонним образом; из всей религии он берет только один принцип, именно аскетизм. Но и аскетизм в свою очередь бывает различный, а Достоевский и здесь поступил односторонне, взял только один из видов аскетизма. Это именно мистический аскетизм, то есть субъективный, созерцательный, платонический, аскетизм сидения на одном месте, без необходимости даже пальцем шевельнуть. Весь подвиг жизни, по этому аскетизму, состоит в том, чтобы предаваться спасительным созерцаниям и размышлениям, умерщвлять себя, отсекать потребности, бичевать свою волю, отречься от самого себя и осудить себя на слепое послушание, безропотно страдать и в страдании искать счастья, предаваться созерцательным восторгам и исступлен и ям. К этому старец Зосима присовокупил еще несколько крайне наивных, буколических заповедей в таком роде:
«Юноша, брат мой, у птичек прощения проси: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю, да было бы. Пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хоть бы и не видал и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои» (I, 501–505).
Вот видите, какие все вычурные да курьезные подвиги! Землю и птичек нужно окружить любовью, оплакивать слезами, а люди остаются в тени. Автор не знал или забыл, что существует еще другого рода аскетизм, гуманный, деятельный, практический, направленный не на птичек или на землю, а на людей, на так называемые дела человеколюбия или христианского милосердия. Не предаваясь созерцаниям и не сидя сложа руки, этот аскетизм исполняет следующие заповеди: «Алчущего напитати, жаждущего напоити, нагого одети, странника в дом вводити, посещати заключенных в темницах». Наверное можно сказать, что такого рода гуманный и человеколюбивый аскетизм более соответствует духу религии и христианства, чем бездейственное созерцание и смирение даже перед птичками, даже перед землею. Когда вечный судия будет судить людей на пороге вечности, то прежде всего потребует от них отчета в исполнении заповедей практического, а не мистического созерцательного аскетизма. Объективные дела важнее, чем субъективные душеспасительные размышления. Вспомните притчу о милосердном Самарянине. Человек, ограбленный и избитый разбойниками, лежит в беспомощном состоянии на большой дороге. Проходит мимо его «священник некий», кто-нибудь вроде Алеши Карамазова, и не обращает на него ни малейшего внимания. Затем проходит левит, уже самый правоверный человек, кто-нибудь вроде старца Зосимы, и тоже не обращает внимания на несчастного страдальца, вероятно в том расчете, что страдания для него благодетельны, что в них есть счастье. Наконец, идет неправоверный Самарянин, кто-нибудь вроде Ракитина, принимает живейшее участие в страдальце, доводит его до ближайшей гостиницы и отдает его на попечение гостинника, которому платит за это что следует. Признается, что лучше всех поступил Самарянин, что он как следует любит своих ближних. Об этом деятельном, гуманном аскетизме и помину нет ни у старца Зосимы, ни во всем романе. Так узко понимал автор религию и религиозный аскетизм!
Итак, автор неправ даже с его собственной точки зрения; он неверен тому принципу, которого держится. Но затем самая его точка зрения совсем неправа, и самый принцип его совершенно несостоятелен. Не разбирая этого принципа по существу, мы скажем только, что он идет вразрез с господствующим духом времени, с направлением науки и жизни, что он направляется против течения всей новой истории. Религия, или, в частности, церковь с монастырем и гражданское общежитие, или, пожалуй, государство, имеют хотя, может быть, и не противоположные, но во всяком случае строго различные задачи; они могут помогать друг другу, но не могут отождествить своих целей. Это уже элементарная азбучная истина современной истории. Церковь имеет в виду небо и вечность, а государство – землю и временную жизнь; для церкви земное благосостояние имеет мало значения, если оно не содействует вечному спасению, а для государства земное благосостояние есть единственная цель без всякого отношения к вечности. В то время когда умственное и гражданское развитие стояло на низкой ступени, церковь и государство сливались между собою, и церковь имела даже преобладающее, даже господствующее значение. Насколько гибельно было такое слияние – это хорошо известно Великому инквизитору; во всяком случае оно породило не меньше, если даже не больше, бед, чем сколько порождено их гордостью и превозношением ума. Весь прогресс умственной и государственной жизни в том именно и состоял, что она постепенно все больше и больше секуляризовалась, освобождалась от преобладающего влияния церкви и монастыря. Это освобождение стоило стольких тяжелых трудов и громадных усилий, что цивилизованное человечество слишком дорожит своим приобретением и по всем признакам не откажется от него, если только не остановится в своем развитии и не захочет идти назад к средним векам. Ставя религию и церковь в основу гражданского общества, мыслители, подобные Достоевскому, воображают, что в данном гражданском обществе существует только одна религия и церковь, подобно тому как существует один закон, один гражданский строй. Но ведь под покровом одного закона обыкновенно живет несколько религий и церквей, и если весь строй жизни будет регулироваться преобладающим или исключительным влиянием одной из них, то это будет несправедливостью относительно других, как было бы несправедливостью неравенство гражданского закона.
Еще неосновательнее основывать всю жизнь как частного лица, так и целого гражданского общества на одной только стороне религии, на монастыре и аскетизме, и притом только на одном виде аскетизма, теоретическом или субъективно-мистическом. «Отсекай потребности, бичуй волю, повинуйся и терпи, отрекись от своей личности, умри нравственно» и т. д. Но, спрашивается, во имя чего же и для какой цели будет это делать человек? Говорят, что это необходимо для его же собственного счастья, что это и есть та желанная и искомая реформа, которая улучшит сразу его частную и общественную жизнь. Но у многих людей такое понятие о счастье, что они ни за что не сочтут счастьем того, что покупается такою дорогою ценою, отречением от своей личности, так как самую эту цену они считают своим счастьем. Эта реформа тоже совершенно противна современному духу. Чем более развивалось человечество в умственном и политическом отношении, тем более оно ценило человеческую личность и ее самобытность. То же и в субъективном отношении: чем выше и развитее личность, тем более она дорожит своею самостоятельностью; чем сильнее ум, чем лучше понимает он великие деяния и подвиги ума, тем ревнивее охраняет он самостоятельность умственной деятельности и ее независимость от всякого другого контроля, кроме опыта и его собственных законов. В обществе, стоящем на низкой степени развития, люди охотно отказывались от своей воли и были рабами, если за ними обеспечивался кусок хлеба и вообще материальное содержание. Но возьмите образованных древних греков; они выше всего ставили личную и общественную свободу и независимость, для которых готовы были жертвовать не только куском хлеба, но всем своим состоянием, спокойствием и даже самою жизнью. В древнем Риме невежественная и развращенная столичная чернь охотно предлагала себя в рабы тому, кто даст ей хлеба и зрелищ; но более развитые и образованные римляне имели совершенно другие расположения и свои идеалы выражали в следующих изречениях, не потерявших своей обаятельности и до настоящего времени: potior visa est periculosa libertas quieto servitio или malo mori quam foedari. И в наше время есть люди, которые всегда готовы продать свою независимость и заложить свою волю, которые «предпочитают обеспеченную зависимость необеспеченной независимости», как выражается г. Энгельгардт о сельских батраках. Но такие люди не принадлежат к числу лучших и умных людей. Напротив, чем развитее человек, чем больше у него ума и характера, тем сильнее бывает он проникнут сознанием собственного достоинства, тем ревнивее оберегает свою личность и возмущается всяким подчинением ума и воли. Его идеал – не самоотречение и послушание, а самостоятельность и свободное самоопределение. Повторяем, аскетизм, требующий иезуитского повиновения и отречения, противен современному духу, современным понятиям и всем инстинктам образованного и развитого человека.
Во всех последних рассуждениях мы предполагали, что человек за свое самоотречение и послушание получает какую-нибудь плату, материальное обеспечение, спокойствие, удовольствия зрелищ и т. п. Но вообразите, что после того, как вы избичевали и свою волю и всю свою личность всякими послушаниями и собираетесь требовать за это должную награду, вам вдруг отвечают: «А ты лучше отсеки-ка свои потребности». В таком случае бичевание и самоотречение есть просто нелепость, недостойная не только разумного существа, но даже и животного. Говорят ведь, что звери и птицы предпочитают даже скудную, полуголодную свободу золотым клеткам, заваленным самыми привлекательными для них яствами.
Разбирать роман с эстетической точки зрения мы не станем. Мы признаем в нем весьма мало художественности, гораздо меньше, чем было ее в прежних произведениях Достоевского. Чтобы это наше суждение не показалось пристрастным и подсказанным нам нашим крайним нерасположением к тенденции романа, мы приведем отзыв об нем совершенно постороннего и совсем чужого человека, именно француза Ж. Флери, напечатанный в «Revue Politique et Litteraire».
«Отличительная черта всех действующих лиц у Достоевского – это абсолютное отсутствие логики. Каждый из них имеет свою теорию и воображает, что следует ей; они все утверждают, что имеют цель. Но этого ничего нет; они отдают себя на произвол событий; только каждый из них идет туда, куда толкает его натура. Такое отсутствие логики было и у самого Достоевского. Что портит все его романы и особенно последний – это совершенный недостаток цельности и единства. Автор берет свой сюжет только за один какой-нибудь конец. Когда ему представится любопытный характер или сцена, могущая сделаться интересною, то он и следит за этою попавшеюся ему жилою, не заботясь о целом; бесцельные рассуждения, бесполезные описания накопляются массами; какой-нибудь неожиданно появившийся эпизод принимает громадные размеры и надолго отвлекает внимание от главного предмета. Вследствие этого некоторые читатели бросают книгу, не дочитавши ее до конца. Более бесстрашные и более благоразумные читают ее с перерывами, от времени до времени откладывают ее в сторону, чтобы снова приняться за нее потом. Другой не менее существенный недостаток тот, что Достоевский все доводит до крайности, до излишества. Его лица нарисованы строго и дышат реальностью; но все они как будто поражены какою-нибудь умственною болезнью, которая позволяет им видеть вещи только в одном направлении. Большая часть из них маниаки, каждый в своем роде. Его психология есть часто психиатрия, и чтение его сочинений производит иногда впечатление кошмара. Третий недостаток, являющийся только в произведениях последней эпохи, есть злоупотребление политическими рассуждениями и мнениями о злобах дня, слишком часто прерывающими рассказ».
С этим мнением, не представляющим, впрочем, ничего нового и оригинального, согласится каждый, имевший терпение осилить рассмотренный роман. Это мнение даже снисходительно, потому что в него не внесен еще один недостаток романа – это совершенная неестественность его лиц и их действий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































