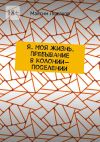Текст книги "По Союзу Советов"

Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
– Лошадей у нас пятьсот голов, но этого мало. Поросят продаём на материк, масло – тоже. Скот уже и теперь снабжает нас достаточным количеством удобрения, – говорит заведующий.
Он, видимо, человек типа таких «одержимых», уверенных в победоносной силе науки, каким был Лютер Бербанк и каков есть наш удивительный Мичурин.
– Плохой земли нет, есть плохие агрономы, – сказал он, и веришь, что это так и есть.
Тут кстати вспомнить, что на другом конце Союза Советов, около Астрахани, другой агроном с негодованием, но в то же время и с радостью убеждал меня:
– Мы хозяйствуем на земле, всё ещё как дикари, – хищнически, грубо. Вы представить себе не можете, как отчаянно истощает почву крестьянин убожеством своей обработки, это, знаете, – государственное бедствие! И вообще – ужас! Совершенно не утилизируются отбросы городов, сотни тысяч тони окиси фосфора – огромнейшее богатство! – бесплодно погибает в помойных ямах, – вы понимаете? – сотни тысяч тонн фосфора, а? А ведь он взят у земли и его необходимо возвращать ей, – понимаете?
Из всего, о чём он пламенно говорил, я хорошо почувствовал одно: это говорит талантливый человек, хороший работник. Таких, как этот, я встретил несколько человек. Это крепкая, здоровая молодёжь – значительнейшая культурная сила нашей страны. Большое дело делают эти люди, работа их заслуживает серьёзнейшего внимания и всемерной помощи.
Заразителен их пафос, когда они рассказывают о росте «рентабельных культур», о кендыре, кенафе, [9]9
лубяные растения, родственники конопли – Ред.
[Закрыть] люфе [10]10
тыквенное растение, используется для приготовления отличных мочалок – Ред.
[Закрыть], о рисосеянии, о культуре хлопка в Астраханской области и на Украине, о шелководстве.
Руководитель астраханской опытной станции, обожжённый солнцем человек, которому очень надоели посетители, мешающие работать, с победоносной улыбочкой рассказывал о жадности, с которой крестьяне взялись за культуру кенафа.
– Хватают! Умнеет мужичок. Гектаров тысячу засеяли уже.
Работать советскому агроному приходится много, спрос крестьянства на его труд и знания быстро растёт. Удивляешься, когда успевают молодые агрономы-практики следить за наукой, – но, видимо, следят, я решаюсь сказать это потому, что слышал их суждения о «Геохимии» В. И. Вернадского.
Расскажу, как один из агрономов сконфузил меня. Это было в Сорренто. Я чистил дорогу к заливу, когда ко мне подошёл розовощёкий, светловолосый и чистенько одетый молодой человек. Мне показалось, что это – норвежец, швед или датчанин. Рассчитывая отдохнуть от работы пером на работе лопатой и граблями, я встретил его не очень любезно. Но он заговорил по-русски. Значит – служащий торгпредства, получил отпуск, путешествует. И снова я ошибся: он – украинец, работает по культуре винограда на Кубани, командирован изучать виноградарство в Европе, был на Рейне и Мозеле, в Шампани и Бордо, обследовал Тоскану и вот явился сюда, на юг. Естественно было спросить его: какого же он мнения о виноградарстве Италии? Спросил. И в ответ юноша с изумлением произнёс горячую речь, свирепо издеваясь над итальянской культурой винограда. Окончательный его вывод был прост, как шар: никакой культуры винограда в Италии нет.
– Можно только удивляться терпению здешней лозы и плодородию почвы, а крестьяне-виноградари – варвары, – так, приблизительно, сказал он. Это совпадало с моими небогатыми наблюдениями, но всё же я подумал, что юноша чрезмерно свиреп и немножко смешно заносчив.
– Сколько вам лет? – осведомился я.
– Двадцать шесть.
– Давно работаете в этой области?
– Четвёртый год.
– Вам, вероятно, известно, что культура винограда насчитывает здесь за собою тысячи две лет?
– Ну, что же! И пшеницу давно сеют, но ведь тоже плохо, – сказал он, вздохнув, и – покраснел. А затем ошеломил меня:
– Вы полагаете, что я горячусь по молодости моей? Нет, видите ли, у меня уже кое-какие работы напечатаны на немецком языке, я вам пришлю, если интересуетесь…
Прислал. Мне перевели его работы на русский язык, узнал я и оценку их компетентными людьми. Очень смущён моим недоверием к нему и нелюбезным приёмом. Но – зачем он так возмутительно молод!
Возвращаясь на Соловецкий остров, должен отметить заведующего питомником чернобурых лисиц, песцов и соболей. Он тоже бывший заключённый и тоже «схвачен делом за сердце». Зверей своих трогательно любит, любуется ими и заставляет любоваться. – «Нет, смотрите – очень красивы!»
Сумел приручить даже такое недоверчивое, злое существо, какова лиса, – она влезает на колени, на плечо ему, берёт пищу из рук и не прячет, не загоняет детёнышей своих в нору, когда к её клетке подходят люди. Совершенно изумительна бесшумная, нервозная быстрота движений лисы и её зоркая, напряжённая, умная заботливость о буйном потомстве, тоже поражающем неуловимой стремительностью движений. Тупомордый, коротконогий песец, с его круглыми ушами, более спокоен и кажется более зверем, чем лиса, да и глаза у него не такие умные.
Питомник устроен на отдельном острове, до него нужно ехать в лодке более часа по сизой, холодной воде Глубокой губы – пролива между островами. Гребли два бандита, на корме сидел убийца, на носу фальшивомонетчик. Бандиты, видимо, люди угрюмого характера, убийца – большой, бородатый, толстогубый, с полуоткрытым ртом и гнилыми зубами, глаза у него странно-пустые, как будто лишены зрачков. Фальшивомонетчик – худенький, остроносый, всё время тихонько чмокал, как будто понукая лошадь, – подумалось, что ему кажется: едет ночью лесом и боится всех звуков, даже чмокнуть громко боится. У него лицо доброго человека, которому, впрочем, «наплевать на всё».
Питомник – целый город, несколько рядов проволочных клеток, разделённых «улицами», внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы, в каждой клетке привычная зверю «обстановка», деревья, валежник. Не все звери прячутся от людей, лишь некоторые лисы загоняют детёнышей в домики-норы. Соболиха, у которой взяли кутёнка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую, конусообразную голову, фыркая, оскаливая острые, щучьи зубы.
– Очень дикий зверь, – любовно говорит заведующий. И затем – с гордостью: – Видите – принёс детёныша! Первый случай. Американцам ещё не удалось получить потомство от соболя.
Он кормит малышей рыбой, некоторым из них вливает в глотки лекарство, и, проглотив его, они, мотая головёнками, прыгают, точно мячи. Матерей это, видимо, не беспокоит.
Заведующий рассказывает о характерах зверей, о капризах самцов.
– Вот – видите: мы его подсадили к этой самочке, а он равнодушен к ней, он, видите, интересуется её соседкой, хотя она не такая крупная, как эта. Как люди, а?
Он тихонько смеётся, а я вспоминаю Шопенгауера: если «маленькие мужчины любят больших женщин», очевидно, большие должны любить маленьких. Заведующего сопровождает женщина-ветеринар, две студентки, приехавшие на практику звероводства, рабочие и неизбежный, вездесущий фотограф. Эти люди, жена заведующего и ещё один рабочий – всё человеческое население острова. Пьём чай и возвращаемся на большой остров. Холодно. С моря дует неласковый ветерок, озорниковато нагоняя волны на борт лодки. Над нами летает чайка. Иногда с воды поднимаются утки, пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду, точно окрылённые камни.
Рядом со мною сидит человек из породы революционеров-«большевиков» старого, несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моём уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнёсся бы к такому «излиянию чувств» недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность.
Молочным хозяйством заведует старый священник, кажется, протоиерей. Большой, благообразный, он солидно говорит о сепараторах, казеине, молочном сахаре, щелочных солях. На бородатом лице его сосредоточенно светятся под седыми бровями глаза человека, который давно остановился где-то очень далеко от людей и едва ли видит их такими, каковы они есть.
В просторном помещении как-то особенно чисто и прохладно. За стеклом шкафа, на полочках, ряд пробирок, колбочки, какие-то металлические вещицы. Рядом с этой «лабораторией», отделённый от неё узким коридором, – холодильник, в нём, на льду, огромные куски масла, корчаги творога.
– Добыча дня, – говорит священник, ударяя на «о». Он живёт тут же, рядом с лабораторией, в маленькой комнатке; в ней много икон, горит лампада, на столе – несколько церковных старопечатных книг, у стены – постель; в общем это – типичная келья монаха.
– Знающий человек, хорошо работает, – говорят мне.
Такой же отзыв услышал я о заведующем конским заводом, бывшем офицере Колчака. Показывая лошадей, он говорил о каждой так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтоб лошадь поблагодарили за то, что она такова.
– Вы, конечно, не кавалерист, – с большим сожалением сказал он одному из посетителей, и было ясно, что он говорит: «Понять, что такое – конь, вы, конечно, не способны, несчастный!»
Затем он показал борова весом 432 килограмма, существо крайне отвратительное, угрюмо самодовольное. Его тяжестью и способностью к размножению свиней весьма гордятся. Свиней – очень много, и, как везде, они, видимо, вполне довольны жизнью, но, разумеется, – хрюкают.
В кустарной мастерской десятка три людей делают различные шкатулки, коробочки. Старинное мастерство монахов – «туеса», «поставцы», игрушки из бересты, вырезанной, точно кружево, с разноцветной фольгой, подложенной под бересту, – это мастерство, очевидно, забыто. Жаль. Иностранцы, падкие на «варварское, но прекрасное искусство русского народа», покупали бы эти вещи так же «нарасхват», как они покупают всё подобное, начиная с изумительных по красоте работ палеховских мастеров, бывших «богомазов». Работой из фольги и бересты можно бы занять женщин – это весьма «тонкая» работа.
Посвистывают, сопят и фыркают маленькие паровозы, таская по узкоколейкам лес, торф, шпалы, прокладываются новые пути, люди роют землю, дробят булыжник, месят бетон, рубят дерево, на крыше электростанции шипит какая-то трубка. Едут молодцеватые пожарные, «проминая» застоявшихся лошадей.
На большой поляне идёт выработка торфа, здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах быстро, лопатами, бросают в машину огромные куски жирной грязи, машина выпускает её толстой лентой, ленту рубят на куски, отвозят их на тачках прочь, раскладывают по земле, – всё идёт «без сучка, без задоринки». Мне говорят:
– Обратите внимание на сапоги рабочих!
Обращаю. Сапоги, конечно, очень грязные. Но мне объясняют, что они – из кожи, не пропускающей сырость. В доказательство сего один из рабочих снимает сапог, – портянка действительно сухая. Узнаю, что кожа пропитывается водой, отходящей при выработке смолы; молекулы смолы, остающейся в воде, поглощаются кожей, делают её более ноской и не пропускающей сырость.
– Сами придумали!
– А не годится ли это для брезентов, для обуви армии и так далее?
– Неизвестно, не пробовали! Много у нас есть такого, что в одном месте – делают, а в других – не пробуют делать. Мало мы знакомы со всем разнообразием работы в нашей стране и с достижениями изобретательства в различных областях труда.
На торфе работает немало женщин в серых халатах, они же ворошат сено, неподалёку от разработки торфа. Там они одеты «в своё», довольно пёстро, и вызывают очень странное впечатление, – глядя на них, я вспомнил «Сказание о сеножатех» Лескова.
В женском двухэтажном общежитии, должно быть, монастырской гостинице, старостихой оказалась женщина из семьи, одним из членов которой был знаменитый в своё время французский карикатурист Каран д'Аш. Брат его командовал судном добровольного флота «Нижний-Новгород», сестра была актрисой, кажется, Александрийского театра, а третий брат служил поваром у нижегородского губернатора Баранова и за искусство жарить тетеревов назначен был сначала околоточным надзирателем, а затем – помощником частного пристава.
Старостиха показывает нам комнаты женщин, в комнатах по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана «своим», – свои одеяла, подушки, на стенах – фотографии, открытки, на подоконниках – цветы, впечатления «казёнщины» – нет, на тюрьму всё это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля.
В верхнем этаже общежития, должно быть, сосредоточены женщины, работающие «по линии культуры»: в театре, музее. Мне сказали, что большинство их контрреволюционерки, есть и осуждённые за шпионаж.
Партийных людей, – за исключением наказанных коммунистов, – на острове нет, эсеры, меньшевики переведены куда-то. Подавляющее большинство островитян – уголовные, а «политические» – это контрреволюционеры эмоционального типа, «монархисты», те, кого до революции именовали «чёрной сотней». Есть в их среде сторонники террора, «экономические шпионы», «вредители», вообще «худая трава», которую «из поля – вон» выбрасывает справедливая рука истории.
В комнатах верхнего этажа женщин было немного, – пять, шесть, остальные, вероятно, где-то работали. В нижнем их оказалось значительно больше, и, судя по одежде, по обстановке, они были «попроще». Одна из них, молодая, пышнотелая, с большими глазами, встретила старостиху злым криком:
– Опять пришла, проклятая! Что же это, товарищи, вы ставите над нами интеллигенток? Как это…
Из её тёмных глаз легко и обильно потекли слёзы. Пожилая женщина с длинным носом на сером лице начала пренебрежительно» успокаивать её:
– Ну, что скандалишь, чем тебе люди мешают? Радоваться должна… – И, обращаясь к нашей группе, – объяснила:
– Нервы у неё, срок она кончила, сегодня домой едет, ну, вот и шумит…
Молодуха, разговаривая, уже улыбалась и, смахивая слёзы со щёк, обнаружила на белой коже руки, ниже локтя, сложную, весьма неблагочестивую татуировку.
– Это что у вас?
– Ну, не видишь будто! Наколочка, – кокетливо ответила она, смеясь, и этот её слишком быстрый переход от слёз к смеху вызвал сомнение в искренности и смеха и слез. А носатая женщина угодливо объясняла:
– Дурашливая она, а – хорошая, добрая…
– За что она здесь? – тихо спросил кто-то за моей спиной, – носатая не успела ответить, рядом с нею очутилась высокая, костлявая, в белом платочке до бровей, платок резко оттенял чёрные, круглые глаза.
– Мы этим не интересуемся, – заговорила она тоже тихо. – У всякой своё клеймо. Клеймят и клеймят, а – за что? Это никому, кроме бога, не известно…
Тут вступилась молодуха:
– Ты – не знаешь, за что тебе хвост прищемили, не знаешь? – иронически спросила она.
Мы все вышли из комнаты. В коридоре признала меня земляком дородная баба, лет за сорок, с жестяными глазами на толстом лице.
– Чай, слышали про нас, – она назвала незнакомую мне фамилию, – мы тоже заметные люди были в Нижнем-то! Помните поговорочку: «Чай, примечай, откуда чайки летят»?
В одну минуту она, усмехаясь, мигая, рассказала бойко, точно базарная торговка:
– На десять годков сюда послали, – пошутил господь! Будто рабочих выдавала я, жандаров прятала в осьнадцатом году, что ли, а – неверно это, неправда всё, наговорили на меня злые люди! Ну, ничего, потерплю…
– Трудно вам здесь?
– Везде трудно, – осторожно ответила она и повторила: – Пошутил господь, терпенье моё испытывает. Ну, я – здоровая, душой весёлая…
Говоря, она привычно играет остреньким взглядом жестяных глаз, они холодно щупают человека, точно ищут, куда лучше ударить. Она заставляет меня вспомнить много таких же – по внешности, по глазам. И одну такую на скамье подсудимых нижегородского окружного суда, «казённоподзащитную» моего патрона. Председатель спросил её:
– Итак: вы не признаёте, что сидели на ногах племянника, когда ваш сожитель душил его?
– Господин судья, ваше превосходительство! Оговорил он меня, сожитель, и оттого – помер, совесть, конечно, замучила! Кроме его – виновных нет в этом деле, а я за всенощной в церкви была.
– Установлено, что племянник ваш задушен после всенощной; в девять часов его видели ещё живым.
Перекрестясь и вздохнув, подсудимая говорит:
– Не обижайте беззащитную, ваше превосходительство! Разве можно, помолясь богу, человека душить?
Но беззащитная женщина именно так и поступила: помолилась богу, а затем, придя домой, помогла приказчику, любовнику своему, удушить племянника-гимназиста, – смерть его делала «беззащитную» наследницей солидного имущества. А когда приказчика арестовали – она послала в тюрьму для него пирожок, отравленный каким-то ядом, приказчик съел его и помер, но успел подробно рассказать о преступлении. Из его показания была прочитана в суде, между прочим, такая фраза:
«Я душил, а она молитву читала».
Были мы на концерте в театре, он помещается в кремле, устроен, должно быть, в расширенном помещении бывшей «трапезной». Вмещает человек семьсот и, разумеется, «битком набит». «Социально опасная» публика жадна до зрелищ, так же как и всякая другая, и так же, если не больше, горячо благодарит артистов.
Концерт был весьма интересен и разнообразен. Небольшой, но хорошо сыгравшийся «симфонический ансамбль» исполнил увертюру из «Севильского цирюльника», скрипач играл «Мазурку» Венявского, «Весенние воды» Рахманинова; неплохо был спет «Пролог» из «Паяцев», пели русские песни, танцевали «ковбойский» и «эксцентрический» танцы, некто отлично декламировал «Гармонь» Жарова под аккомпанемент гармоники и рояля. Совершенно изумительно работала труппа акробатов, – пятеро мужчин и женщина, – делая такие «трюки», каких не увидишь и в хорошем цирке. Во время антрактов в «фойе» превосходно играл Россини, Верди и увертюру Бетховена к «Эгмонту» богатый духовой оркестр; дирижирует им человек бесспорно талантливый. Да и концерт показал немало талантливых людей. Все они, разумеется, «заключённые» и работают для сцены и на сцене, должно быть, немало. Не знаю, как часто устраиваются такие обширные концерты, как тот, в котором я был. На афише сказано: «Театр 1 отделения», очевидно, театр «2 отделения» ставит пьесы или же существуют два театра.
Пьес я не видел, но видел фотографии постановок «Декабристов», «Разлома». Постановки, видимо, интересные и в стиле весьма левом, сцена загромождена различными «конструкциями», и всё вообще – «как в лучших театральных домах», где иногда – вместо искусства – публике показывают со сцены стилизованный кукиш.
В кремле Соловецкого острова, кроме театра, сосредоточены школы, довольно богатая библиотека и музей, отлично организованный Виноградовым, тоже бывшим заключённым, автором интересного исследования о «Соловецких лабиринтах», таинственном остатке древнего язычества. Музей, показывая историю Соловецкого монастыря, даёт полную картину разнообразного хозяйства СЛОН-а – «Соловецкого лагеря особого назначения». Ведётся на острове краеведческая работа, печатается журнал, издавалась газета, но издание её на время прекращено.
Конечно, остров – не тюрьма, но, разумеется, с него – не убежать, хотя газеты эмигрантов и печатают статейки, озаглавленные: «Бегство из Соловок». В одной из таких статеек сказано: «Отойдя 26 километров от места работы, беглецы…» На острове, который имеет 24 километра длины и 16 ширины, совершенно невозможно отойти «от места работы» на 26 километров. Даже эмигрант поймёт, что в этом случае беглецы попадают в воду Онежского залива или в море, а, как известно, только «пьяным море по колено», но и это ведь нельзя понимать буквально. По волнам залива тоже невозможно пройти пешком 64 километра.
«Бегают» – точнее: уходят – островитяне с материка, из «командировок», уходят редко и почти всегда неудачно. На материке они работают во множестве по расчистке лесов, по лесозаготовкам, по осушению болот, по созданию условий для колонизации пустынного, но изумительно богатого края. Работают под наблюдением своих же товарищей. Одного из таких стражей я видел по дороге из Кеми в Мурманск. Наш поезд остановился далеко от станции, – впереди чинили мост, размытый рекою. Пассажиры вышли из вагонов на опушку болотистого леса, живо собрали кучу сушняка, человек с курчавой бородой, похожий на В. Г. Короленко, зажёг коробку из-под папирос, сунул её под сушняк и сказал верхневолжским говорком:
– Нуко-сь, посушим небо-то!
В сыроватое, недалекое небо взвился густой бархатный дым, а человек сразу дал понять, что он много костров разжигал на своём веку. Люди присели вокруг огня на валуны, на рассыпанных старых шпалах, кто-то, подходя, спросил:
– Комарей жарите?
Очень заметно, что «простой» русский человек читает газеты. Ему хорошо известно почти всё, чем наполнено время, мир для него стал шире, яснее, и в широте мира начинает он чувствовать себя большим человеком. Он спрашивает:
– Ну, а как там – в Италии?
Завязалась интересная беседа, и тут из леса вышел человек с винтовкой, в шинели, но – мало похожий на красноармейца, не так аккуратно одет и не такой ловкий, лёгкий. Шинель – старенькая, расстёгнута, под нею пиджак, подпоясанный ремнём. Фуражка измята, винтовку он держит, как охотник, – под мышкой, дулом вниз. Лицо – тёмное, и как будто он давно не умывался; брови досадливо и устало нахмурены. Попросил папироску, а когда ему дали – сказал:
– Свои уронил в воду. Ой, много болота здесь!
– Ты откуда?
– Воронежский.
– Ваши места – сухие.
Человек сел на камень, винтовку зажал в коленях и, покуривая, задумчиво глядя в огонь, спросил нехотя, скучно:
– Не видали, по пути, двоих?
– Гораздо больше видели, – усмешливо ответил мастер разжигать костры, а дорожный сторож, крепкий, маленький человек, с шерстяным лицом и трубочкой в углу рта, участливо объяснил:
– У него двое товарищей с работы ушли, вот в чём дело! Тут кругом, в лесу, соловецкие работают, а он – тоже из них. Теперь ему отвечать придётся…
– Отвечать есть кому старше меня, – сердито вставил человек с винтовкой.
– Ну, они, конечно, вернутся, всегда вертаются! В лесах этих долго не нагуляешь, комар – не товарищ, кушать нечего, ягодов ещё нету, да и поселенец гулящих не любит…
– Часто уходят? – спросили человека с винтовкой.
– Бывает, – сказал он, вздохнув, но тотчас же усмехнулся. – В лесу, знаете, прискорбно, а тут всё больше городской народ работает, к лесу не привычный.
Словоохотливый сторож тоже рассказывает что-то военнопленному австрийцу, который оброс семьёй и укрепился в этом краю. Стражник, бросив окурок в огонь, продолжал:
– Бывает – по глупости плутают, черти! Иной, с устатку, заснёт где-нибудь, проспит до конца работы, проснётся, а – тихо, никакого звуку нет и – сумрак, прискорбно. Ну, и пошёл шагать, куда страх ведёт…
Кто-то посоветовал:
– В трубу трубить надо.
– Всю ночь трубить?
– Ну колокол, что ли…
От улыбок лицо человека стало светлее, он как бы незаметно умылся. Теперь видно, что лицо у него добродушное, тёмные глаза смотрят на людей мягко и доверчиво.
– За побеги строго наказывают? – спросили его.
– А – не хвалят.
– Ежели тебе доверие оказано – должен оправдать, – вмешался сторож, а человек, похожий – бородой – на Короленко, сказал, вздохнув:
– Всё ещё темно в мозгах.
– Ох, темно! – подтвердила женщина с ребёнком на руках.
– Не хвалят, – повторил человек с винтовкой, вставая, и тяжёлыми шагами пошёл в сторону станции.
– У них, надо понимать, порука, – заговорил сторож. – Их учат: отвечай все за каждого.
– Так и надо! – скрепил бородатый.
Поезд стоял часа два, если не больше; люди у костра сменялись, уходили одни, подходили другие, но почти не было пустых людей, которые ничего интересного не могут сказать.
Буржуазная наука говорит, что преступление есть деяние, воспрещённое законом, нарушающее его волю путём прямого сопротивления или же путём различных уклонений от подчинения воле закона. Но самодержавно-мещанское меньшинство, командуя большинством – трудовым народом, – не могло, не может установить законов, одинаково справедливых для всех, не нарушая интересов своей власти; не могло и не может, потому что главная, основная забота закона – забота об охране «священного института частной собственности» – об охране и укреплении фундамента, на котором сооружено мещанское, классовое государство.
Чтобы прикрыть это противоречие, буржуазная наука пыталась даже обосновать и утвердить весьма циническое учение о «врождённой преступности», которое разрешило бы суду буржуазии ещё более жестоко преследовать и совершенно уничтожать нарушителей «права собственности». Попытка эта имела почву в беспощадном отношении мещан к человеку, который, чтоб не подохнуть с голода, принужден был воровать у мещан хлеб, рубашки и штаны.
Я говорю это не «ради шутки», а потому, что заповедь «не укради» нарушалась и нарушается неизмеримо более часто, чем заповедь «не убий», потому что самым распространённым «преступлением против общества» всегда являлось и является мелкое воровство, в дальнейшем воров – как известно – воспитывает в грабителей буржуазная система наказания – тюрьма.
Учение о врождённой преступности было разбито и опровергнуто наиболее честными из учёных криминалистов, главным образом – русскими. Но в «духовном обиходе» мещанского общества, то есть в классовом инстинкте его, отношение к преступнику как неисправимому, органическому врагу общества остаётся непоколебимым, и тюрьмы европейских государств продолжают служить школами и вузами, где воспитываются профессиональные правонарушители, «спецы» по устрашению мещан, ненавидимые мещанством, «волки общества», как назвал их недавно один прокурор в суде провинциального городка Германии.
Разумеется, я не стану отрицать, что существуют благочестивые звери, которые душат людей с молитвой на устах. Бытие таких зверей вполне оправдано в государствах, где жизнь человека равна нулю, где самодержавно командующее мещанство безнаказанно истребляет миллионы рабочих и крестьян, посылая их на международные бойни с пением гимна: «Спаси, господи, люди твоя»…
В Союзе Социалистических Советов признано, что «преступника» создаёт классовое общество, что «преступность» – социальная болезнь, возникшая на гнилой почве частной собственности, и что она легко будет уничтожена, если уничтожить условия возникновения болезни – древнюю, прогнившую, экономическую основу классового общества – частную собственность.
Совнарком РСФСР постановил уничтожить тюрьмы для уголовных в течение ближайших пяти лет и применять к «правонарушителям» только метод воспитания трудом в условиях возможно широкой свободы.
В этом направлении у нас поставлен интереснейший опыт, и он дал уже неоспоримые положительные результаты. «Соловецкий лагерь особого назначения» – не «Мёртвый дом» Достоевского, потому что там учат жить, учат грамоте и труду. Это не «Мир отверженных» Якубовича-Мельшина, потому что здесь жизнью трудящихся руководят рабочие люди, а они, не так давно, тоже были «отверженными» в самодержавно-мещанском государстве. Рабочий не может относиться к «правонарушителям» так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым, инстинктивным врагам, которых – он знает – не перевоспитаешь. И враги очень усердно убеждают его в этом. «Правонарушителей», если они – люди его класса – рабочие, крестьяне, – он перевоспитывает легко.
«Соловецкий лагерь» следует рассматривать как подготовительную школу для поступления в такой вуз, каким является трудовая коммуна в Болшеве, мало – мне кажется – знакомая тем людям, которые должны бы знать её работу, её педагогические достижения. Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из «культурных» государств Европы и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили, – государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своём в деле «реорганизации психики преступника» как о достижении, которое имеет глубочайшую социально-педагогическую ценность.
Мы, – по скромности нашей или по другой, гораздо менее лестной для нас причине? – мы не умеем писать о наших достижениях даже и тогда, когда видим их, пишем о них. Об этом неуменье я могу говорить вполне определённо, опираясь на редакционный опыт журнала «Наши достижения».
Вот, например, работа Болшевской трудкоммуны. Это один из фактов, которые требуют всестороннего и пристального, смею сказать – научного, наблюдения, изучения. Такого же изучения требуют трудкоммуны «беспризорных». И там и тут совершается процесс коренного изменения психики людей, анархизированных своим прошлым; социально опасные превращаются в социально полезных, профессиональные «правонарушители» – в квалифицированных рабочих и сознательных революционеров.
Может быть, процесс этот, возможно, и следует расширить, ускорить, может быть, Бутырки, Таганки и прочие школы этого типа удастся закрыть раньше предположенного срока?
Болшевская трудкоммуна черпает рабочую силу в Соловецком лагере и в тюрьмах. Соловки, как я уже говорил, – крепко и умело налаженное хозяйство и подготовительная школа для вуза – трудкоммуны в Болшеве.
Мне кажется – вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки, и такие трудкоммуны, как Болшево. Именно этим путём государство быстро достигнет одной из своих целей: уничтожить тюрьмы.
Здесь кстати будет сказать о хозяйственном росте трудкоммуны в Болшеве. В 28 году я видел там одноэтажный корпус фабрики трикотажа, в 29 – фабрика выросла ещё на один этаж, оборудованный станками самой технически совершенной конструкции. В 28 – яма для фундамента фабрики коньков, в 29 – совершенно оборудованная, одноэтажная светлая и просторная фабрика с прекрасной вентиляцией. Кроме всего количества коньков, потребных для страны, фабрика будет вырабатывать малокалиберные винтовки. И те и другие ввозились из-за границы. За год построено отличное, в четыре этажа, здание для общежития членов трудкоммуны. Строится ещё четыре таких же.
Трудкоммуна строит склады для своей продукции из своего материала – из древесной стружки, прессованной с продуктом, который добывается из «рапы», – грязи соляных озёр. Это – огнеупорный строительный материал, из него уже построено и несколько жилых домов. В колонии строится здание для клуба, театра, библиотеки. К ней проведена ветка железной дороги. Сделано ещё многое. И, когда видишь, сколько сделано за двенадцать месяцев, с гордостью думаешь:
«Это сделано силами людей, которых мещане морили бы в тюрьмах».