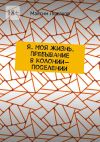Текст книги "По Союзу Советов"

Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Новый тип педагога уже нашёл своё отражение в литературе, намёки на этот тип есть в книге Огнева «Дневник Кости Рябцева» и даже в страшноватом рассказе талантливой Л. Копыловой «Химеры».
Старая наша литература от Помяловского до Чехова дала огромную галерею портретов педагогов-садистов и равнодушных чиновников, людей «в футляре», она показала нам ужасающую фигуру Передонова, классический тип раба – «мелкого беса». В старой художественной и мемуарной литературе так же редко и эпизодически, как в действительности, мелькает учитель, который любил своих учеников и понимал, что дети сего дня – завтра будут строителями жизни, завтра начнут проверять работу отцов и безжалостно обнаруживать все их ошибки, их двоедушие, трусость, жадность, лень.
Мне посчастливилось видеть в Союзе Советов учителей и учительниц, которые, работая в условиях крайне трудных, жестоко трудных, работают со страстью и пафосом художников.
Я был в Куряжском монастыре летом 91 года, беседовал там со знаменитым в ту пору Иоанном Кронштадтским. Но о том, что я когда-то был в этом монастыре, я вспомнил лишь на третьи сутки жизни в нём, среди четырёх сотен его хозяев, бывших «беспризорных» и «социально опасных», заочных приятелей моих. В памяти моей монастырь этот жил под именами Рыжовского, Песочинского. В 91 году он был богат и славен, «чудотворная» икона богоматери привлекала множество богомольцев; монастырь был окружён рощей, часть которой разделали под парк; за крепкими стенами возвышались две церкви и много различных построек, под обрывом холма, за летним храмом, стояла часовня, и в ней, над источником, помещалась икона – магнит монастыря. В годы гражданской войны крестьяне вырубили парк и рощу, источник иссяк, часовню разграбили, стены монастыря разобраны, от них осталась только тяжёлая, неуклюжая колокольня с воротами под нею; с летней церкви сняли главы, она превратилась в двухэтажное здание, где помещены клуб, зал для собраний, столовая на двести человек и спальня девиц-колонисток. В старенькой зимней церкви ещё служат по праздникам, в ней молятся десятка два-три стариков и старух из ближайших деревень и хуторов. Эта церковь очень мешает колонистам, они смотрят на неё и вздыхают:
– Эх, отдали бы её нам, мы бы её утилизировали под столовую, а то приходится завтракать, обедать и ужинать в две очереди, по двести человек, массу времени зря теряем.
Они пробовали завоевать её: ночью, под праздник, сняли с колокольни все мелкие колокола и расположили их на амвоне в церкви, устраивали и ещё много различных чудес, но всё это строго запретило им начальство из города.
С ребятами этой колонии я переписывался четыре года, следя, как постепенно изменяется их орфография, грамматика, растёт их социальная грамотность, расширяется познание действительности, – как из маленьких анархистов, бродяг, воришек, из юных проституток вырастают хорошие, рабочие люди.
Колония существует семь лет, четыре года она была в Полтавской губернии. За семь лет из неё вышло несколько десятков человек на рабфаки, в агрономические и военные школы, а также в другие колонии, но уже «воспитателями» малышей. Убыль немедленно пополняется мальчиками, которых присылает угрозыск, приводит милиция с улиц, немало бродяжек является добровольно; общее число колонистов никогда не спускается ниже четырёх сотен. В октябре прошлого года один из колонистов, Н. Денисенко, писал мне от лица всех «командиров»:
«Если бы вы знали, как у нас всё переменилось после вашего отъезда. Много старых наших колонистов вышли на самостоятельную жизнь: на производство, на рабфаки и ФЗУ. Совсем мало осталось старых ребят, все новенькие. Жизнь с новенькими, конечно, труднее наладить, чем с теми, которые уже привыкли к трудовой, общественной жизни. Дисциплина в колонии по уходе старших ребят стала упадать. Но мы, оставшаяся часть старших, не должны этого допустить и не допустим. Сейчас в нашей колонии вся школа перестроена, наново организована школа-семилетка, а для переростков школа учебных мастерских. Тяга к учёбе не слишком велика, но всё же из четырёхсот ни один не проходит мимо школьных дверей».
Сейчас в колонии шестьдесят два комсомольца, некоторые из них учатся в Харькове, один уже на втором курсе медицинского факультета. Но все они живут в колонии, – от неё до города восемь вёрст. И все принимают активное участие в текущих работах товарищей.
Четыреста человек разделены на двадцать четыре отряда: столяров, слесарей, рабочих в поле и на огородах, пастухов, свинарей, трактористов, санитаров, сторожей, сапожников и так далее. Хозяйство колонии: 43, – если не ошибаюсь, – гектара пахотной и огородной земли, 27 – леса, коровы, лошади, 70 штук породистых свиней, их весьма охотно покупают крестьяне. Есть сельскохозяйственные машины, два трактора, своя осветительная станция. Столяры работают заказ на взрывзавод – 12 тысяч ящиков.
Всё хозяйство колонии и весь распорядок её жизни фактически в руках двадцати четырёх выборных начальников рабочих отрядов. В их руках ключи от всех складов, они сами намечают план работ, руководят работой и обязательно принимают в ней личное, активное участие наравне со всем отрядом. Совет командиров решает вопросы: принять или не принимать добровольно приходящих, судит товарищей, небрежно исполнявших работу, нарушителей дисциплины и «традиции». Признанному виновным заведующий колонией А. С. Макаренко объявляет перед фронтом колонистов постановление совета командиров: выговор или назначение на работу не в очередь. Более серьёзные и повторные проступки: лень, упорное уклонение от тяжёлой работы, оскорбление товарища и вообще всякие нарушения интересов коллектива – наказываются исключением виновного из колонии. Но эти случаи крайне редки, каждый из совета командиров хорошо помнит свою жизнь на воле, помнит это и провинившийся, которому грозит жизнь в детдоме, учреждении, единодушно не любимом «беспризорными».
Одна из традиций колонии – «не заводить романов со своими девчатами». Она строго соблюдается, за всё время существования колонии была нарушена один раз, и это кончилось драмой – убийством ребёнка. Юная мать спрятала новорождённого под кроватью, и он задохся там, а она получила по суду «четыре года изоляции», но была отдана на поруки колонии и впоследствии, кажется, вышла замуж за отца ребёнка. Другая традиция: когда приводят мальчика или девочку из угрозыска, строго запрещается расспрашивать его: кто он, как жил, за что попал в руки уголовного розыска? Если «новенький» сам начинает рассказывать о себе – его не слушают, если он хвастается своими подвигами – ему не верят, его высмеивают. Это всегда отлично действует на мальчика. Ему говорят:
– Ты видишь: здесь – не тюрьма, хозяева здесь – это мы, такие же, как ты. Живи, учись, работай с нами, не понравится – уйдёшь.
Он быстро убеждается, что всё это – правда, и легко врастает в коллектив. За семь лет бытия колонии было, кажется, не более десяти «уходов» из неё.
Один из «начальников» Д. попал в колонию тринадцати лет, теперь ему семнадцать. С пятнадцати он командует отрядом в полсотни человек, большинство старше его возрастом. Мне рассказывали, что он – хороший товарищ, очень строгий и справедливый командир. В автобиографии своей он пишет:
«Бувши комсомольцем, захопився анархизмом, за що и був виключений». «Люблю життя, а йому наибильше музыку и книгу». «Люблю страшенно музыку».
По его инициативе колонисты сделали мне прекрасный подарок: двести восемьдесят четыре человека написали и подарили мне свои автобиографии. Он, Д., – поэт, пишет лирические стихи на украинском языке. Стихотворцев-колонистов – несколько человек. Издаётся отлично иллюстрированный журнал «Проминь», редактируют его трое, иллюстратор Ч., тоже «командир», человек безусловно талантливый и серьёзный, к таланту своему относится недоверчиво, осторожно.
Он – беженец из Польши и своё беспризорное существование начал восьми лет. Был в Ярославле в детколонии, но оттуда бежал и занялся работой по карманам в трамваях. Затем попал к технику-дантисту и у него «пристрастился к чтению и рисованию». Но «улица потянула», убежал от дантиста, захватив «несколько царских золотых монет». Растратил их на книги, бумагу, краски. Плавал по Белому морю помощником кочегара, но «по слабости зрения вынужден был сойти на берег». Работал «инструктором по сбору натурального налога» на Печоре, среди ижемских зырян, изучил язык зырян, жил у самоедов; перевалил на собаках через Уральский хребет в Обдорск, попал в Архангельск; воровал там, жил в ночлежке; затем стал писать вывески и декорации. Работал в изо, попутно приготовился за семилетку, подделал документы и поступил в вятский художественно-промышленный техникум. «Экзамен сдал одним из первых, а по живописи и рисованию был признан талантливым, но – не поверил в это». Выбрали в студенческий комитет, вёл культработу. Зимою, в каникулы, был арестован, «засыпался с документами, до весны просидел в исправдоме». Но и там не переставал работать над книгою, и там вёл культработу. Потом был репортёром «Северной правды».
Всё это рассказывается без хвастовства и, конечно, без тени желания вызвать сочувствие. Нет, рассказывается просто, так: шёл болотом, потом лесом, заплутался, вышел на просёлочную дорогу, песок, идти тяжело.
Пересказывать всю биографию Ч. – долго. Она, пока, закончилась тем, что вот он добровольно пришёл в колонию на Куряже, живёт там, деятельно работает, учится, учит маленьких. «По прежнему – хочу быть человеком, люблю книгу и карандаш», – говорит он. Это – красивый, стройный юноша в очках, лицо – гордое, говорит он кратко, сдержанно. Удивительно внимателен он с маленькими, удивительно мягок с товарищами, равными ему по возрасту. Может быть, это потому, что в жизни его был такой случай: в Архангельске он «познакомился с одним парнем, тоже художником, к тому же боготворившим литературу. Звали его Васькой. Но долго прожить с ним не пришлось, он повесился, наколов на груди своей бумажку: «Должен хозяйке восемь копеек, если будут – отдай».
Ч., несомненно, очень богато одарённый юноша, и теперь он уже не пропадёт, я думаю. Биография его – не исключительна, таких большинство среди прочитанных мною и рассказанных мне.
Откуда «беспризорные»? Это – дети «беженцев» из западных губерний, разбросанные по России вихрем войны, сироты людей, погибших в годы гражданской распри, эпидемий, голода. Дети с дурной наследственностью и неустойчивые пред соблазнами улицы, очевидно, уже погибли, остались только вполне способные к самозащите, к борьбе за жизнь, крепкие ребята. Они охотно идут на всякую работу, легко подчиняются трудовой дисциплине, если она тактична и не оскорбляет их сознания собственного достоинства; они хотят учиться и хорошо учатся. Им понятно значение коллективного труда, понятна его выгодность. Я бы сказал, что жизнь, хотя и суровая, но превосходная воспитательница сильных, воспитала этих детей коллективистами «по духу». Но в то же время почти каждый из них – индивидуальность, уже очерченная более или менее резко, каждый из них – человек «со своим лицом». Колонисты Куряжской трудовой колонии вызывают странное впечатление «благовоспитанных». Это особенно наблюдается в их отношении к «маленьким», к новичкам, которые только что пришли или которых привели. Маленькие сразу попадают в ошеломляющие условия умной заботливости со стороны страшноватых – на улице – подростков. Ведь вот такие подростки колотили их, эксплуатировали, учили воровать, пить водку, учили и ещё многому. Один из «маленьких», пастушонок, отлично играет в оркестре колонии на флейте, – выучился играть в пять месяцев. Очень забавно видеть, как он отбивает такт голой, чугунного цвета, лапой. Он сказал мне:
– Когда я сюда пришёл, так испугался; ой-ёй, думаю, сколько их тут! Уж как начнут бить – не вырвешься! А ни один и пальцем не тронул.
Удивительно легко и просто чувствовал я себя среди них, а я – человек, не умеющий говорить с детьми, всегда боюсь, как бы не сказать им что-то лишнее, и эта боязнь делает меня косноязычным. Но дети Куряжской колонии не будили у меня эту боязнь. Впрочем, и говорить с ними не было нужды, они сами хорошие рассказчики, и каждому из них есть что рассказать.
Отлично выработанное между ними чувство товарищества распространяется, конечно, и на «дивчат», – их в колонии свыше полусотни. Одна из них, лет шестнадцати, рыжеватая, весёлая, с умными глазами, рассказывая мне о прочитанных ею книжках, вдруг сказала задумчиво:
– Вот я говорю с вами, а два года была проституткой.
Потрясающие слова эти были сказаны так, как будто девушка вспомнила дурной сон. Да и я, в первую минуту, принял её слова так, как будто они только неожиданное «вводное предложение», ненужно вставленное в живые строки рассказа.
Так же, как юноши, девицы здоровы, так же «благовоспитанно» держатся, работают во всю силу и с тем жаром, который даже тяжёлую работу делает весёлой игрой. Они – «хозяйки» колонии, тоже разделены на отряды, тоже имеют своих «командиров». Они моют, шьют, чинят, работают в поле, на огороде. В столовой, спальнях колонии чисто и, хотя не «богато», серо, но – уютно. Руки девушек украсили углы и стены ветками зелени, букетами полевых цветов, пучками сухих пахучих трав. Всюду чувствуется любовный труд и стремление украсить жизнь четырёх сотен маленьких людей.
Кто мог столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью? Организатором и заведующим колонией является А. С. Макаренко. Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нём тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он – суровый по внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных». Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспевает, всё видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный фотографический снимок с его характера. У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно, приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженой голове.
На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход работы в колонии, вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные небрежности, ошибки, – Антон Макаренко сидит в стороне и лишь изредка вставляет в беседу два-три слова. Почти всегда это слова упрёка, но он произносит их как старший товарищ. Его слушают внимательно и не стесняются спорить с ним – как с двадцать пятым товарищем, который признан двадцатью четырьмя умней, опытней, чем все они.
Он ввёл в обиход колонии кое-что от военной школы, и это – причина его разногласия с украинским наробразом. В шесть часов утра на дворе колонии труба поёт сигнал: «Вставать!» В семь часов после завтрака новый сигнал, и колонисты строят каре посредине двора, в центре каре – знамя колонии, по бокам знаменосца – два товарища-колониста с винтовками. Перед фронтом Макаренко в краткой форме говорит ребятам о деловых задачах дня и, – если есть провинившиеся в чём-либо, – объявляются выговоры, установленные советом командиров. Затем командиры разводят отряды свои по работам. Весь этот «церемониал» нравится детям.
Но ещё более церемонно и даже торжественно колония сдавала пять вагонов ящиков представителю завода-заказчика. Гремел оркестр колонии, говорились речи о великом значении труда, создающего культуру, о том, что только свободный, коллективный труд приведёт людей к жизни справедливой, только уничтожение частной собственности сделает людей друзьями и братьями, уничтожит всё горе жизни, все её драмы. Невозможно было без глубочайшего волнения смотреть на ряды этих милых, серьёзных рожиц, на четыре сотни пар разноцветных глаз, когда они с гордостью, с улыбками смотрели на подводы, тяжело гружёные деревом, обработанным столярами-колонистами. Великолепно, дружно прозвучало гордое «ура» четырёх сотен грудей. А. С. Макаренко умеет говорить детям о труде с тою спокойной, скрытой силою, которая и понятней и красноречивее всех красивых слов. А о нём, на мой взгляд, прекрасно рассказывает вот эта выдержка из написанного им маленького предисловия к биографиям воспитанных им колонистов:
«Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-либо читать. Это концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой, искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени, но эта трагедия заметна только для нас, для горьковцев здесь нет трагедии – для них это привычное отношение между ними и миром.
Для меня в этой трагедии, пожалуй, больше содержания, чем для кого-либо другого. Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные изломы у этих детей. Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твёрдым. Я должен быть по отношению к их горю таким же философом, как они сами по отношению к себе.
В этом моя трагедия, и я её особенно почувствовал, читая эти записки. И это должно быть трагедией всех нас, от неё мы уклониться не имеем права. А те, кто даёт себе труд переживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить этим детям приятное, те просто прикрывают своё ханжество этим обильным и поэтому дешёвым для них детским горем».
Кроме колонии в Куряже, я видел под Харьковом ещё колонию имени Ф. Э. Дзержинского. В ней только сотня или сто двадцать детей, и, очевидно, она основана для того, чтобы показать, какой, в идеале, должна быть детская трудовая колония для «правонарушителей», для «социально-опасных». Она помещается в двух этажах специально построенного для неё дома в девятнадцать окон по фасаду. Три мастерских – деревообделочная, обувная и слесарно-механическая – обставлены новейшими машинами, снабжены богатым набором инструментов. Отличная вентиляция, большие окна, много света. Дети – в удобной прозодежде, спальни – просторны, хорошее постельное бельё, ванны, души, чистенькие светлые комнаты для учебных занятий, зал для собраний, богатая библиотека, обилие учебных пособий, всюду блеск, чистота, – всё это образцово, «напоказ», да и дети подобраны тоже «как будто напоказ», – такие все здоровяки. В этой колонии можно многому научиться устроителям таких учреждений. При колонии – богато обставленный совхоз, летом дети работают в поле.
Затем – Бакинская колония в 500 человек, два корпуса за городом, среди выжженных солнцем холмов, на серой, сухой земле. Она недавно основана и находится в периоде организации, но дети уже мечтают о том, как они устроят зоосад. Напряжённо и весело кипит муравьиная работа маленьких, обожжённых солнцем людей. Колонией заведует человек, влюблённый в своё дело так же страстно, как А. С. Макаренко.
В общем я видел около 2500 «беспризорных», и это останется одним из глубочайших впечатлений на весь остаток моей жизни. Замечательно стойкие и своеобразные люди должны выработаться из этих детей, бодрых, здоровых, увлечённых серьёзным трудом.
В каждой колонии я невольно вспоминал немецких детей «военного времени» в Херингсдорфе, летом 22 года. Их там было, кажется, свыше тысячи рахитиков, золотушных, туберкулёзных, близоруких. В хорошую погоду они с утра до вечера играли на песке пляжа, купались в море. Собраны были дети возраста от шести до двенадцати лет, но – трудно было догадаться, кому из них восемь, кому двенадцать, – все они были измучены голодом, отравлены «эрзац»-пищей, награждены болезнями, и многие из них казались старенькими карликами. Среди этого племени невинно пострадавших за грехи отцов особенно трагическое впечатление вызывали маленькие люди в тёмных очках или в «очках стариков» с очень сильными стёклами.
А в то время как на песке пляжа невесело играли сотни живых укоров негодяям, которые, удовлетворяя свою жажду власти, жажду денег, затеяли преступнейшую европейскую бойню, в то время, как полуголодные дети устало шли есть свой горький хлеб, – в это время тут же, недалеко от них, один из детей Вильгельма Гогенцоллерна превесело играл мячиком на теннисе, а в купальнях толстые бабищи, наложницы шиберов [4]4
нем. крупный спекулянт – Ред.
[Закрыть], ожиревшие вместе с ними от выпитой крови, топали двухпудовыми ножищами, отплясывая в купальных костюмах фокстроты.
Творец культуры – человек, он же и цель её. Основным качеством действительно культурного человека должно бы служить именно сознание им его ответственности перед наследниками и продолжателями его работы – пред детьми. Изумительно, до чего слабо развито это сознание.
Я хорошо помню, как возмущались «культурные» отцы системой преподавания в гимназиях дореволюционного времени, глупейшим учебником русской истории Иловайского, катехизисом Филарета, греческим языком. И не менее хорошо я знаю, что эти же самые отцы устраивали детям своим драматические сцены, доводили их до истерики, а в двух случаях – до самоубийства, именно потому, что дети не могли преодолеть трудностей греческого языка и плохо усваивали глупости Иловайского и Филарета.
В коммуне «Авангард», – кстати, очень хорошо описанной Фёдором Гладковым [5]5
Ф. Гладков. Коммуна «Авангард». Гиз, 1928, ц.8 коп. – прим. М. Г.
[Закрыть], – я сказал организатору коммуны Лозницкому:
– Хороши у вас дети!
– Оттого, что живут не в семьях, – тотчас ответил он, а кто-то из коммунаров добавил:
– У вас о новом-то человеке говорят да пишут, а мы вот практически пробуем помочь ему вырасти…
Добавочка эта прозвучала довольно ехидно и как будто вызовом на словесный поединок, а в словах Лозницкого я почувствовал, что общественное воспитание детей для него – практическое дело, продуманное и решённое. Он, Лозницкий, человек среднего роста, внешне – «обыкновенный хлебороб», высушенный солнцем, степным ветром и заботами о своём маленьком государстве. На небритом лице металлически блестят глаза, должно быть, довольно зоркие. Заметно, что он не очень обрадован приездом гостей, он живёт уже в своём мире, и люди, явившиеся откуда-то издалека, мало интересны ему. Да, кажется, и все товарищи его любуются гостями как бездельниками. Говорит Лозницкий кратко, деловито, «конспективно» и явно не заботясь о том, чтоб убедить словами, но удивительно умело показывая хозяйство коммуны. Он, видимо, давно уже отвык от «я» и употребляет только «мы». За несколько часов он только два раза юмористически усмехнулся:
– Не знали мы, что мужикам стыдно какао пить, а вот в «Комсомольской правде» попрекнули нас за это. Непонятное дело: водку – пей, а какао – не моги! Так, что ли?
И усмехнулся, по небритому лицу его точно весёлый ветерок пробежал. А ещё усмехнулся он в ответ на мой вопрос: правда ли, что крестьяне ближайших деревень желают перестроить свои хозяйства тоже на коммунальный лад и будто бы подали немало заявлений об этом?
– Что ж – не верите? Может – показать документы?
И словцо «документы» прозвучало в его устах весьма нелестно для любителей документов. Я вспомнил, что вот в таком гордом тоне говорили с полицией люди, у которых документы были в полном порядке. Этот «обыкновенный хлебороб» стоит во главе ста шестидесяти коммунаров, у них около 760 гектаров земли, в 27 году общий оборот коммуны превысил 800 тысяч рублей. Продали тридцать тысяч пудов хлеба.
– Социализм в деревню можно вкрепить только так, как это мы делаем, – говорит он спокойно и уверенно. – Крестьянин – он прежде всего практик, он хорошо видит выгодность коллективного труда. Конечно – хозяйство коммуны нашей далеко не совершенно, однако мужик считать умеет. Край засушливый, – вздыхает Лозницкий. – Вот если б орошение… Водицы бы нагнал нам Днепрострой этот… Пишут, что где-то удобрения много нашли?
Показав работу в механической мастерской и силовую станцию, он снова возвращается к этой теме.
– Бабы, пожалуй, чувствуют выгоду коммуны едва ли не лучше мужиков. Видят, что нашим женщинам легче жить, свободней, да и дети у них… Ну, детей вы сами видели.
Видел. Десятка два хорошо упитанных ребятишек, грудных и годовалых, спали в общей спальне. В сумрачной прохладе её – ни одной мухи. Сон детей оберегает дежурная мать, она, в белом халате, двигается бесшумно. Молодая, лет двадцати. В этой же хате чистенькая, светлая комната для двух-трёхлетних коммунаров, с мебелью по росту им, игрушечные столы, стулья.
– Тесно, – жалуется учительница и товарищ руководитель культурной работой в колонии.
– Да, тесно живём, – подтверждает Лозницкий. – Лесу нет. Школу надо строить. Школа у нас плохая, а нам нужно образцовую школу. У нас всё должно быть образцово. Эти, наши чиновники… не понимают!
Судорожным движением разгневанного человека Лозницкий прячет крепкие руки свои за спину и тихонько крякает.
Потом мы обедаем в столовой коммуны, за два блюда – вкусный борщ и жареное мясо – с нас взяли по 16 копеек с человека.
– Вода скверная у нас, – говорит Лозницкий в тон глуховатому гулу электромотора механической мастерской, где изготовляют бороны для крестьян, чинят сельскохозяйственные машины. Постукивают молотки в кузнице. Где-то близко хрюкают свиньи, коммуной налажен «беконный завод». На дворе, в квадрате низеньких и длинных хат, шумно совещается группа детей школьного возраста – все такие хорошие, крепкие ребята, загоревшие на солнце. Они уже рассказали мне о разнообразии своей жизни, похвастались немножко знанием хозяйства коммуны, участием в её работе. И один из них, указывая на хаты жестом хозяина, совершенно серьёзно сказал:
– Мы их перестроим!
А другой, усмехаясь, сообщил:
– Эта – конюшней была, а вот в ней люди живут, и не узнаете, что конюшня.
Несколько часов в маленьком новом государстве похожи на сон. Мне вспомнилась старинная книжка затравленного мещанами, умершего в 1848 году революционера и атеиста Иоганна Цшокке «Делатели золота», я её прочитал, когда мне было лет пятнадцать, и, прочитав, тоже несколько дней жил, как во сне.
Когда оглядываешься назад – видишь, как поразительно далеко ушла жизнь от прошлого и как она всё быстрей идёт в будущее. Лозницкий кажется мне человеком давно знакомым, – лет сорок тому назад, на бесконечных, запутанных дорогах России, я встречал людей, похожих на него. Это были люди, оторвавшие себя от земли, от семьи, от нищенского хозяйства, бесплодно истощавшего их силы, это были упрямые искатели несокрушимо прочной правды, люди, гонимые мечтой о ней из конца в конец страны, из Вологды в Закавказье, из Смоленска в Сибирь. Были эти люди сумрачные, недоверчивые, не очень зрячие, иногда – озлобленные бесплодностью своих поисков, нередко – буйные, оттого, что потеряли все свои надежды «дойти до правды». Вероятно, они уже погибли за эти четыре десятка лет, износились, распылились на путях своих. Не жалко – бесполезные люди.
На место их жизнь выдвигает вот таких, как Лозницкий, людей, которые нашли правду, овладели ей, бережно, как любимое дитя, растят её, вкрепляют её в расшатанную жизнь, – строят правду так же, как предки их строили посады и крепости в лесных дебрях, среди полудиких племён.
Лозницкий – из тех еретиков, каким был коммунист Ян Гус, сожжённый на костре, разница только та, что Лозницкий и подобные ему сами разжигают костёр, на котором должно сгореть всё, что накоплено веками кошмарной жизни в душах рабов земли.
Снова – 117 километров – четыре часа на автомобиле от села к селу. Когда-то я ходил пешком по гладкой скуке этого края. Теперь, после того как пожил в странах, где города и сёла стоят почти бок о бок, эти степные места кажутся мне ещё более пустынными. О том, что это – неверно, я должен напоминать себе, потому что впечатление пустынности, незаселённости растёт. Огромная плоская равнина расползлась, размазана во все стороны, до горизонта, местами она лысая – хлеб снят, – но таких лысин немного, преобладают густые заросли подсолнуха и широкие полосы кукурузы: её жирная зелень, чередуясь с ярким золотом мохнатых цветов подсолнечника, одевает землю степи тяжёлой, пышной шубой.
Наш сильно пожилой автомобиль катится не торопясь, хрипит и чихает, вздымая облака пыли. Со стороны он, должно быть, похож на жука, так же как два трактора, ползающие далеко по лысине степи.
– Там совхоз, – сказал один из провожатых, другой поправил его:
– Колхоз.
Этот другой – «товарищ из Запорожья», – человек очень скромный, без «особых примет»; людей такой «обыкновенной» внешности я часто встречал среди батраков в экономиях Украины. Необыкновенна в нём ёмкость его зрительной памяти и поразительное знание края.
– Тут скоро песок будет, – хектара два, – предупредил он шофёра. – Вы, товарищ, вертайте у леву сторону. Оно не так, чтоб настоящий песок, а – очень мятая дорога. В этой балочке бандиты много людей порезали, – рассказывает он так просто, как будто говорит о кустарном промысле.
– Потом чего-сь не поделили меж собой и друг друга начали убивать. Тут скрозь Махно гулял. Одних мостов взорвано по всему краю двадцать восемь. Видели? Ще много сковерканного железа лежит не убрано коло линии. Вредный был, сучий сын! Много разврату и разорения внёс. Ну, есть, конечно, люди, что и побогатели около него…
Он коренастый, крепкий, «человек надолго». Смотрит в пустынные дали, спокойно прищурив глаза, и, не возмущаясь, рассказывает:
– Кровавая земля. Много людей побито здесь, ну, и сами они тоже чужой крови не жалели.
– А теперь – разумнее живут?
– Это – так, – говорит он, но, помолчав, продолжает: – Для себя – разумней, а для жизни – не скажу. Вот – дорога. Разве это – дорога? Только мучить коней. А сами поправить – не хотят, всё должен делать для них город, – «казна», говорят они. Не понимают ще, что разумом только для себя уже и невыгодно да и стыдно жить…
Он, должно быть, из тех «дальнозорких», которые хорошо видят, как трудна дорога в будущее, но не смущаются трудностью её.
Пасётся большое стадо. Жара и пыль. Из пустынной земли медленно поднимается село, анархически расплывшееся по ней, оно могло бы вместить небольшой уездный город. На улице, нелепо широкой, можно бы построить ещё «порядок» беленьких хат, длина улицы версты две. Сколько земли бесполезно занимает она? На площади, над крышей большого дома, торчат мачты радио. Десятка полтора хат покрыты не соломой, не камышом, а белой черепицей. Это для меня такая же новость, как радио в деревне. Во дворах и на левадах [6]6
здесь – огород, сад – Ред.
[Закрыть] – красные машины, где-то хлопотливо стучит молотилка. У «криницы» [7]7
ключ, родник, колодец на водяной жиле, куда вставляется бочка – Ред.
[Закрыть] стоят два воза, нагруженные тёсом, молодой рослый парень кормит лошадь, – суёт ей в зубы краюху ржаного хлеба. В тени другого воза лежит брюхом на земле бородатый человек, пред ним – клетка, в клетке большой белый петух. Всюду сушится саманный кирпич. Серые «дядьки» и «жинки» смотрят из-под ладоней на автомобиль, перегруженный людьми, за автомобилем гонятся собаки, человек с физиономией «урядника» бросил в собак палкой и, размахивая руками, орёт. Орать – бесполезно: собака не может укусить автомобиль. С поля в село входит группа детей, все – маленькие, лет до десяти, среди их – рыжеватая девушка, очевидно – учительница. За селом десятка полтора женщин месит ногами глину; длинный, костлявый старик рубит саман. Строится деревня.