Читать книгу "Детство"
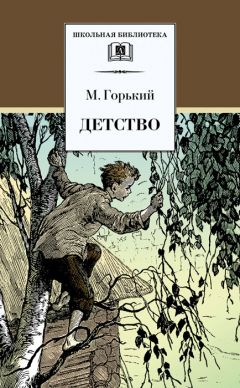
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Его останавливали – он не унимался:
– А ведь и вам надо умирать, на помойных-то ямах недолго проживете!
– Ну, так и умрем, – говорил Вяхирь, – нас в ангелы возьмут…
– Ва-вас? – задыхался от изумления Язёв отец. – Это – вас? В ангели?
Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.
Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:
– Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вот третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятенки, про нее историю – что же это за баба?
Он очень часто говорил про женщин, и всегда – грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:
– Спрашивают ее: «Кто поджег?» – «Я подожгла!» – «Как так, дура? Тебя дома не было в тую ночь, ты в больнице лежала!» – «Я подожгла!» Это она – зачем же? Ух, не дай Господь бессонницу…
Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял пред нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:
– Я – домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной? Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил:
– Прощайте!
Мы тоже кричали ему – прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:
– Вот, проснемся завтра, а он – помер.
– Язю хуже всех жить, – часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:
– Нам вовсе не плохо…
И на мой взгляд, нам жилось не плохо, – мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.
В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.
Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, Басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом – «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:
– Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и… Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства.
Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало еще лучше, – весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг другу.
Но эта жизнь продолжалась недолго – вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки, – бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.
Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами, брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок.
Внимательно ощупав его, дед сказал:
– Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас…
Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:
– Ему немного надо…
– Тому – немного, этому – немного, и выходит много…
Он махнул рукой и обратился ко мне:
– Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке…
Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами – без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком.
Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда:
– Умереть – не велика мудрость, ты бы вот жить умела!
Мать затяжно кашляет…
Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.
Если близко к нам подходит курица, кошка – Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается, – меня смущает эта улыбка – не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?
Двор – маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой – всё это мещане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева; насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.
Рядом – бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось – этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой…
Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора – обухом между рогов, – Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:
– Ффу…
В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:
– Обедать!
Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя, – пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:
– Будет, что ли? Али еще дать?
Из темного угла около двери раздавался голос матери:
– Видите же вы – он тянется за хлебом!
– Ребенок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть…
И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.
– Ну, ладно! – говорил наконец дед. – На-ко, отнеси его матери.
Я брал Колю – он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.
Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала – это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили.
Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку, – ложился и долго ворчал в темноте:
– Вот – пришло время умирать. С какой рожей пред Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали… До чего дошли?..
Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, – дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.
Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.
– Господи, Господи…
Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:
– Бес проклятый, – пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!
Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:
– Не совался бы ты…
Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.
Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда:
– Сходи к Евгению Васильевичу, скажи – прошу его прийти!
Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:
– Скорей беги!
Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в ее глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке.
Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанная, важная по-прежнему.
– Тебе стало лучше? – спросил я, оробев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала:
– Поди сюда! Ты где шлялся, а?
Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, – нож вырвался из руки у нее.
– Подними! Дай…
Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.
Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.
– Дай воды…
Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно.
Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо.
Вошел дед, я сказал ему:
– Умерла мать…
Он заглянул на постель.
– Что врешь?
Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это.
Пришел вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:
– Да она умерла, смотрите…
Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.
…Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвел ее в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:
– Ах ты, – не дай Бог бессонницу, чего ты, а? Уж это – такое дело… Верно я говорю, бабушка? И богату и просту – всем дорога к погосту, – так ли, бабушка?
Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, веселый.
– Ты гляди-ко, – сказал он, протягивая мне сломанную шпору, – гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди – колесико, а? Не иначе – казак носил да потерял… Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал…
– Что ты врешь! – тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:
– Вяхирь-то, а? Строгий! Ну – не я, он дарит это тебе, он…
Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, – я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову:
– Выпьем сегодня, а?
Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:
– Гляди, ты гляди, чего он делает! – Но, видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьезно: – Ну – буде, очнись-ка! Все умрем, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дерном обложу – хошь? Вот сейчас пойдем в поле, – ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дерна и так устроим могилу – лучше нельзя!
Мне понравилось это, и мы пошли в поле.
Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:
– Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди…
И пошел я в люди.

Словарь непонятных слов и выражений
Акаф́ист – хвалебное церковное песнопение.
Альманд́ин – гранат, драгоценный камень красного цвета.
Архиер́ей – общее название для высших чинов Православной Церкви (епископ, архиепископ, митрополит, патриарх).
Б́абка или ќозна – небольшая косточка лошадиной ноги над копытом; употреблялась в детской игре в «бабки».
Бад́яга (бодяга) – пресноводная губка; употребляется в народной медицине.
Б́ондарь – мастер по изготовлению бочек.
Водол́ив – на судне старший над бурлацкой артелью.
Вс́енощная – вечерняя церковная служба.
Ѓолицы (обл.) – кожаные рукавицы без подкладки.
Гол́овка (уст.) – головная повязка, которую носили замужние женщины в купеческом, мещанском и крестьянском быту.
Горев́ой (прост., обл.) – испытывающий горе, несчастный.
Гуж – петля в конной упряжи, соединяющая хомут с оглоблями и дугой.
Довл́еть – быть достаточным, удовлетворять.
Дреќолье (собир.) – колья, палки, дубины.
Дресв́а – мелкий щебень или крупный песок, образующийся в результате разрушения некоторых горных пород (гранита и др.).
Дьяк – в Древней Руси – должностное лицо в государственных учреждениях.
Езу́ит (искаж., неодобр.) – иезуит, монах, член католического ордена иезуитов. В переносном значении: хитрый, двуличный человек.
Ерет́ик —1. Последователь ереси, т. е. учения, противоречащего господствующей религии. 2. Тот, кто отступает от общепринятых взглядов, правил.
3ап́он – кожаный передник у мастеровых.
Золотн́ик (уст.) – мера веса (4,27 г).
Каф́изма – чтение из псалмов.
Ќика (ќичка) – праздничный головной убор замужней женщины.
Ки́от – створчатая рама или шкафчик со стеклянной дверцей для икон.
Кис́ейный – сделанный из кисеи, прозрачной тонкой ткани.
Кист́ень – холодное оружие для нанесения сильных ударов; состоит из ремня или цепи (возможно, с рукояткой) с подвешенным на конце грузом (металлический шар и т. п.).
Клоб́ук – монашеский высокий головной убор с покрывалом.
Кокл́юшки – палочки для плетения кружев.
Ќомель – нижняя, прилегающая к земле часть дерева, растения; здесь: нижняя часть креста.
Кос́ушка (уст.) – то же, что шкалик – единица измерения объема жидкости (0,06 л).
Куб́арь – детская игрушка наподобие волчка.
Купор́ос – техническое название некоторых солей серной кислоты.
Лаб́аз (уст.) – помещение для хранения или продажи муки и круп.
М́аковая сб́ойна – прессованные остатки семян подсолнечника после выжимания из них масла; использовалась как примитивное лакомство.
Метапсих́оз – религиозное учение о переходе души после смерти одного живого существа в другое.
Могутн́ой (обл.) – могучий, сильный.
Мон́исто – ожерелье из монет, бусинок или разноцветных камней.
Нал́иток – игральная бабка, налитая свинцом.
Нахл́ебник – здесь: человек, снимающий квартиру с питанием у хозяев.
Об́ора (обл., уст.) – веревка, которой привязывались к ноге лапти.
Олонч́ане – здесь: жители Олонецкой губернии, исповедовавшие старообрядчество.
Ор́ясина – палка, дубина; в переносном значении: долговязый человек.
Пл́исовый – сделанный из плиса, ткани из грубой пряжи с ворсом, похожей на бархат.
Плиц – лопасть гребного колеса парохода.
Пов́ытчик – должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде.
Поѓост – сельское кладбище.
Подп́ечек – узкое пространство под русской печью.
Позёмок – то же, что позёмка – метель без снегопада с низовым ветром.
Пол́ок – высокий помост в парной бане.
Пот́атчик (разг., неодобр.) – тот, кто потакает кому-либо в чем-либо.
Пош́евни – широкие сани.
Пят́ишница (прост., уст.) – пять рублей серебром. В старой России рубль серебром приравнивался к трем рублям ассигнациями.
Расќольник – последователь раскола, т. е. старообрядец.
Р́екрутская квит́анция – документ, покупка которого освобождала мужчину от воинской обязанности.
Р́иза – верхнее облачение священника во время богослужения.
Рунд́ук – большой сундук, ларь с поднимающейся крышкой.
Сал́оп – широкое женское пальто.
Самокр́уткой (выйти замуж) – без благословения родителей.
Санд́ал – краситель красного или желтого цвета; получается из древесины сандалового дерева.
Сем́ишник (прост., уст.) – народное название монеты в две копейки.
Сх́имник – монах, принявший схиму, т. е. давший обет самой строгой отшельнической жизни.
Сыч́уг – желудок жвачного животного; используется для приготовления некоторых блюд.
Тать (уст.) – вор, разбойник.
Твор́ило (обл.) – лаз в погреб или подъемная дверь над погребом.
Томаш́а – суматоха, драка.
Ул́ан – военный из частей легкой кавалерии; от других кавалерийских войск уланы отличались особенностями обмундирования, атакже вооружения: нижние чины вооружались, помимо сабель, пиками.
Фармаз́он (неодобр.) – искаженное французское слово franc-macon («франкмасон», буквально – «вольный каменщик»). Франкмасонство или масонство – религиозно-философская организация, окружающая себя ореолом таинственности и секретности. В просторечье слово исказилось и стало обозначать подозрительного человека, жулика.
Фукс́ин – красная анилиновая краска.
Ц́арские дв́ери – двери, ведущие в алтарь храма.
Чап́ан – верхняя длиннополая одежда крестьян.
Часосл́ов – книга, содержащая молитвы, псалмы и прочие тексты для ежедневных церковных служб.
Черем́ис (уст.) – представитель марийской национальности.
Штоф – здесь: плотная и тяжелая шелковая или шерстяная материя.









































