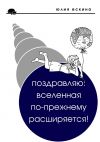Текст книги "Росчерк. Сборник рассказов, эссе и повестей"

Автор книги: Максим Миленин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Она
эссе
Восемнадцать конфеток. Пять минуток. Пять минуток на восемнадцать конфеток. Реверс. Восемнадцать конфеток на пять минуток. Пересчитать. Переиграть. Развернуть. Завернуть. Я выдохну. Влага моего дыхания соберется в тучу, прольется дождем, проливным ливнем по сточных вод трубе, зашумит у соседей, не подаст виду и выльется, и прольется в землю. Сделает ее сырой. Сырую землюшку.
Восемнадцать минут на то, чтобы посчитать пять несчастных – не поворачивается язык назвать их счастливыми – конфеток.
Когда ты одна, слышишь холодильник. Как он сам с собой бурлит, охает, гудит, немножко хрипит, вздыхает. Как он думает. Когда ты одна, ты слышишь, как он думает. Когда ты одна, ты слышишь соседей. Даже если их нет. Почему-то боишься – как тишины, так и присутствия. Разворачиваешь конфетку, наполняя звуками квартиру. Кладешь, как таблеточку, под язычок. Нет. Звук мыслей может заглушить оглушительный хруст карамели на зубах. И да, весь день, пустой день, порожний день, и не было ничего, но ты не помнишь, хоть убей, не помнишь, выпила ли вторую таблетку.
Пять отчетливых минут я считаю восемнадцать, до последней минуты, конфеток. Когда ты одна, ты иногда сомневаешься в собственной реальности. В том, что ты вот на самом деле есть, а не придумана, не сочинена каким-нибудь бедолагой. И вот теперь ты боишься закрыть глаза, исчезнуть, как чей-то пьяный сон, ночное приключение длиной в одно движение накрытого веком зрачка. Не шевели и не шевелись. Иначе я исчезну.
Семнадцать минут и все те же пять конфеток. Сумка из магазина разобрана. Чайник вскипел. Шторы задернуты, потому что все соседи – проклятые сталкеры и, вооружившись биноклями, тратят свои вечера, чтобы смотреть на то, как одна девушка сидит за одиноким кухонным столом и в порыве какой-то неприличной реверсивности считает конфетки. Самостоятельность – заработай, заплати, принеси, разложи и посчитай. Семнадцать конфеток. За пять минут. Трать время на себя.
Можно включить музыку. Можно включить видео. Можно поговорить с холодильником, в конце концов, и попытаться понять его проблемы. Может, посоветовать что-нибудь. Добрый такой дать ему совет.
Я могу лечь спать. Я имею свободу такого вот выбора. Я умею свободу такого выбора. Я имею пять минуток. Я умею пять минуток. Я могу не мыть посуду. У меня есть в целом на это время. Лечь спать, проснуться и вновь ее не мыть. Когда ты одна, ты имеешь время. Насилуешь его. Жестко. Агрессивно. По-звериному.
Я могу не иметь сюжета. Как этот рассказ. Никакого начала. Без кульминаций, кроме дней цикла. Без финала. Открытый финал с закрытой дверью. А закрыла ли я дверь? Проклятая, она вечно требует моих прикосновений, заставляя вставать и двигаться, подходить и смотреть, не верить глазам и проверять маленькую ручку руками. Вернуться на кухню и пересчитать конфетки. Их уже шестнадцать. Одна закатилась за салфетницу.
В истории о девушке, которая могла быть одинокой, нет собственно истории. Есть я, девушка, есть констатация факта моего одиночества. Есть квартира, есть кухня, есть вечер и шестнадцать конфеток. Закатившись за салфетницу, та решила свою судьбу хрустом и приторной сладостью на моем языке. Только не моргай, милый, и не двигай зрачок, пусть я еще побуду немного, еще побуду чуть-чуть.
Шестнадцать конфеток и очередная пятиминутка. Совещание наутро. Раздача указаний. Тебе, конфетка, тебе, тебе и, конечно же, тебе. Пятидневочка. Пятиминуточка. Пятилеточка.
Я знаю, умение быть одной – сродни апокалипсису: для всех – хаос, разрушение и смерть-смерть-смерть, как для этих конфеток, а для тебя – откровение. А для одной оной – открытие. Что конфеты, как деньги, как траты, как минуты, как дни и людей, можно не считать. Можно просто есть. Хрустеть ими на зубках. Потом встать. Выпить чаю, сполоснуть кружку, выключить свет, умыться, переодеться и лечь спать. Только не открывай глаз, милый, не просыпайся, иначе она, одна, она, одна – не уснет и не проснется —
Клейто Южно-Китайского моря
Мак Мерфи болтал без умолку. Сигарета в его руке не касалась губ. Он совершенно забывал курить, но как только истлевший окурок гас, оставляя неизменный ожог на указательном пальце, мужчина бросал кусочек оплавленного фильтра на песок и тут же прикуривал следующую. Он говорил обо всем, вспоминая узкие и бесстыдные улочки Хошимина, при этом настаивая на том, что на Фам Нгу Лао делать совершенно нечего, а лучшие удовольствия ждут азартных, смелых и дерзких «за поворотом». Мак Мерфи пил какой-то светлый ром из бутылки с оторванной этикеткой. Он подливал сам себе, но перед каждым разом кивал мне горлышком, предлагая налить. Я отказывался, но смотрел на небритого американца, внешне казавшегося чуть моложе меня, с нескрываемым любопытством. Светлый вьетнамский ром – он для коктейлей в лучшем случае, а пить его вот так – горячим, в тени крытой раскаленными листами железа длинной площадки, террасы с равномерно разбросанными скучными прямоугольными столами, окруженными неизменной четверкой довольно грязных желтых пластиковых стульев, в тени морского бриза, без тени праведного сомнения в качестве и природе потребляемого напитка, – было преступлением. Зверским актом насилия над собственным организмом. Мак Мерфи рассказывал про вьетнамское пиво, которым он якобы упился до чертей, набросился на какого-то монаха, кажется, был крепко побит и с тех пор не верил в бога. Ни в какого.
Я поднял руку, и через несколько мгновений ко мне подошла официантка, туго повязавшая на узкой талии довольно грязный фартук. Она выглядела уставшей, что было немудрено: женщина работала уже четвертую смену подряд, с раннего утра до самой поздней ночи. Мы все знали об этом, потому как просиживали в этом гордовывесочном «Ресторане Линь Хуэ» уже почти неделю, опасаясь, каждый из своих соображений, выходить даже на центральные улицы деревни. Женщина посмотрела на меня и тут же, не дожидаясь ответа, кивнула. «Четыре дня, языковая пропасть, но она уже научилась читать мои мысли», – подумал я. Она взяла мой стакан, и через некоторое время я услышал, как кубики мутного льда упали на дно. Затем сахар, затем концентрированный, варено-переваренный кофе – туда же. На этот раз она не забыла положить трубочку. С ней – приятнее, потому как пить эту крепкую, горько-сладкую кофеподобную жижу невозможно просто так, а если хлебнуть по привычке залпом – будешь кашлять, как туберкулезник из шахты, так, будто твой собственный организм желает тебя убить, ну, или как минимум – вытрясти судорогами всю твою дурь из головы и из желудка. Несмотря на все, вьетнамский кофе – бодрит, как ничто другое.
Мак Мерфи бросил очередной окурок и принялся жаловаться на то, как он устал от мотоциклетного рева в этой стране, и рассказывать про то, как его пятнадцать раз за один единственный день чуть не сбили на мотоцикле в Сайгоне. Я слушал его, надев на лицо привычную, ничего не значащую улыбку не очень внимательного слушателя и уткнувшись взглядом в вывеску над его головой: «Wi Fi: 88889999», криво выведенную красной краской на неприлично белой доске. Прямо над ней развевался на ветру листок с распечатанным на принтере текстом, который призывал арендовать караоке Di Dong Music по указанному в самом низу номеру телефона. Я посмотрел на Мак Мерфи, который уже доказывал Пьеру, что велорикши и моторикши – все суть сутенеры, а по ночам – проститутки и леди-бои. Пьер же молчал, задумчиво рассматривая линию морского мусора на песчаном берегу, беспокойные зеленые волны и, может быть, те рыбацкие суденышки, что трепыхались над водой где-то вдали, почти у линии горизонта. Француз пил в тот день неожиданно пиво, прямо из банки, что было совсем на него не похоже. На все обращения Мак Мерфи он отвечал лишь редкими, презрительными взглядами. Он прекрасно понимал и говорил по-английски, когда в беседу были вовлечены мы втроем, но на американские монологи Мак Мерфи, мне думается, он реагировал так, потому что считал Вьетнам все еще французским, а значит, если уж и говорить здесь на каком-либо иностранном, то только на языке Вольтера и Сент-Экзюпери. Вполне себе стандартное французское высокомерие, когда ты устал сидеть и ждать, а Мак Мерфи все не замолкает.
Волны меж тем поднимались. Зеленые воды злились на нас троих, ленивых, бесполезных и скучных, и лишь вдалеке они обретали свой настоящий, исконный, отражающий глубину цвет и, казалось, спокойствие. Там, где два заблудших суденышка боролись сами с собой, с зеленой пеной, с запахом соли, свежести, жары, собственных матросов – пота, слабости и голода. Пьер теперь смотрел на них непрерывно, даже пристально, сузив глаза, пытаясь не упустить корабли из виду, он немного напрягся, перекладывая из руки в руку банку с недопитым пивом. Я не выдержал и спросил француза:
– Что вы там увидели?
Пьер, как будто очнувшись от какого-то сна, чуть дернулся, бросил на меня быстрый, ничего не выражавший взгляд и вновь стал всматриваться в горизонт. Он молчал, причем я уже даже перестал обижаться на него за такое высокомерное и оскорбительное видимое пренебрежение. Мак Мерфи сначала вместе со мной ждал французский ответ, потом налил себе в стопку рома и весело выпалил:
– А все-таки замечательная эта страна, разве нет, парни? За Вьетнам! За красные галстучки на белых рубашках этих милых детей! – И он поднял свою до краев налитую стопку игравшей пряным запахом густой и светлой жидкости.
Мы выпили. Пьер поставил пустую банку на стол и вдруг произнес:
– Я увидел море, мой друг. Южно-Китайское море. И оно совсем не принадлежит Китаю. И южное – только номинально. Оно… как тебе объяснить… Ты же знаешь про Атлантиду?
– Атлантиду? – удивился я.
– Да, мифическую страну, затерянный материк. О ней писал еще Платон.
– Это же… как это по-английски? Сказка! Да и каким образом она связана с этим…
– А вы знаете, что такое на самом деле эта «сказка»?
– То есть? – ворвался в разговор Мак Мерфи. Он наконец достаточно затянулся сигаретой, чтоб заметно так окосеть, а потому вдруг стал говорить развязнее обычного и не скрывая своего опьянения, но наслаждаясь им, как единственным доступным ему в тот момент удовольствием, смотрел на Пьера дерзко, игриво, с ухмылкой, скривленной подозрительным ромом.
– То есть, мой друг, сказка – это всего лишь навсего то, что кем-то сказано. Все в этом мире сказка. Вопрос философии. Чтобы что-то стало правдой, нужно про это не только сказать, но и увидеть. А потом – описать. Что по сути – повторно рассказать всем.
– Я не совсем вас понимаю, Пьер, как это связано с этой огроменной и злючей зеленой лужей?
– Твою мать, не говори так, парень! Это одно из самых красивых морей, что я когда-либо видел! Оно просто волшебное! – вдруг воскликнул Мак Мерфи так громко, что несколько местных, сидевших вдали и ожидавших своих запеченных на решетке крабов, обернулись в нашу сторону.
Я открыл было рот ответить что-то уже очень заметно подвыпившему своему спутнику, но Пьер, не замечая совсем выпадов американца, продолжил:
– Это море, оно действительно волшебное. Сейчас объясню. Так уж вот получилось, что судьба свела нас троих здесь, на этом грязном берегу прекрасного моря. И каждый из нас, я уверен, знает, почему он тут и как оказался в этом желтом… кресле. То есть мы понимаем причины. Вопрос философии. Понять причину. Дальше наступает вопрос следствия. Мы с вами тут не рыбаки, не моряки и, как бы ни прикидывались, совершенно не туристы. Мы здесь по другой причине. По этой. – И француз указал рукой на шумное, неспокойное море, которое, казалось, было сильно не в духе.
– Экспедиция, – протянул Мак Мерфи, следуя взглядом за движением Пьера.
– Как простое погружение к коралловым рифам… Ладно, не совсем простое погружение к коралловым рифам, которое вы продолжаете называть экспедицией, связано с тем, что ты сказал ранее, с Атлантидой, с этой древней сказкой? Уж не собираемся ли мы ее там искать? – Я смотрел на своего не-туриста, но со-бутыльника с огромным недоумением, ведь мне искренне казалось, что в отличие от Мак Мерфи тот не будет нести уж такой откровенный бред, да и не выглядел он пьяным. А значит, он просто издевался и хотел запустить меня еще глубже в свой капкан невероятной лжи, чтобы потом одним махом разрубить пополам злым смехом, и последующие дни, все те, что суждено нам будет провести вместе, француз будет при каждом удобном случае припоминать мне мою излишнюю доверчивость.
– Это – непростое погружение к коралловым рифам. Совершенно не простое, – выпалил американец и был прав. Как минимум потому, что при простом погружении не оплачивают билеты, дешевую, но чистенькую гостиницу, четыре дня пьянки троих мужчин в ожидании спокойных волн, да и вся та секретность – письма вместо звонков, убедительные наказы не соваться в деревню, не общаться с местными, даже телефонами пользоваться было нельзя. Мак Мерфи считал, что мы будем искать новые месторождения нефти, я же склонялся к тому, что где-то там, милях в трехстах, лежит, обросший морским временем, какой-нибудь затонувший корабль времен Второй мировой. А вот Пьер Моро, как указано было в его документах, никогда не высказывал никаких догадок, за исключением той, что и догадкой-то назвать было нельзя.
– Нас интересуют не кораллы, – ответил обиженно Моро.
– Будем искать Атлантиду?
– Увидите. – И всем своим видом он показал, что не желает продолжать этот разговор с такими неблагодарно-перебивавшими его собеседниками.
Вернувшись в номер, я обнаружил очередное письмо с указаниями: «Будьте в полной готовности на пристани Дай Ву в полночь по местному времени».
«Наконец-то!» – подумал я и тут же рухнул, не раздеваясь, на постель. Для сна оставалось часов шесть. А несколько дней пьянства и затем день борьбы с похмельем с помощью вьетнамского кофе – не способствовали тому, чтобы этого несчастного времени хватило на отдых и подготовку. В которую, по сути, входило немногое: вещи мои немногочисленные из своей сумки я не доставал, документы держал при себе, а снаряжение – строго сказали: своего не брать.
***
Моро уже забрался в лодку, а Мак Мерфи еще топтался на причале. Сигарета в его зубах, а точнее, огонек ее мерцал издали, нервно содрогаясь во тьме. Море было спокойным, тихим и спящим впервые за все те дни, что мы топтались на замусоренном берегу. Пьер заметил меня первым, издал приглушенный сигнал, словно далекий крик чайки, и я шел уже на голос, мерцание и еле слышимый плеск. Погрузились, во тьме, не пытаясь даже разглядеть лиц друг друга. Заревел маленький моторчик, мы отправились в путь. Почти до самого рассвета я клевал носом. Лодкой управлял вьетнамец, по виду – местный, и он не проронил ни слова за всю ночь. Мы же молчали, отдаваясь дремоте еще не сошедшего с нас до конца похмелья и усталости многодневного безделья. Каждый прекрасно понимал задачу, свою собственную задачу, поставленную невидимым и незнакомым работодателем. Из всех – думаю, что только вьетнамец и Пьер знали, на какую глубину, где, а главное – зачем мы должны были нырять тем утром и почему именно мы. Наверное, только француз, поскольку вьетнамец был простым рыбаком, я понял это практически сразу по специфичным для данной профессии продолговатым широким мозолям, делившим ладони мужчины пополам, – следам борьбы с сетью и желто-зеленой водой, палящим солнцем, необходимостью, ненавистью к этому морю и благодарностью ему. Он смотрел на него привычно, уверенно, но как-то рассеянно, невнимательно, словно зная каждую его каплю, отдаваясь ему, позволяя, казалось, своим мыслям пускаться в отдельное от его гремевшей лодочки плавание по тем, тогда спокойным, сонным водам. Задачей рыбака было доставить нас в определенное место, точку на воде, в определенное время. И большего ему не хотелось и не нужно было знать.
Солнце возвещало о скором восходе томным розовым свечением на самом острие горизонта. Мак Мерфи курил, изредка сплевывая за борт. Пьер то и дело поглядывал на часы, иногда делая маленький глоток минералки из пластиковой бутылки. «По-видимому, мы опаздываем», – пронеслось в голове, но тут среди игры розовых оттенков и бордовых отражений рассвета показалась маленькая черная точка вдали. Через пятнадцать минут мы приблизились к дрейфовавшему посреди большой воды старенькому, неизвестно как еще не потонувшему, маленькому ржавому рыбацкому траулеру. На палубе не было видно не души. Судно стояло на якоре, хотя я был искренне удивлен этому – так далеко от берега, так коротка якорная цепь у такого рода траулеров, так глубоко здесь должно быть, но…
Мы поднялись на борт. Пьер скинул брезент с отсека, предназначавшегося для сбора улова на палубе, плотный коричнево-желтый, выцветший на солнце брезент.
– Ухх! – воскликнул Мак Мерфи, увидев перед собой новейшие гидрокостюмы, BCD, баллоны увеличенного запаса и прочее снаряжение – лучшее из того, что можно бы было себе представить, абсолютно новое и, как все мы знали, стоившее в десятки, а может быть, даже и сотни раз больше, чем этот брошенный рыбацкий траулер. Пьер оглянулся по сторонам, как бы высматривая в бесконечных волнах опасность или что-то, что таковым могло стать. Но судно спокойно поддавалось волнам, а вьетнамец в лодке, казалось, не интересовался ровным счетом ничем, кроме того, как устроиться поудобнее и прикрыть глаза.
Пьер заметил мой взгляд и произнес:
– Он будет ждать нас здесь. Ему можно верить.
– Что мы ищем? – подал голос Мак Мерфи. Он серьезно, но с нескрываемым любопытством рассматривал снаряжение, но не трогал его, а лишь нагнулся и поворачивал голову из стороны в сторону, примечая и удивляясь.
– Под нами рифы. На несколько миль вокруг. Конечно, не великий барьерный риф, но он имеет другое… как это… Он образован по-другому. – Моро пристально смотрел на желтевшую в рассветном блеске воду. – А потому имеет в себе, нет – сокрыл в себе многие тайны. Наша задача – на глубине приблизительно ста пятидесяти…
Мак Мерфи присвистнул. Хмель испарился, выветрился, вырвался из округло-изумленных глаз американца тут же:
– На декомпрессию уйдет…
– Система будет оповещать об остановках. Но в целом, чтоб не умереть – пять-шесть часов.
– Сколько баллонов на каждого? – спросил я.
– Шесть.
– А смесь?
– Считает и готовит система.
– Я бы не стал доверять. Да и не щупали глубину совсем… И эта система твоя, Пьер, кажется…
– У нас нет, к сожалению, времени и обстоятельств на споры. Риск будет оплачен.
– Что мы ищем? – повторил свой вопрос самый опытный из нас в этом деле, американец Мак Мерфи, преступник и искатель. Авантюрист и пьяница. И самый смелый, как мне тогда показалось.
– Мы ищем ту, что породила миф.
***
Как описать глубину? Бесконечные коридоры рифовых узоров и тьма. Сквозь которую не пробивается даже толком сила электрических фонарей, электрических ватт света. На глубину, искомую, как пишут в учебниках, мы опустились бы быстрее, если б не эти коридоры. Если бы не череда бесконечных, живых, движущихся тоннелей и тьма. Весь путь на расчетную глубину проходил сквозь яркость, что отражалась в электрических лучах, сквозь цвет, что кристаллизировался из мутной и густой черноты, наполненной неожиданностью, опасностью, неизведанностью и, наверное, даже страхом. Двигались цепочкой, первым был Моро. Мысль проскользила в голове: «Он сам не знает, чего ищет…» Но за очередным поворотом во тьму мне вновь удалось сконцентрироваться и продолжить движение вглубь, не отвлекаясь на обычное для здешнего, в поисках необычного для искателей неизведанного.
Мак Мерфи замыкал цепь. Он должен был стать спасением, если случится необычное. Случится что-то, из-за чего нас двоих придется вытаскивать на поверхность. Неизведанность – главная опасность и самая большая ожидаемость на такой глубине. И Мак Мерфи, возможно, самый неожиданный из нас троих, должен был следить за тем, чего мы все ожидали. Неожиданность.
Пятьдесят метров. Семьдесят. Сто. Что мы ищем? Моро не знал. До конца не знал. А Мак Мерфи просто не думал об этом. Он был прагматичен, практичен, строг – конечно, только в работе. Это профессионализм. И жадность. Два пути, идущие обычно параллельно, но в некоторых – соединяющиеся в единую линию. «Глубина – сто двадцать пять», – пропела система в наушниках. На такой глубине кто-то сказал бы, что между нами троими нет особой разницы, ведь для этой тьмы – мы все едины, однообразны и бессмысленны. Но именно здесь мы становимся по-настоящему разными. Моро жадно двигался вперед. Он искал. И не следил за показаниями. Я – следом, повторял его движения и взгляды, был тем, кому суждено, если суждено, увидеть то, что пропустит он. За нами – Мак Мерфи. Страховка. Уверенность и сконцентрированность на том, что двое впереди – выживут.
И вот, только-только милый женский голос пропел «сто тридцать пять», как француз остановился. Завис. Будто перед ним тьма сгустилась настолько, что образовала стену, сквозь которую уже не только свет, но и вообще ничто не могло пробиться. Жестом, характерным для нас, специалистов по поиску смерти под толщей воды, Пьер приказал остановиться. Даже не он сам, а какое-то его чутье, его внутренняя система сигналов на глубине. Я проследил за его взглядом. Ничего. Мак Мерфи подобрался к нам ближе и тоже посмотрел в ту самую сторону, в которую были обращены мы. Движение. Тут я заметил его. Движение. Тьмы во тьме. Струйки тяжелого, густого, черного – медленно поднимались вверх, образуя нечто живое, нечто неописуемое, что внушало дикий, природный, первобытный страх. Свет фонарей не пробивался сквозь них, но тонул, не позволяя даже понять природу, происхождение, форму, скрывавшуюся за этим движением. Но все же каждый из нас чувствовал что-то, исходившее от этих тонких черных линий, чувствовал, что за ними скрывается нечто живое.
Пьер стал осторожно продвигаться вперед, жестом, однако, приказав нам не следовать за ним. Мы скрестили лучи наших фонарей на фигуре товарища, не испытывая никакого желания приблизиться к нашей находке.
И тут – вспышка! Как взрыв глубоководной мины. На долю мгновения тьма была отброшена прочь. Моро отбросило назад, и я лишь успел заметить, что источник свечения находился за теми черными линиями. Мак Мерфи, который пришел в себя первым, подплыл к французу, который, казалось, потерял сознание. Восстановив зрение, я не сдвинулся с места, но направил свет своего фонаря на них двоих. Тут же американец показал жестом, что необходимо срочно всплывать. Подобравшись к товарищам, я прицепил специальным тросом Моро к своему поясу. То же самое сделал и Мак Мерфи. И мы тут же начали подъем. Я двигался первым и тянул за собой бездыханного француза, Мак Мерфи – как всегда, позади. Я то и дело оборачивался, проверяя, как продвигался наш караван. Пробиваясь сквозь рифы скорее на инстинктах, гонимые неописуемым страхом, мы вскоре достигли первой декомпрессионной отметки. Сигнал в наушниках возвестил о подаче специального газа из маленького баллона. Вдруг Мак Мерфи коснулся меня рукой – и указал вниз. На самом краю лучей электрического света я увидел маленькие крапинки. Точки черноты. Нечто. Те самые витиеватые линии двигались за нами. Приближались медленно, но неумолимо. Женский голос в наушниках возвестил об окончании остановки, и мы тут же ринулись вверх. На каждой остановке в течение всего следующего часа, мы наблюдали, как черные нити поднимаются за нами следом. Мак Мерфи постоянно проверял, дышит ли Моро, работает ли его декомпрессиометр. Француз потерял сознание, но был жив и дышал.
До поверхности оставалось менее пятидесяти метров. Силы покидали нас стремительно. Страх не исчезал, как и, казалось, наш преследователь. Хотелось броситься вверх, на поверхность, найти уже наш траулер и поскорее подняться на него. Но каждые несколько жалких метров мы вынуждены были останавливаться, чтобы наши тела освобождались от различных инертных газов, в противном же случае – нас ждала очевидная смерть. Усталость практически переборола страх. Но ни тому, ни другому нельзя было поддаваться.
И тут Пьер очнулся. Задергался трос, возвещая о том, что Моро начал метаться, силясь остановить меня. Обернувшись, я увидел в руке у француза его погружной нож, которым он пытался разрезать соединявший нас троих трос. Моро действовал, двигался судорожно, совершенно для себя непривычно, будто в панике. Помешался! Пытаясь остановить, мы бросились к нему. Но обезумевший принялся размахивать ножом, разрезая водную ткань. Он превратился в дикое морское чудовище, извивающееся, словно щупальца огромного осьминога, и лезвие ножа весело отзывалось на солнечные лучи, уже пробивавшиеся через толщину вод. Мак Мерфи подплыл ко мне, схватил за плечо и указал наверх. Выход был только один.
***
На палубе ржавого траулера мы пролежали молча, может быть, больше часа. Усталость и осадок страха. Мысли, тонущие во мраке неизведанной глубины. Которой мы коснулись лишь осколком взгляда. Что это было. Что случилось с Пьером Моро. Что за щупальца тьмы следовали за нами. Были ли это галлюцинации. Видения. Сны, порожденные тьмой и давлением воды. Ни о чем не хотелось думать. Хотелось дышать сырым воздухом уже заходящего солнца. Вьетнамец исчез вместе с лодкой, соответственно. Но сил сетовать на то, что нас бросил единственный шанс выбраться, просто не было.
Мак Мерфи поднялся первым. Он стал рыскать по палубе. Он искал воду. Питьевую воду. Море спокойно тонуло в закатных красках. Найденная бутылка минералки большими жадными глотками была осушена нами. Траулер едва покачивался на водной глади. Дул западный, теплый, материковый ветер. Мы были живы, и облака в небе были рады нам и нашим опустевшим на дикой глубине от мыслей головам. Пьер умер. Точно, как крик одинокой чайки в закате. Как и то, что нам оплатили риск.
Мак Мерфи помог мне подняться. Ноги не слушались, обезумели, онемели. Все нервные окончания, казалось, были стерты о тьму. Стоял по привычке, выработанной с годами, а не по чувству твердости в ногах.
– А если он жив? – произнес вдруг американец. – Баллонов могло хватить. Его, скорее всего, отбросило подводным течением, но куда…
– Что это было, Джек?
– Почем мне знать, черт… Вспышка, помнишь…
– Помню…
– Нет сил думать…
– Посмотри! Там!
За бортом, словно маленькое, очищенное от коры бревнышко, по поверхности воды к нашему траулеру приближалось гонимое волнами нечто. Человек! Еще минута, и мы смогли различить раздетого донага Пьера, его тело, безжизненное, отданное танцу волн большой воды.
– Пусть подплывет ближе, – сказал я Мак Мерфи, – и мы сможем зацепить его чем-нибудь. Здесь должно быть что-то, может, какая сеть или…
– Смотри!.. – прошептал мой товарищ.
Приблизившееся к нам тело француза вдруг стало темнеть, чернеть на глазах. Покрывалось пятнами, полосами тьмы, как и вода вокруг него. Через секунду графитовый след – черное, матовое пятно, словно не отражающее свет, но его поглощающее, накрыло тяжелой, плотной тканью поверхность воды, будто пал занавес бархата, укрыв саваном мир, что таился в глубинах этого проклятого моря.
То, что мы увидели потом, нам не забыть. И я уверен, не описать. Мои слова – лишь пыль того, что было увидено. Тело бедного Моро вдруг поднялось над тьмой. Пьер открыл глаза и посмотрел на нас. Из черноты позади него появились две руки. Они обхватили нашего француза и подняли его еще выше над водой. Из глубины появилась она. Женщина. Чьи глаза светились глубоководной тьмой. Ее бледные губы были крепко сжаты. Черные волосы – были продолжением тьмы, средоточия глубин, что было порождением ее. Она с силой сжала Пьера. Казалось, слышно было, как кости его затрещали. Пораженные, мы не могли сдвинуться с места, а страх не позволял мыслям достичь слов. Невозможно будет передать, повторить, произнести устами человека ее слова и голос. Ими была – Луна. Та Луна, что не видна на дне, на глубине, но слышится всюду – в рокоте прибоя, в музыке приливов, тишине ночных волн, криках бурь и штормов. Ее голосом была любовь – настоящая, вечная, мифическая, сокрытая так глубоко, что человек просто не способен поверить в нее. Но тот, кто достиг-почувствовал-нашел, – отдаст за нее все. Глубина поглотила Моро, бедного Пьера Моро!..
***
Мак Мерфи, говорят, много лет потом скитался в пьяном бреду по вьетнамскому побережью и все твердил одно слово: «Клейто!» А я… Все годы эти я потратил на то, чтобы собрать достаточно денег, найти новых людей и вновь спуститься туда, вновь найти ее и остаться с ней – с Клейто Южно-Китайского моря.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?