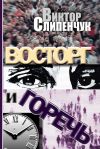Текст книги "Лики творчества. Из книги 1 (сборник)"

Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Поэтому темой театральных пьес служит всегда нарушение закона. В эпохи стихийной и суровой воли рождается трагедия – очистительные сны о роковых страстях и о благородных порывах, нарушением закона превращающихся в преступление; в эпохи буйные и страстные процветает драма; в эпохи гражданственного успокоения и счастья – бытовая и сатирическая комедия: очистительные сны о мелких любовных и общественных пороках. В каждый исторический момент у каждого народа театр представляет очистительную купель для тех возможных нарушений законности, грани которой точно определяются правовыми критериями народа.
Эсхилова «Орестейа» и «La dame de chez Maxime» с этой точки зрения являются двумя таинствами одного и того же обряда, и очистительная сила любого популярного фарса и водевиля ничем не меньше, чем очистительная сила шекспировской трагедии.
Воспитательное значение театра не в том, что он кем-то и для чего-то руководит, а в том, что он является предохранительным клапаном нравственного строя. По содержанию репертуара и по форме пьес можно всегда с точностью судить, какие преизбытки угрожают стройности человеческого общежития.
Но в этом случае отнюдь не следует смешивать драматической литературы с театром, осуществленным в сновидении зрителя. Читая тексты Шекспира и Эсхила, мы имеем дело с чистой литературой и совершенно не можем еще судить, сколько в этой литературе было «театра».
Об утверждении, о свершенности театра говорят только восторг зрителя, только аплодисменты залы.[26]26
Примечание. Несколько примеров, когда драматическая литература, ставшая ныне классической, не стала театром в момент своего возникновения. Во Франции в XVII веке полный провал на сцене потерпели «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп» Мольера, «Баязет», «Британник» и «Федра» Расина, а наибольшим сценическим успехом века были «Тимократ» Томаса Корнеля и «Le Mercure galant» Бурсо. И если нам нужно составить себе мнение о театре XVII века, то следует его составлять по этим средним пьесам средних авторов, потому что драматическая литература вышеупомянутая становится театром только в XVIII веке.
[Закрыть]
V
Причины театрального разлада, переживаемого русским театром, лежат прежде всего в душе зрителя.
Поспешно идя культурно-историческими путями, мы растянулись на несколько столетий. Нет никакой возможности провести линию уровня законности в том обществе, где мораль сверхчеловека перепутана со «страхом Божьим». В России не было никогда единого всенародного театра. Русский театр был бытовым театром то того, то иного более или менее устойчивого класса общества, то купеческим, то дворянским, то чиновничьим: то театром Островского, то театром Грибоедова и Тургенева, то театром Гоголя. Русская интеллигенция благодаря своему универсально-собирательному характеру умела обобщать эти типы театра и создала на один момент свой собственный театр – театр Чехова.
Наивность и доверчивость – вот те таланты, которыми должен обладать зритель для создания великого театра.
Но наивность в несравненно большей степени свойство культуры, чем варварства. Истинно культурному человеку свойственно с глубоким и наивным восторгом встречать все новые формы чужеземных культур; у него есть врожденный вкус к экзотизму. Варварам же свойственны скептичность и недоверчивость, а в увлечении – быстрая пресыщенность.
В русском обществе существуют одновременно: и глубокая, почти оскорбительная скептичность по отношению к формам эстетическим, которыми оно так легко пресыщается, и наивная доверчивость в области вопросов моральных, правовых и религиозных.
Основная ошибка всех театральных опытов последних лет в том, что они стремились удовлетворить эстетическим требованиям публики. Это – задача совершенно немыслимая, так как у русской публики пока еще нет эстетических потребностей, а есть только эстетические капризы и скептицизм варварской пресыщенности, который никогда не даст возникнуть на этой почве ни одному сновидению. В этой области русская душа еще не имеет тех избытков, от которых ей было бы необходимо освобождаться при помощи очистительных обрядов.
Наоборот, область моральных потребностей, в которых русская публика крайне наивна, доверчива и невзыскательна, была совершенно забыта при этих опытах.
Правда, моральные потребности русской публики выражались за последние годы в очень широких и общих идеях освободительного характера в сферах любви и в сферах политики, именно в тех областях, которые запрещены русскому театру. Но нельзя отрицать, что именно здесь и именно в последние годы очистительные обряды были совершенно необходимы и что театр как предохранительный клапан законности мог бы сыграть громадную уравновешивающую роль.
Успех пьес Леонида Андреева указывает на характер тех сновидений, которые охотно воспринимаются душою русского зрителя. Грубая постановка моральных вопросов, декламирующий пафос, лубочная символика мирового характера, отрывочный характер действия делает их более похожими на кошмары, чем на сны.
Что же касается эстетического театра, удовлетворяющего потребностям московской и петербургской эстетствующей интеллигенции, то он целиком состоит из пьес иностранных драматургов: Метерлинка, Ибсена, Пшибышевского, Гамсуна… У нас нет своих снов; мы видим сны чужих стран. Видим их иногда очень ярко, но они нас не удовлетворяют и ни от чего не очищают нас. В конце концов мы, не умея заснуть, начинаем иронизировать.
VI
Существует в настоящее время лишь одно театральное зрелище, которое безусловно владеет доверием публики. Это – кинематограф.
Элементов искусства будущего следует искать не в утончениях старого искусства, – старое должно раньше умереть, чтобы принести плод, – будущее искусство может возникнуть только из нового варварства. Таким варварством в области театра является кинематограф.
Мы видели, как в театре актер постепенно оттеснял зрителя со сцены для того, чтобы стать его сновидением. В кинематографе эта линия завершается: зритель окончательно разделен с актером, – пред ним только одна световая тень действующего человека, безгласная, но одухотворенная нечеловеческой быстротой движений. И все же это видение о действии, следовательно – театр.
Популярность кинематографа основана прежде всего на том, что он – машина; а душа современного европейца обращена к машине самыми наивными и доверчивыми сторонами своими.
Кинематограф дает театральному видению грубый демократизм дешевизны и общедоступности, вожделенный демократизм фотографического штампа.
Кинематограф, как театр, находится в полной гармонии с тем обществом, где газета заменила книгу, а фотография – портрет. У него все данные для того, чтобы стать театром будущего. Он овладевает снами зрителя посредством своего жестокого реализма. В эстетических потребностях народных масс он заменит старый театр точно так же, как в древнем мире римские бои гладиаторов заменили греческую трагедию. Под гипнотизирующую музыку однообразных маршей он показывает выхваченные сырьем факты и жесты уличной жизни. В маленькой комнате с голыми стенами, напоминающей корабли хлыстовских радений, совершается тот же древний экстатический, очистительный обряд.
Очищение от чего? Не от избытка воли и страсти, конечно, а от избытка пошлости, от повторяемости жестов и лиц, от фотографически серых красок, от однообразно-нервного кружения большого современного города. Кинематографы, вертящиеся, точно китайские молитвенные машинки, на всех углах улиц, кинематографы, ради которых в католических странах пустеют не только театры, но и церкви, – свидетельствуют о громадности той потребности очищения от обыденности, о величии скуки жизни, которая переполняет города.
Эта сторона очистительных обрядов всегда останется за кинематографом. Но когда власть над сновидениями всех городов Европы перейдет из рук Патэ и Гомона, воображение которых не может подняться выше сеансов престидижитаторства и детских нравоучительных рассказов, в руки предпринимателей более изобретательных, художественных и безнравственных, то у кинематографа откроются новые возможности. Он сможет воскресить искусство древних мимов и освободить старый театр от бремени мелкого очистительного искусства фарсов, обозрений и кафе-шантанов, которое ему пришлось принять на себя в городах. Тогда для театра драматического останется прежняя его область сновидений воли и страсти.
С этой точки зрения значение кинематографа может быть благодетельно для искусства.
Французский и русский театр
I
Когда на русской сцене приходится смотреть произведения французского театра, то как бы хорошо ни были они поставлены, переведены и сыграны, всегда остается мучительное чувство глубокой и неизбежной дисгармонии.
Никакая французская пьеса не может лечь в формы русской сцены так, чтобы они пришлись по ней вплотную, как футляр по геодезическому инструменту, так, как приходятся они театру Гоголя, Островского и Чехова.
Между тем как для немца Гауптмана, для фламандца Метерлинка, для поляка Пшибышевского русская сцена находит формы четкие и верные, иногда даже более удачные, чем на сценах их родины, самые нетрудные французские комедии, имеющие безумный успех в Париже, тускнеют, блекнут, из остроумных становятся плоскими, и утонченности их кажутся пошлостями.
То же самое повторяется тогда, когда французский театр делает попытку поставить пьесу русскую или немецкую. Постановки Гауптмана и Толстого в театре Антуана, несмотря на все усилия его талантливого директора и всю относительную гибкость того материала, которым он располагал, были совершенно неудачны. И в неудаче этой чувствовалась не случайная ошибка замысла, а коренная историческая невозможность.
Французская сцена представляет собой музыкальный инструмент, органически сложившийся и потому слишком сложный, очень точный и совершенно не гибкий. Она так математически точно соответствует стилю французской драмы, что не может поддаваться и гнуться согласно формам иноземного искусства. И, будучи сильна своим вековым прошлым, она гнет и по-своему переделывает произведения пришлого искусства.
Истинное национальное искусство не может быть податливым и гибким. Изменения совершаются в нем изнутри и наружу проступают трудно и туго. Столь нервные, тревожные и прихотливые искания новых сценических форм в современном русском театре можно объяснить только оскудением русской драмы, которая после Чехова не создала ничего нового.
Французский же театр является действительно национальным и так неразрывно связанным с формами своей сцены, как моллюск с извивами своей раковины.
Французские модные пьесы, с такой беспримерной ловкостью создаваемые остроумными парижскими драматургами, являются изысканными и прихотливыми цветами, которые могут цвести только в данной, а не иной точке земного шара. Для них нужна эта тесная, немного потертая, но ярко-освещенная зала театра, за стеной которого шумит праздная и нарядная толпа Больших Бульваров; нужна та утонченность понимания в связи с наивностью восприятия, которая делает парижанина таким благодарным зрителем всяких зрелищ.
Если зритель совершенно лишен непосредственности и творческой силы фантазии воспринимающей и обобщающей, то как бы ни были велики таланты автора и актера, – того сновидения, которое является единственной реальностью сценического действа, возникнуть не может.
Как характер и рост растения определяются всецело почвой и климатом той местности, в которой оно растет, так характер театра всецело зависит от зрителя.
Москвичи, которые по сравнению с петербуржцами являют характер экспансивный и наивный, немного восточный и немного южный, представляют несравненно более благодарную почву для создания театра. И мы видим, что театр Островского, так же как и театр Чехова, создались в Москве.
Так развитие и характер парижского театра почти всецело определены, особенностями и свойствами парижского народа.
Не зная близко парижанина, столь бессознательно по-южному свободного в своих нравах и в то же время столь строго ригористического и робкого во всех своих моральных убеждениях и теориях, невозможно понять, французских комедий, в которых с такою откровенностью трактуются свободные нравы и в то же время с полной убежденностью и непонятной страстностью защищаются самые наивные моральные тезисы. Свобода нравов и несвобода нравственности – вот что характеризует французов последнего века.
II
Французов поражает в русских больше всего наше духовное бесстыдство.
Ни один француз, разумеется, не определит этим словом то волнующее и притягательное впечатление, которое производят на него русские, между тем это именно так.
То, что русский начинает говорить с первым незнакомцем о самом главном и самом интимном; то, что он с такой ненасытной пытливостью расспрашивает и рассказывает о тайных движениях души, – французу кажется в одно и то же время и варварским, и диким, и притягательно бесстыдным, как нагота на публичному балу.
К основным чертам русского характера относится это непреодолимое -стремление душевно обнажиться перед первым встречным.
Сколько есть людей, которые не могут сесть в вагон железной дороги чтобы через несколько часов пути не начать подробно рассказывать случайному дорожному спутнику всей своей жизни с самыми сокровенными подробностями семейных и сердечных историй.
Стоит только вспомнить все разговоры на железной дороге в русской литературе: начало «Крейцеровой сонаты», первую главу «Идиота», несколько сцен из «Анны Карениной», многие из рассказов Глеба Успенского.
А если к этому прибавить те излияния, которые делаются в русских трактирах, под влиянием опьянения, и всегда касаются самого стыдного, позорного и скрытого, то становится совершенно понятным, что так поражает французов в русских и почему Жюль Лемэтр, разбирая «Грозу» Островского, писал:
«А что произошло дальше, вы себе можете легко представить, так как в России каждый муж, задавивший своего ребенка („Власть тьмы“), каждый студент, убивший процентщицу („Преступление и наказание“), каждая жена, изменившая своему мужу („Гроза“), ждут только удобного момента, чтобы, выйдя на людную площадь, стать на колени и всем рассказать о своем преступлении».
Это смелое обобщение Жюля Лемэтра перестанет казаться наивным, если проникнуть глубже и шире себе представить основные черты французского духа, диаметрально обратные духу славянскому.
Мы стыдимся своих жестов и поступков; боимся, чтобы они не показались окружающим неожиданными и необъяснимыми, и потому стремимся как можно скорее посвятить зрителей в их внутренний смысл.
Между тем французы, будучи мало стыдливыми во всем, что касается действия, поступков и всяких форм жизни, обладают непреодолимой стыдливостью при разоблачении тайных душевных побуждений, чувств и сложных переживаний.
Психология французских романистов, несмотря на ее утонченность, кажется неглубокой, потому что это всегда анализ самого действия, а не внутренних причин, его вызвавших.
Французы дико стыдливы во всем, что касается переживаний. Более спокойные и уравновешенные скрывают эту стыдливость за маской светской любезности; другие, более экспансивные, – за насмешкой, за шуткой, за французской «blague».[27]27
шуткой (фршнц.).
[Закрыть]
По известному цинизму, по известному поверхностному легкомыслию и веселости, которые становятся под конец маской, органически сросшейся с лицом, можно отличить всегда людей, склонных к особой чувствительности и непосредственности впечатлений.
Французы не стыдятся обнажать свое тело, но в них заложен непреодолимый стыд обнажения духа, который мы никогда до конца даже и понять не сможем.
Поэтому дух их всегда заключен в строгие и законченные формы, как в жизни, так и в искусстве, так как форма является истинной одеждой духа.
В жизни же эта стыдливость духа ведет к созданию масок.
III
Если, проходя по парижским улицам, долго следить за потоком глаз, лиц и фигур, то скоро начинаешь замечать известную ритмичную повторяемость лица.
То, что казалось раньше человеческим лицом, вполне законченным в своей индивидуальности, оказывается лишь общей формулой, одной из масок Парижа.
В тесных домах и тесных улицах, залитых огнями и углубленных зеркалами, так много перекипает, что смотреть друг другу на голые липа, на которых написано все, было бы слишком страшно.
Лицо, лишенное маски, в Париже дает стыдное ощущение наготы, и по этой наготе лица парижане узнают иностранцев, провинциалов и особенно русских.
Здесь живут люди, одетые в маски с головы до ног; парижанин надевает лицо так же, как платье, как шляпу, как галстук, как перчатки.
И маска эта надета не только на лице: она в жесте, в голосе, в известном обороте речи, в интонации, в повторяемой фразе, в мотиве модной песенки, в изгибе талии – во всем, что может скрыть личность.
А скрывши, отчасти и выявить, так же, как парижанка, надевая платье, выявляет наготу своего тела, ловко подобранной и обтянутой юбкой давая прочесть всю линию бедра, ноги и колена.
Маска города является естественным следствием стыдливости и самосохранения.
Люди, собравшиеся сюда для жизни возбуждающей, острой и захватывающей, маской должны свое живое лицо защищать от проституирования.
И маска так плотно прирастает к ним, что они забывают о своем лице.
Образование маски – это глубокий момент в образовании человеческого лица и личности. Маска – это священное завоевание индивидуальности духа, это «Habeas corpus» – право неприкосновенности своего штимного чувства, скрытого за общепринятой формулой.
Маска и мода тесно связаны друг с другом. Введение новых масок идьг теми же сложными путями, которыми идет введение новой моды.
Введение же новой моды – это сложная система, выработанная вековой традицией. Здесь почти не бывает революций, насильственных переворотов и coups d'état[28]28
государственных переворотов (франц.).
[Закрыть]: мода течет медленно, каждый сезон вводя новую деталь покроя, осторожно изменяв комбинации цветов и периодически возвращая к сегодняшнему дню старке образцы давно отживших мод.
Портной в Париже должен быть и археологом, и историком, и живописцем. Ему приходится работать и в Галерее эстампов в Национальной библиотеке, и внимательно следить за всеми красочными открытиями и устремлениями на картинных выставках.
Человек, не отдающий себе точного отчета об историческом значении красок импрессионистов и неоимпрессионистов, тонов Гогена, Сезанна и Матисса, никак не может быть парижским дамским портным.
Но значение одежды, создаваемой Парижем, вовсе не в том, чтобы скрыть и одеть тело; напротив: эта одежда только выявляет, раздевает и обрисовывает его. Назначение французского туалета – это скрыть и одеть дух, а вовсе не тело.
И как новые формы костюмов создаются в ученых лабораториях больших модных магазинов, – точно таким же образом новые маски духа, новые маски лица создаются в лабораториях театров, тайным сотрудничеством драматурга, актера и костюмера.
Чтобы новая человеческая маска получила право гражданства на парижских улицах, она должна появиться на сцене и быть официально закрепленной в афише и карикатуре.
IV
Парижане ходят в театр вовсе не для того, чтобы видеть сложное, страшное, голое человеческое лицо, затканное серыми паутинками жизни, – то, чего ищем мы, входя в театр: они идут, чтобы смотреть, изучать и выбирать новые маски.
И театр нигде так не соответствует потребностям публики и нигде настолько не сливается со своими зрителями, как в Париже.
Французские драматурги – это ловкие закройщики, ученые портные, которые не выходят за пределы традиционных формул сцены. Драма и комедия приняли в Париже такие же корректно-законченные формулы, как фрак, сюртук, смокинг. И драматические одежды шьются по фигуре актера с ловкостью изумительной и с искусством совершенным.
Пьесы, написанные Ростаном и Сарду для Сары Бернар в Режан, Морисом Доннэ – для M-lle Брандэс, Жюлем Ренаром для Сюзан Депре, Вилли – для Полэр, Флерсом и Кайавэ для Евы Лавальер. – это все платья, заказанные у первоклассного портного.
Только на вековых корнях и устоях может вырастать все истинно утонченное в искусстве.
Во французской пьесе такими вековыми и окаменевшими корнями являются все драматическое действие, интрига, завязки, коллизии, положения влюбленных. Эта область доведена до математического совершенства счетной машины, и в ней исчерпаны все мыслимые комбинации сценических положений.
Жизнь же, нервы и трепет пьесы – это новые маски актеров и та бесконечно разнообразная, отливающая змеиной чешуею рябь диалога, которая мертвую схему пьесы одевает в живую одежду слов и дает театру весь трепет жизни.
Французский театр в сценическом механизме дошел до математической схемы. Но когда в каком бы то ни было искусстве создается ряд канонических форм, из которых фантазия не имеет права выйти, это всегда удесятеряет силу наблюдательности и глубину видения.
Чем уже область выбора – тем искусство теснее и интимнее связано-с жизнью своей эпохи.
Поэтому французские пьесы неразделимы со своими парижскими зрителями и с криками бульваров, которые шумят за дверями театра.
Публика и актеры дробятся в бесконечных амфиладах взаимоотражений и создают тот момент эстетического наслаждения, который может расцветать, как сказочный цветок, только в известный час ночи, только в одном месте земли.
Понятно поэтому, почему среди шестидесяти театров Парижа нет ни одного, который бы сумел как следует поставить Толстого, Ибсена, Гауптмана или Чехова. – эти северные, жестокие пьесы, которые бесстыдно срывают маску с человеческого лица, обнаруживая весь ужас его.
Понятна и глубокая нелепость французских пьес, когда они переносятся на русскую сцену. Платье с чужого плеча, перекроенное неумелыми и непонимающими руками, сидит скверно, как фрак на готтентоте, и лишь стесняет движения.
Даже сыгранные французскими актерами в России, эти пьесы теряют свой смысл, так как остаются не столько непонятны, сколько ненужны зрителям.
Русский человек органически не может понять, что совсем не стыдно обнажать свое тело на сцене, но непреодолимо стыдно обнажать свою душу. А русская манера игры на сцене всем нутром, до последнего обнажения духа, французскому зрителю показалась бы только варварским бесстыдством.
Так нужно принять французский театр: он не сходит ни в какие тайники человеческого духа в поисках за жуткими тайнами, он отражает и творит только новые одежды для жизни и новые маски для духа.
За его внешними вольностями есть та стыдливость, которая для нас теперь еще совершенно непонятна, но когда-нибудь станет необходима. Это случится, когда мы вкусим яблока познания форм и после этого грехопадения устыдимся наготы своего духа.