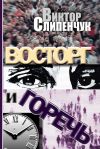Текст книги "Лики творчества. Из книги 1 (сборник)"

Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Итак, публика ценит высшую степень совершенства в том жанре, который ей предлагается. Это формула произвольная, но скорее полезная, чем гибельная для искусства. Если она не дает верного представления о вкусе парижской толпы, то она характеризует то, к чему стремится парижское искусство. «Публика требует совершенства», с такой фикцией всякое искусство может только процветать.
Тристан Бернар более аналитично подходит к публике:
«На каждой из генеральных репетиций я присутствую в зале при первом соприкосновении моего произведения с публикой… Это удовольствие, иногда очень мучительное, но все же удовольствие. Как только вы смешиваетесь с публикой, происходит странное явление: спустя немного, вы начинаете чувствовать, возымеет ли данное слово силу или нет. Таким образом, приобретается прекрасная привычка давать публике резоны против самого себя. Потому что публика всегда права. Если вы ей не нравитесь, это всегда ваша собственная вина, либо ваших исполнителей. Я говорю это вовсе не для того, чтобы советовать делать какие-нибудь уступки: никогда никаких уступок. А кроме того, весьма трудно узнать, какого рода уступки следует делать».
Опять то же самое утверждение: «публика всегда права» – утверждение, по существу неизбежное и нисколько от вкусов и тонкости понимания зрителей не зависящее; «публика всегда права» потому, что театр возникает только в тот момент, когда произведение понято и воспринято публикой. Драматург должен внутренней интуицией постигнуть, в каких формах его идеи могут быть понятыми и в каких пределах он может быть свободен. Это положение исключает всякую возможность уступок вкусу публики. Какие уступки возможны, когда вкусы толпы творятся тут же, в этом моменте понимания?
Все это указывает, на каких здоровых реалистических принципах зиждется французский театр и как много чисто эстетического импульса в этом вопросе: «Ça fera-t-il de l'argent», правильно и глубоко понятом.
Относительно масонского соглашения публики, которому такое значение придает А. Дюма, Тристан Бернар держится иного мнения:
«Важно, чтобы публика не успела поддаться никаким иным влияниям, чем влияние автора. Поэтому одноактная пьеса, которой вы держите зрителя за пуговицу пальто, в сто раз легче, чем три акта, между которыми вы выпускаете в коридоры эту непостоянную и легкомысленную публику. В этих опасных местах она искажает свое впечатление, стараясь его выразить. Вот то, в чем даешь себе отчет, когда смотришь свои пьесы из залы. Здесь можно заметить свои ошибки и в следующий раз уже не повторить их. Зато наделаешь новых – в этом нет сомнения: выбор велик».
Одним словом, не суд публики важен, а постоянная самопроверка по отношению к ней. В своей интересной, остроумной и разнообразной книге Тристан Бернар дает десятки примеров и намечает много русл, по которым понимание публики может быть отвлечено от главного и привести к неверной оценке.
А судить о том, права была или неправа публика относительно произведений, не имевших успеха, может только последующее поколение. Театральной публике прошлых веков мы можем поставить на вид много ошибок, которые теперь кажутся грубыми. Перед нами маленькая заметка Реми де Гурмона: «Les grands succès de théâtre au XVII siècle», которую он начинает вопросом: «Какое отношение существует в классическом веке между действительной ценностью театральной пьесы и ее успехом перед публикой?».
«Публика XVII века представляла собою круг более узкий и более сплоченный, чем та, которая испытывает нас, – отвечает он, – но и она очень плохо выражала мнение потомства. Стоит только отыскать в специальных изданиях несколько цифр и несколько имен. Это может дать более полезный материал для размышления, чем большой трактат о произвольности человеческих суждений». Самый большой успех великого века, единственный, который напоминает наши демократические успехи, имела трагедия Томаса Корнеля «Тимократ». заимствованная из истории об Алкмене в романе Ла-Кальпренеда «Клеопатра». Она выдержала 80 представлений, что равняется тремстам или четыремстам представлениям наших дней; «Тимократ» довольно точно со всех точек зрения, а также и с декадентской, является предвозвестником «Сирано де Бержерака». Комедия Бурсо «Le Mercure galant» имела «почти такой же успех».
«Мнимый больной», «Сганарель», «Школа женщин» Мольера едва достигли половинного успеха этих пьес. Еще меньший полусомнительный успех, но довольно скоро укрепившийся благодаря возобновленным постановкам имели: «Александр Великий» и «Андромаха» Расина, «Сид» Пьера Корнеля, «Амфитрион» Мольера.
Окончательно провалились и в свое время так и не были признаны: «L'avare». «Le bourgeois gentilhomme», «Les femmes savantes», «Le misanthrope» Мольера; «Bajazet», «Britannicus». «Phèdre» и «Hippolyte» Расина; «Don Sanche d'Arragon» Пьера Корнеля.
Это доказывает, что догмат: «Публика всегда права» – имеет глубокое практическое значение для драматического творчества, но историческая справедливость его сомнительна.
А все же интересно было бы увидеть теперь на сцене «Тимократа» и «Mercure galant»… Если бы они и не удовлетворили нас художественно, то мы, вероятно, нашли бы в них то, что нам рассказало бы о стиле и вкусах XVII века интимнее, чем Мольер и Расин.
Итак, вопрос о том, что собственно публика ценит, для французских драматургов остается не выясненным. Несмотря на все тонкие наблюдения и теории заинтересованных, главную роль играет внутренняя интуиция драматурга: кто несет в себе самом трепеты современности, тот находит и пути к пониманию публики. В этом скрыта и глубокая правда, так как всемирными и вечными становятся не те произведения, которые опережали свое время, а те, что выразили свою эпоху в наибольшей полноте. Только в них есть та глубина человеческая, которая позволяет читателю иных веков, заглянувши в них, увидеть смутный облик своего собственного лица. А не в этом ли заключается вся тайна понимания: узнать в художественном произведении самого себя?
Во всяком случае, эта неразрешимость вопроса о вкусах парижской публики благотворна для драматического искусства, так как в противном случае оно было бы обречено на безвыходные клише, которых и без того вполне достаточно во французском театре.
Но любит ли публика новое и неожиданное? Тристан Бернар отвечает на этот вопрос тонко и остроумно:
«Публика хочет неожиданностей, но таких, которых она ожидает. Разумеется, время от времени драматурги-изобретатели дают ей кое-что новое, чтобы пополнять запасы. Но это новое не сейчас же вступает в обращение. Для того чтобы иметь успех, очень часто это новое должно быть переделано разными драматическими закройщиками, которые его усовершенствуют и сделают немного не таким новым».
III. Театральные трафареты
Путь закройщиков… Вот мы опять натыкаемся на термин, разбиравшийся в начале первой статьи по поводу слов Поля Гзеля о том, что в «наши дни становятся драматургами точно таким же образом, как становятся фабрикантами обуви». В распоряжении любого драматурга находятся сотни готовых масок, уже засвидетельствованных и одобренных публикой. Их нужно уметь подобрать и скомбинировать. Выкройка патрона пьесы не так трудна, так как в этой области мода изменяется медленно, известные фасоны носятся десятилетиями: пьеса с интригой заменилась пьесой психологической, кое-какие изменения происходили в манере завязок и развязок, финалы актов одно время старались быть, «как в жизни», и занавес опускался на полуслове. Интереснее выбор готовых масок, находящихся в распоряжении драматургов. Эти маски многочисленны и милы большой публике.
Предположим, нужны персонажи для трагедии первых времен христианства (этот жанр процветал в Париже и до триумфального шествия «Quo vadis», явившегося его увенчанием).
«Христианская трагедия, действие которой происходит в один из первых трех веков Империи, от Нерона до Диоклетиана, ведет за собой ряд неизбежных персонажей (это говорит Жюль Леметр): тут вы непременно найдете раба-христианина, философа-стоика, эпикурейца, скептичного и терпимого, римского сановника, а главным образом созданную по прототипу Горациевой Левконои, вопрошавшей всех богов, чтобы найти лучшего, – патрицианку с неудовлетворенностью в душе; она становится христианкой из романтизма. Потом там есть неизбежно „местный колорит“, нестерпимый римский местный колорит, который, впрочем, нисколько не лучше, чем испанский колорит в „Рюи Блазе“ или колорит возрождения в „Henri III et sa cour“; он повсюду вплетается в диалог различными подробностями кухни, обстановки, костюма – неуклюжая мозаика, которая делает разговоры похожими на стилистические задачи, которые задаются изобретательными учителями словесности, когда надо употребить те или иные неподходящие слова. Выходит, точно люди страдают каким-то словесным недержанием и в известные моменты испытывают неодолимую потребность называть и описывать друг другу различные предметы первой необходимости и вещи, на которые уже никто не обращал внимания в обычной жизни. Кажется иногда, что персонажи этих драм испытывают чувства трехлетнего ребенка и что они, впервые ошеломленные и очарованные, открывают ту цивилизацию, в которой живут.
Да, кроме того, я забыл Галла – нашего предка – доброго раба или гладиатора, которого никакой автор не позабудет сунуть в один из закоулков пьесы и которому всегда отведена почетная роль, чтобы польстить нашему патриотизму. Кроме того, он еще предчувствует судьбы Франции и предвидит иногда не только революцию 1789 года, но и погром 1870 г.
Что же касается действия, то оно состоит всегда в любви язычницы христианину (или наоборот) и в тех усилиях, которые она делает для того, чтобы обратить его к вере. Если он раб патрицианки (или наоборот), то все, разумеется, идет превосходно. В пятом акте прекрасная язычница осеняется благодатью и смешивает свою кровь с кровью своего возлюбленного. Таким образом, все кончается прекрасно. Впрочем, выйти из этого положения как-нибудь иначе очень трудно. Для того чтобы найти иное, чтобы создать иллюзию и глубину, чтобы выразить душу христианина первых веков, не впадая в банальность, для этого нужно обладать душою и гением Льва Толстого».
Как бы в параллель этому Тристан Бернар так характеризует трафареты современной психологической пьесы:
«Не выношу, когда в последнем акте является человек, который устраивает все, который уговорит молодую женщину (или молодого человека), что она (или он) должна простить. Я слишком хорошо знаю, что после известного сопротивления, длительность которого известна заранее, этот устроитель судеб получит согласие и скажет молодой женщине: „Итак… я его сейчас приведу?.. Он внизу в экипаже“. И он всегда там внизу в экипаже, потому что необходимо привести его сейчас же – час поздний и публика ждать не будет… И еще ненавижу появление этого господина из экипажа, который стоит несколько минут в глубине сцены молча, а потом говорит слабым голосом: „Эммелина, мы с тобою бедные дети… ни ты, ни я, мы не хотели сделать плохо, а причинили друг другу боль…“. А те, которые падают друг другу в объятия!.. Этого зрелища я больше не в состоянии выносить… Когда я чувствую, что они сейчас упадут, я закрываю глаза, как те зрители, которые затыкают уши перед тем, как начнут стрелять… Прежде всего, целование, тщательно прорепетированное, проходит слишком уж хорошо. Каждый из целующихся подымает правую руку и опускает левую, чтобы объятие прошло без зацепок… А раньше, – к счастью, это больше уже не делается, – при встрече двух братьев старший брат, обняв младшего, медленно проводил ладонями по всей длине рук данного младшего брата и, взяв его за руки, говорил: „Hein, c'est bien toi… fidèle compagnon…“.[35]35
«А, это ты… верный товарищ…» (франц.).
[Закрыть] A еще сцены между господином и дамой, которые разговаривают о своих маленьких делах, но автор обычно чувствует потребность поднять тон. Тогда вместо того чтобы сказать: „Я доверчив“, господин не колеблясь провозглашает: „Мы мужчины, – мы доверчивы“, а дама отвечает: „Мы женщины“».
Берто и Сеше в одной из глав своей «Эволюции современного театра» составили толковый указатель общеупотребительных масок современной серьезной комедии. Эти характеристики настолько ценны, что на них хочется остановиться подробнее.
«Трафареты в театре бессмертны, – говорят Берто и Сеше, – они представляют последовательную эволюцию драматического искусства, диаметрально противоположную эволюции самого общества: они мертвеют развиваясь, а драматурги находят их настолько практичными, удобными для развития действия и приятными публике, что расстаются с ними лишь в случаях крайней необходимости. Им лень изобретать новые маски, и это заставляет их привязываться к старым с такою ревностью, что нужен протест самой публики, которой наконец надоедает видеть на сцене фантошей; не соответствующих никакой действительности, чтобы обязать своих театральных поставщиков к новым завоеваниям».
Такова общая судьба театральных масок – вначале они бывают живыми фигурами, если и не взятыми из жизни, то одаренными призрачной реальностью, а после от чрезмерного употребления начинают стираться, становятся отвлеченными схемами, потом марионетками, наконец, карикатурами. Сценическая их живучесть объясняется всегда какими-нибудь моральными, дидактическими или техническими удобствами, с ними связанными.
Так, еще недавно в комедии нравов, преследовавшей моральную проповедь, необходимейшим персонажем являлся резонер. Естественно, что он царит в театре Дюма-сына. Дюма облекает его во всевозможные костюмы, чтобы сделать его естественным. В «L'étrangère» Рэмонен является ученым «химиком душ, самым глубоким из психологов, самым педантичным из моралистов»; в «L'ami des femmes» это де Рион, в «Visite de noce» – Лебоннар. В новейшем театре резонер является в последний раз в лице – Морэна в «Torrent» Мориса Доннэ. Морэн – это писатель-психолог и светский исповедник. «Г-н аббат, – говорит он духовному исповеднику отцу Блокэну, – мы, как два авгура, не можем смотреть друг на друга без слез».
«В сущности, если подняться к его первоисточникам, – резонер это не что иное, как вечный и необходимый хор античной трагедии. Когда он освещает движения души действующих лиц и дает сведения о современных нравах, что он делает если не исполняет обязанности древнего хора? Не следует ли он так же, как и хор, шаг за шагом за каждым из персона-шей в его эволюции? Резонер это создание не одного поколения, но можно утверждать, что ни один из трафаретов не был более необходимым и более эксплуатируемым в том поколении, которое предшествует современным драматургам. Последнее воплощение резонера – это тип специалиста-психолога, писателя-аналитика душ, который втерся бог весть как в литературу между 1885 и 1900 годами и теперь уже успел настолько выйти из моды, что вызывает улыбку. Если эта роль кажется нам такой ненавистной, то это потому, что по самому существу своему она условна. Театр живет действием. Он должен показывать, а не объяснять. Резонер же главным образом объяснитель, который на каждом шагу мешает действию. Нужна была вся ловкость Дюма, чтобы спасти этого персонажа, и понадобилось несколько веков театра, чтобы выявить всю его нехудожественность. Но насколько он неприятен зрителю, настолько он удобен для автора. Монтад в „Prince d'Aurec“ Лаведана читает в первом акте целую лекцию; Гектор Тессье в „Demi-vierges“ Прево излагает теорию краха стыдливости. Но театр больше не нуждается в этих „diables boiteux“ во фраках и белых перчатках, которые разоблачают тайны разных существований, с сожалениями или философствованиями. Но современный театр может обойтись и без них. Тип резонера не имеет больше прав на существование в литературе нашей эпохи» (Берто и Сеше).
Менее необходимы, но не менее истасканы различные национальные маски. Во время реставрации была популярна маска англичанина с рыжими бакенбардами и рыжими волосами, который смешил публику своими «Aoh! Yes!» и идиотскими репликами; этого англичанина можно еще иногда видеть и теперь в театрах парижских окраин. Во время второй империи был популярен бразилец, усыпанный золотом и бриллиантами, приезжающий в Париж веселиться и любить. Он еще не вышел из репертуара Théâtres des quartiers.
Ходким трафаретом современного театра является американец-янки. Это положительный тип морального театра. По своему значению он напоминает Штольца в «Обломове».
Этьен Рей посвятил развитию этой маски статью, в которой доказывает, что этот условный тип был изобретен во всех своих деталях исключительно для удобства драматургов, которым нужен был моралист, благородный персонаж, благодетельный «Deus ex machina». Он делец, миллионер, он появляется для того, чтобы противопоставить себя – представителя новой энергии и новой культуры – развращенным нравам и слабости старой Европы. Он – мировой чемпион морали.
Дюма первый изобрел его со всеми его основными чертами в лице Кларксона в «L'étrangère». Кларксон в один месяц строит города: «Первые поезда подвозят мне отель, ресторан, школу, типографию, церковь; через месяц лагерь превращается в город с дворцом посередине». Это человек первобытный, с чувствами прямыми и сильными, несколько грубый, но откровенный. Он борется против развращенности Парижа. «Мы женимся только по любви… и любим только тех, кто умеет работать».
Американец был использован и Анри Беком в «Parisienne», и Абелем Эрманом в «Transatlantiques», и Полем Эрвье в «Cours au flambeau». Всюду его отличительными чертами являются быстрота передвижения, колоссальное состояние, атлетическая сила, простота вкусов, здравый смысл, уверенность, простота и честность. Станжи (у Эрвье) кидает миллионы «широким жестом, свойственным Новому Свету». «Станжи из вашей гостиной прямо уезжает в Луизиану во фраке и в белом галстуке. Он не заедет даже домой, чтобы переменить костюм. В дорожном саке он найдет свое обычное платье и переоденется, когда будет время».
Кроме этих национальных масок существует еще «русский революционер». Это новое изобретение, но еще не допущенное в серьезную комедию. Пока оно составляет только монополию театра ужасов. Но успех «Grand soir» и «Les oiseaux de passage», где был удачно дан силуэт Бакунина, представляет для драматургов большие возможности.
Маске еврея во французском театре была посвящена Абраамом Дрейфюсом лекция (в 1886 году) и большая статья Рене де Шаваня в «Mercure de France».
Во французском театре XVIII века еврея как типа не существовало вовсе. В XIX веке создается определенный трафарет.
«Принято, что еврей на сцене должен быть забавен», – говорит Дюма в предисловии к «Francillon».
«На сцене еврей должен быть отвратительным», – говорит Эннери. – Почему? «Это театрально», – отвечает Сарсе.
Как на единственные исключения из этого правила можно указать только на раввина в «Ami Fritz» Эркмана-Шатриана и на раввина в «Mères-ennemies» Катюлля Мандэса.
Если евреи на сцене отвратительны, зато еврейки настолько же очаровательны, одарены всеми моральными совершенствами, несравненной красотой и внушают непобедимую страсть христианским юношам.
«Еврейка в театре может внушать страсть только христианам, потому что евреи в этом мире сплошь безобразны, грязны и стары. Молодого еврея до самых последних лет на сцене не существовало. Но почему еврейка имеет в театре исключительные права на красоту? Шатобриан уверял, что на еврейках, за то что они не принимали участия в издевательствах над Христом, сияет луч небесной благодати. Но Шатобриан очень легкомысленно обращался с лучами благодати» (Рене де Шавань).
В современном театре еврей появляется в качестве миллионера, что его отчасти роднит с «американцем».
Прототип этой маски – барон де Горн (в «Prince d'Aurec» Лаведана), по поводу которого Жюль Леметр писал: «Но не будем забывать, что не все евреи банкиры и что между ними есть даже не миллионеры. Но на сцене банкир никогда не может быть банкиром вполне, если он не еврей».
Поэтому сам же Леметр попробовал создать на сцене тип миллионера не еврея. Эта маска оказалась удобной, и она встречается и у Мориса Доннэ, и у Ромэна Коолюса, и у Абеля Эрмана. А у Октава Мирбо в «Les affaires sont les affaires» она получает заключительный удар резца в фигуре Исидора Леша.
Драматическое положение этих миллионеров всегда схоже: они личной энергией приобрели свое громадное состояние, но жизнь их разбивается или семейной драмой, или неожиданной финансовой катастрофой. Эта маска только что кончает кристаллизироваться, ей предстоит большое будущее в современном театре.
Маска честного человека была очень распространена в театре середины XIX века. Во времена бальзаковские это был нотариус, который своим опытом помогал ветреной молодежи. Иногда это был добрый кюрэ, который в пятом акте «спасал душу и пьесу». В театре Дюма это старый друг, верный товарищ, утешитель в испытаниях жизни и моралист; иногда домашний доктор и врач души, «мораль которого один из видов гигиены». Но все эти маски более или менее скомпрометированы, и все они стушевались перед маской «добродетельного инженера», который оказал драматургам неисчислимые услуги. Его генеалогия была рассказана Франциском Сарсе по поводу пьесы Легуве «Par droit de conquête»:
«Предполагают обыкновенно, что персонажи, выводимые драматургами на сцену, скопированы с действительности. Приходится убедиться, наоборот, что это чрезвычайно редко; что только иногда некоторым гениальным авторам удавалось внести в театр правдивые типы и заставить публику, которая в большинстве случаев отказывается признавать их естественными, принять их.
Скрибы всех времен никогда не давали зрителям образа того, что существует, а лишь образы того, что должно существовать, а это совершенно иное. Они не творят своих действующих лиц по тем образцам, которые они видят перед глазами; они их берут и строят согласно существующим представлениям: это искусственные существа, которых публика ценит, которым аплодирует, потому что находит в них черты, ею же придуманные, потому что в них она узнает себя и сама собою любуется именно в той области, что ей дороже всего, – своими предрассудками.
Какое из предвзятых мнений царило последние годы? Мнение, что самая большая заслуга человека – это покорять силы природы, заставлять их служить себе: засыпать долины, срывать горы, владеть паром, водой, ветром и распределять их согласно своей воле и своим нуждам; строить мосты, рыть туннели, бронировать корабли, – одним словом, покорять природу – вот идеал нынешнего поколения.
Этот идеал воплотился в человеке, ученике политехнической школы, в инженере. Это он – представитель действующей науки, и так как предполагается, что в мире нет никакого иного прогресса, чем покорение сил природы, то драматурги сделали из него одновременно миссионера и апостола прогресса.
Он стал героем по преимуществу: все взгляды обращены на него, и, мало-помалу образовался предрассудок, что он должен быть оделен всеми добродетелями и увенчан всеми венцами. Театр его окончательно присвоил себе и дал ему, естественно, лучшую роль – первого любовника».
Берто и Сеше прибавляют к этой характеристике: инженер служит для антитезы положения, приобретенного честным трудом, положению, приобретенному правами наследства. Это символ нового класса общества. Это честь, отдаваемая науке драматургами и зрителями-буржуа, наивными, невежественными и очень ослепленными чудесами текущих открытий. Это наглядное доказательство аксиомы, что труд укрепляет и душу и тело, что труд облагораживает, что труд возвышает личность, что труд – это патентованное удостоверение всех добродетелей и всех героизмов. Кроме того, это лесть по адресу торжествующей буржуазии, и в свое время, когда этот тип был изобретен Эмилем Ожье (Андрэ Лагард в «Contagion»), это была большая новость, так как и в жизни роль инженера не старше полувека.
Андрэ Лагард, родоначальник жанра, живет с рабочими, работает вместе с ними на заводах, служит десять месяцев машинистом «день и ночь лицом к огню, спиной на ледяном ветре». «Как я был горд первыми деньгами, что я послал своей матери… Они пошли на ее похороны… Бедная святая женщина!». Он патриот, он проектирует канал между Кадиксом, и Рио-Гвардиарио, чтобы убить Гибралтар; он разоблачает английские козни, он спасает честь своей сестры, он делает прекрасную партию и женится в последнем акте.
«В течение двадцати пяти лет он наводнял сцену своим добродетельным присутствием, он был обетованным женихом всех инженю, обласканным зятем благородных отцов; ни один счастливый брак не заключается без его участия, и ни одна счастливая семья не могла обойтись без его присутствия. В течение двадцати пяти лет эти свойства добродетельного инженера так гипнотизировали драматургов, что ради него они совершенно забыли о существовании иных профессий».
В настоящее время ему делает конкуренцию путешественник и исследователь новых стран. Это тоже один из идеалов национальной энергии и героев воли. Он настолько практичен, что ни один из современных авторов не мог обойтись без него.
Роже де Серан из «Monde où l'on s'ennuie» Пальерона (один из родоначальников) путешествовал по Малой Азии: «Представьте себе страну, совершенно неисследованную, – настоящий рудник для ученого, поэта и художника». Шамбрэ в «L'Age ingrat» Жюля Леметра «первый европеец, который поднялся к истокам Нигра…». Он высказывает свои мысли до конца, не стесняясь, в лицо каждому. Поль Монсель в «Fille sauvage» «посетил самые дикие племена»; «у него глаза такие глубокие, его взгляд. точно падает с высоты». Мишель Прэнсон в «Le coup d'aile» «стал в Конго чем-то вроде короля», и «у него душа мятежника». Он же появляется и в «L'autre danger» Мориса Доннэ и в «Dédale» Эрвье. Дюма говорит про него: «Он идет через жизнь с одной рукой полной прощений, а с другой полной возмездий, искореняя бунт, понимая слабость и увлечения мгновения». «Это люди других времен», – говорит Ожье. Эрвье говорит «об особого рода рыцарственности, которую они приобретают в своих дерзких предприятиях».
«Это герои легенды, противопоставленные низости и пошлости нашего века, – говорят Берто и Сеше; – это один из самых отвратительных трафаретов, которые существуют в нашем театре, потому что ни разу за все свое существование он не имел лика живого человека. Он был искусственным с первого же дня своего существования. И это тем более печально, что среди живых путешественников существуют удивительно интересные для наблюдателя характеры, которые вовсе не являются образцами доброты и бескорыстия. Между тем у театрального путешественника всегда все достоинства и добродетели. Как и „инженер“, он всегда примерный сын, прекрасный муж и пылкий патриот. В смысле „простой, сильной и искренней натуры“ путешественник соперничает с „американцем“ и, как он, является критиком нравов и спасителем последнего акта».
Трафареты, как мы видим, делятся и создаются главным образом благодаря специализациям. Это в большинстве случаев типы мужские. Женщины, которые трактуются драматургами почти исключительно с точки зрения чувства, менее склонны к трафаретным обобщениям. Старый репертуар знал некоторые женские маски, которые стали теперь почти балаганными, как «роковая женщина», как «теща», как «женщина с темпераментом», которая не может видеть молодого человека, чтобы не воскликнуть: «хорошенький мальчик… красавец военный…»; но еще живы «бонна» (бывшая «субретка»), которая «за полученную монету дает пояснения, необходимые для хода пьесы», и «старая нянька, которая воспитала героя драмы».
Единственная женская специализация, созданная театром последних лет, которой предстоит еще будущность, это «мятежница», которая протестует против косности родителей или узости мужа. Эта маска уже разработана в романе, но еще мало проникла на сцену. Это «La révoltée» Жюля Леметра.
Вот несколько трафаретов и костюмов из обширного бутафорского -склада, всегда готового к услугам начинающих драматургов. Конечно, их гораздо больше, этих фантошей театра, со всеми их оттенками, вариациями, сочетаниями. Я старался их дать в характеристиках самих же французов, потому что глаз иностранца, более способный уловлять то, к чему пригляделись сами французы, никогда не может уловить тех тончайших оттенков пошлости, которые различимы глазу французского театрального критика, «прикованного к тачке фельетона».
Итак, это материал. А рецепты для его смешения, механизм пьесы? А веревочки, которыми дергают паяцев?
На это не так легко ответить. Законы движения во французской драме, их типы и влияние моды на них требуют отдельного и гораздо более подробного исследования.
А в смысле возможности – вот два противоположных рецепта изготовления пьес. Один для тех, кто работает с готовыми трафаретами, другой для тех, кто предпочитает художественное наблюдение жизни.
Фейдо, автор знаменитой «La dame de chez Maxime», говорит: «Придумывая разные штуки, которые вызовут ликование в публике, я не веселюсь, а сохраняю всю серьезность и хладнокровие химика, приготовляющего лекарство. Я ввожу в свою пилюлю один грамм суматохи, один грамм неприличностей, один грамм наблюдательности. Затем я растираю все эти элементы, как можно дольше и как можно лучше. И я знаю почти наверняка, какой эффект произведут они. Опыт научил меня отличать хорошие травы от плевел. И я очень редко ошибаюсь в результатах».
А Франсуа де Кюрель, утонченный и сдержанный автор «L'envers d'une sainte», «L'invitée», «Repas du lion», говорит:
«Определить эстетику сцены, согласно моему идеалу, очень трудно… Быть может, я могу дать неофитам такой рецепт во вкусе поваренных книг: Возьмите любой „fait divers“, сделайте ему гарнир из мыслей, и чем больше, тем лучше, и подавайте горячим. И получится хорошая пьеса, которая понравится и простодушным и утонченникам; и в ней будет цельность, потому что туда войдет и движение, которое есть основа драмы, и философия, в которой ее благородство».