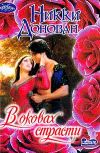Текст книги "Пробуждение"
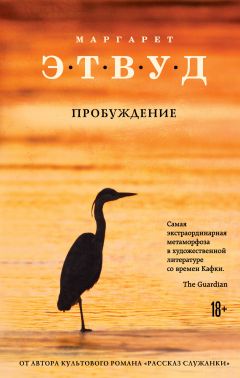
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Поступай, как считаешь правильным, – сказала она, не открывая глаз. – На улице снег?
…Мы все сидим и качаемся на веранде. Мне хочется спросить Поля об отце, но это он должен начать разговор, поделиться со мной новостями. Может, он не хочет этого; а может, деликатничает, ждет, когда я буду готова. Наконец я спрашиваю:
– Что с ним случилось?
Поль пожимает плечами.
– Просто пропал, – отвечает он. – Я иду к нему как-то раз повидать, дверь открыта, лодки на место, я думать, может, он отошел где-нибудь рядом, и я жду немного. На следующий день я снова иду, все то же самое, Эль начинать волноваться, где он, я не знаю. Так что я пишу тебе, он оставил твой caisse postale[14]14
Почтовый ящик (фр.).
[Закрыть] и ключи, я закрываю его место. Его машина, она тут, со мной.
Он указывает за спину, в сторону гаража. Мой отец доверял Полю, говорил, что Поль может построить или починить что угодно. Как-то раз их настигла трехнедельная буря с дождем, и отец сказал, что, если вы с кем-то можете провести три недели в сырой палатке и не убить друг друга, значит, это хороший человек. Поль олицетворял для него идеал простой жизни; но для Поля такая жизнь была суровой необходимостью.
– Вы смотрели на острове? – спрашиваю я. – Если лодки на месте, он не мог покинуть остров.
– Я смотрю, конечно, – говорит Поль. – Я говорю полиции дальше по дороге, они смотрят кругом, никто ничего находят. Твой муж тоже здесь?
Вопрос прозвучал неожиданно.
– Да, он здесь, – говорю я.
Эта ложь выскочила непроизвольно. Поль имел в виду, что такими вещами должен заниматься мужчина. Джо сгодится в качестве дублера. Мое семейное положение все осложняет – эти люди, видимо, считают, что я замужем. Но я спокойна на этот счет, у меня кольцо, я его никогда не выбрасывала, оно помогает при общении с домохозяйками. После свадьбы я послала родителям открытку, и они должны были рассказать об этом Полю; о разводе они ему явно не говорили. Здесь не в ходу такое слово, как развод, и не стоит огорчать их.
Я жду, когда мадам спросит меня о ребенке, я к этому готова, пусть спрашивает – скажу, что оставила его в городе; это будет чистой правдой, только речь о другом городе, в котором живет мой муж, бывший муж, и ребенку лучше с ним.
Но мадам не касается этой темы, она берет еще кусочек сахара с подноса рядом с ней, и перед моим мысленным взором вдруг возникает бывший муж, в каком-то кафе, не городском, а придорожном, по пути куда-то или откуда-то, к какой-то цели или встрече. Он отдирает от сахара бумажку с рекламой и бросает ее в чашку, я что-то говорю, и его губы снисходительно кривятся – должно быть, все это было еще до появления ребенка. Он улыбается, и я тоже, думая о кружочке соленого огурца, приставшем сверху к его клубному сэндвичу. Круглая памятная дощечка на стене супермаркета или автостоянки, отмечающая место, где когда-то стояло здание, в котором произошло малозначительное событие, – просто смешно. Он накрывает мою руку своей, он часто так делает, но от него легко избавиться, и чем дальше, тем легче. У меня нет на него времени, я переключаюсь на другие проблемы.
Отпиваю чай и покачиваюсь, у меня в ногах потягивается собака, озеро за окном покрывается рябью от разгулявшегося ветра. Мой отец просто-напросто исчез, растворился. Когда я получила письмо Поля – «Ваш отец пропал, никто не может найти его», – мне с трудом верилось в такое, но это оказалось правдой.
Раньше на стене веранды висел барометр в виде деревянного домика с двумя дверцами, за которыми были мужчина и женщина. Перед ясной погодой из своей дверцы показывалась женщина в длинном платье с передником, а перед дождем она скрывалась в домике, и вместо нее появлялся мужчина с топором. Когда мне первый раз объяснили что к чему, я решила, эти человечки управляют погодой, а не реагируют на нее. Мои глаза выискивают домик, мне нужно предсказание, но барометра нигде нет.
– Думаю спуститься к озеру, – говорю я.
Поль поднимает руки ладонями наружу.
– Мы смотрим уже два, три раза.
Но они наверняка что-то упустили, я чувствую, что сама все увижу другими глазами. Возможно, когда мы придем туда, отец уже вернется, где бы он ни пропадал, и будет сидеть в хижине, ожидая нас.
Глава третья
По пути обратно к мотелю я делаю крюк к берегу, где должны говорить по-английски: нам понадобятся какие-то продукты. Я поднимаюсь по деревянным ступенькам, мимо дремлющей лохматой дворняги, привязанной к перилам обрывком бечевки. Ручка сетчатой двери магазина украшена эмблемой сигарет «Черный кот»; я открываю дверь, и меня окутывают запахи магазина: слабый сладковатый аромат сдобы в картонных коробках и прохладительных напитков из холодильника. Недолгое время здесь находилась почта – на стене висит табличка «DEFENSE DE CRACHER SUR LE PLANCHER»[15]15
Плевать на пол запрещено (фр.).
[Закрыть] со штампом с гербовой печатью.
За кассой стоит женщина примерно моих лет, но под ее одеждой явно есть бюстгальтер, у нее светло-русые усики; волосы с бигуди затянуты розовой сеткой, и еще на ней свободные брюки и вязаная безрукавка. Старый священник определенно умер, он не одобрял женщин в брюках, только в длинных бесформенных юбках и темных чулках, и требовал, чтобы они не оголяли рук в церкви. Шорты были вне закона, и многие из этих женщин проводили всю свою жизнь рядом с озером, так и не научившись плавать, потому что стыдились надевать купальник.
Женщина за кассой смотрит на меня, изучающе и без улыбки, и двое мужчин за стойкой с прическами под Элвиса – утиная гузка с затылка и лоснящийся кок надо лбом – прерывают разговор и тоже смотрят на меня, не убирая локтей со стойки. Я мнусь: может, порядки изменились и здесь больше не говорят по-английски.
– Avez‐vous du viande hâche?[16]16
У вас есть рубленое мясо? (фр.)
[Закрыть] – спрашиваю я кассиршу, краснея от своего произношения.
Она ухмыляется, как и двое мужчин, но они смотрят не в мою сторону, а друг на друга. Я понимаю, что сглупила – нужно было притвориться американкой.
– Амбургеры? – уточняет кассирша. – О, да, масса. Хотите?
Она произносит «хотите» с небрежной легкостью, не оглушая первый слог, давая мне понять, что может говорить на правильном английском, если хочет. Они живут вблизи границы.
– Один фунт, – прошу я. – Нет, два фунта.
И краснею еще больше, поскольку меня слишком легко раскусили, и теперь они потешаются надо мной, а я даже не могу показать им, что понимаю комичность ситуации. Кроме того, я с ними согласна: если живешь в другой стране, говори на местном языке. Но я здесь не живу.
Кассирша берет тесак, отрубает кусок замороженного мяса и взвешивает.
– Опатьки, – говорит она, передразнивая мой школьный выговор.
Двое мужчин хихикают. Я утешаю себя тем, что вспоминаю человека из правительства, который был на открытии выставки ремесленных поделок: настенные драпировки из бисера, тканые коврики, каменные наборы посуды; Джо решил пойти туда, чтобы потом повозмущаться, что его работы не приняли. Этот человек был, похоже, атташе по культурным связям, а может, послом; я спросила его, знает ли он регион страны, где я выросла, и он покачал головой и сказал: «Des barbares, они не цивилизованы»[17]17
Варвары (фр.).
[Закрыть]. Тогда это меня задело.
Я беру баллончик спрея против насекомых для ребят, несколько яиц и бекон, хлеб и масло, какие-то консервы. Все здесь дороже, чем в городе; больше никто не держит ни кур, ни коров, ни свиней – все это ввозится из более плодородных областей. Хлеб упакован в вощеную бумагу, tranché[18]18
В нарезке (фр.).
[Закрыть].
Мне хочется выйти оттуда задом наперед, чтобы никто не пялился мне в спину; но я заставляю себя выйти по-человечески, причем медленно.
Раньше в деревне был только один магазин. Он располагался в передней части жилого дома, и им управляла старуха, которую тоже называли мадам: в те времена у женщин не было имен. Мадам продавала нам дешевые леденцы цвета хаки, которые нам запрещали есть, но главное, что возвышало ее в наших глазах, – это то, что у нее была только одна рука. Другая рука оканчивалась мягкой розовой культей, наподобие слоновьего хобота, и мадам умела рвать нить на свертках, обмотав ее вокруг культи и потянув. Эта рука, лишенная кисти, составляла для меня большую тайну, почти такую же невероятную, как Иисус. Мне хотелось знать, каким образом она лишилась руки (возможно, она сама отрезала ее) и где теперь эта рука, а главное, могла ли моя рука когда-нибудь стать такой; но я никогда не спрашивала мадам ни о чем подобном, поскольку боялась возможных ответов. Спускаясь по ступенькам, я пытаюсь вспомнить о ней что-нибудь помимо ее руки: какой она была, каким было ее лицо, – но вижу только внушающие трепет леденцы, недоступные в своем стеклянном реликварии, и ее руку, наделенную неведомой чудодейственной силой, подобно пальцам святых или частицам мощей первых мучеников, таким, как глаза на блюде, отрезанные груди, сердце с буквами на нем, сияющими как гирлянда сквозь аккуратную дыру в груди – всем этим образам из альбома по искусству.
Я нахожу остальных в маленькой зябкой комнате с табличкой «БАР»; кроме них, там никого. На оранжевом пластиковом столике перед ними шесть бутылок пива и четыре стакана. С ними сидит рябой парень с такой же прической, как у тех двоих в магазине, только он блондин.
Дэвид, увидев меня, машет рукой: он чему-то радуется.
– Возьми пива, – говорит он. – Это Клод, его отец владеет этой пивнушкой.
Клод встает с угрюмым видом и бредет за пивом для меня. Под барной стойкой красуется грубо вырезанная деревянная рыба с красными и синими пятнами, вероятно, намекающими на пятнистую форель; покатая рыбья спина упирается в стойку из фальшивого мрамора. Над баром телевизор, выключенный или неисправный, и непременная картинка в позолоченной лепной рамке: увеличенная фотография ручья с деревьями, стремнинами и с одиноким рыбаком. Все это скорее имитация других мест, более южных, также имитирующих смутные воспоминания об охотничьем домике английского джентльмена девятнадцатого века, с трофейными головами и мебелью, отделанной оленьими рогами, – у королевы Виктории имелся такой. Но если это приносит прибыль, почему бы нет?
– Клод нам сказал, бизнес не катит в этом году, – сообщает Дэвид. – Это оттого, что прошел слух, будто рыба в озере повывелась. Мужики уходят на другие озера, батя Клода возит их на своем гидроплане – скажи, четко? Но он говорит, кое-кто выходил весной с неводом и наловил там множество всякой рыбины, нехилых размеров, просто рыба теперь шибко умная.
Дэвид переходит на провинциальный говор; он просто прикалывается, пародируя себя самого – он рассказывал нам, что говорил так в пятидесятые, когда хотел стать священником и продавал Библии, расхаживая по домам, чтобы продержаться в духовной семинарии: «Эй, леди, хочешь купить скабрезную книжку?» Хотя, похоже, сейчас он это делает неосознанно, или, может, для Клода, желая показать ему, что он тоже выходец из народа. А может, он упражняется в искусстве общения, которое преподает на вечерних курсах там же, где работает Джо; это образовательные курсы для взрослых. Дэвид их называет оборзевательными курсами; он получил эту работу благодаря тому, что одно время был диктором на радио.
– Есть новости? – спрашивает Джо бесцветным голосом, давая понять, что предпочел бы, чтобы я воздержалась от любых эмоций, что бы там ни случилось.
– Нет, – говорю я, – ничего нового.
Голос ровный, спокойный. Пожалуй, это и понравилось ему во мне, видимо, было что-то такое, хотя я не могу восстановить в памяти сцену нашего знакомства – нет, могу: это произошло в магазине, я покупала новые кисточки и спрей для фиксации. Он спросил, живу ли я здесь, и мы пошли на угол за кофе, только я взяла «Севен ап». Что впечатлило его в тот раз – он даже сказал мне потом об этом (добавив, что я крутая), – так это то, как я снимала и потом надевала одежду – очень плавно, словно не испытывала никаких эмоций. Но я действительно ничего не испытывала.
Клод возвращается с пивом, я говорю «спасибо» и поднимаю на него глаза, и тогда его лицо разглаживается и меняется – когда я видела его в прошлый раз, ему было лет восемь; он продавал червей в ржавых консервных банках рыбакам у государственной пристани. Теперь ему не по себе – он понял, что я узнала его.
– Я бы хотела спуститься к озеру на пару дней, – говорю я, обращаясь к Дэвиду, потому что машина его. – Посмотреть там, если можно.
– Отлично, – кивает Дэвид. – Я собираюсь выловить одну из этих умных рыбин.
Он взял с собой удочку, одолженную у кого-то, хотя я его предупреждала, что случай попробовать ее в деле может и не представиться: если бы мой отец все-таки объявился, мы бы уехали обратно, не дав ему знать, что были здесь. Если он в порядке, я не хочу его видеть. В этом нет смысла, ведь меня так и не простили, родители не поняли моего развода; я даже не думаю, что они поняли, почему я вышла замуж, и это было неудивительно, поскольку я сама себя не понимала. Но их определенно огорчило то, насколько внезапно я это сделала, а затем убежала, оставив мужа и ребенка, будто сошедших с цветных снимков глянцевых журналов. Оставить своего ребенка – подобный грех не искупить, и бесполезно пытаться объяснить, почему он не был на самом деле моим. Но я признаю, что поступила глупо, а глупость – то же самое, что зло, если судить по результатам, и у меня не было никаких оправданий, у меня с этим всегда было туго. Другое дело мой брат – он готовил их заранее, до того как что-то натворит; это разумно.
– О боже, – говорит Анна. – Дэвид думает, он великий белый охотник.
Она его дразнит, и довольно часто; но он не слышит, он встает, и Клод отводит его в сторону, чтобы выписать разрешение на рыбалку – похоже, Клод заведует разрешениями. Когда Дэвид возвращается, мне хочется спросить, сколько он заплатил, но он такой довольный, что я не хочу портить ему настроение. Клод тоже доволен.
Мы узнаем от Клода, что можем нанять Эванса, владельца кабинок «Голубая луна», чтобы он отвез нас на озеро. Поль отвез бы нас бесплатно, он мне предлагал, но мне было бы не по себе; кроме того, я уверена, ему бы не понравилась бесформенная борода Джо, а также усы и волосы Дэвида в духе «трех мушкетеров». Это просто стиль, вроде армейской стрижки, но Поль мог увидеть в этом что-то опасное, призыв к мятежу.
Дэвид съезжает с дороги и движется по двум колеям с каменным бордюром по центру, скребущим по дну машины. Мы тормозим перед кабинкой с табличкой «АДМИНИСТРАЦИЯ»; Эванс на месте, это здоровый немногословный американец в клетчатой рубашке, фуражке и плотной вязаной куртке с орлом на спине. Он знает, где рыбачил мой отец, все пожилые проводники знают каждую хижину на озере. Он передвигает недокуренную сигарету в угол рта и говорит, что отвезет нас туда за пять долларов – это десять миль; еще за пять он заберет нас обратно через два дня, утром. Тогда у нас еще будет время, чтобы доехать до города. Он, конечно, слышал об исчезновении, но молчит об этом.
– Матерый мужик, да? – говорит Дэвид, когда мы выходим.
Он радуется жизни, думая, что вот она, реальность: теневая экономика и местные старожилы с проседью в волосах, словно живые иллюстрации к эссе о Великой депрессии. Он прожил четыре года в Нью-Йорке и увлекся политикой, он учился на кого-то; это было в шестидесятые, точнее сказать не могу. Прошлое моих друзей для меня окутано туманом, как и для них самих – у каждого из нас могли быть провалы в памяти по несколько лет, и никто на это не обращал внимания.
Дэвид подогнал машину к пристани, и мы выгрузили вещи – рюкзаки с одеждой, камеру с оснащением, чемодан «Самсонит», в котором была вся моя карьера, полдюжины бутылок «Ред кэпс» из мотеля и бумажный пакет с едой. Мы забираемся в лодку, потертый деревянный баркас; Эванс заводит мотор, и мы медленно отчаливаем. То и дело на глаза попадаются летние домики, словно грибы; должно быть, вдоль мощеной дороги.
Дэвид сидит впереди, рядом с Эвансом.
– Рыбные тут места? – спрашивает он, по-простому, по-свойски, втираясь в доверие.
– Где как, где как, – говорит Эванс, никуда не показывая.
Затем он переключает мотор на высокую передачу, и я их больше не слышу.
Я жду, пока мы окажемся на середине озера. В нужный момент оглядываюсь, как всегда делаю, и вижу деревню, внезапно такую далекую и ясную: дома уменьшаются и жмутся друг к дружке, белая церковь выделяется на фоне темных деревьев. Ко мне приходит чувство, которого я тщетно ожидала раньше, – тоска по дому, по месту, где никогда не жила, – я теперь достаточно далеко; и вот деревня словно сжимается, превращаясь в мыс, мы огибаем его, и он исчезает вдали.
Мы втроем на заднем сиденье, Анна рядом со мной.
– Это хорошо, – говорит она мне пронзительным голосом, стараясь перекричать рев двигателя, – хорошо, что мы выбрались из города.
Но когда я поворачиваюсь к ней, чтобы ответить, то вижу слезы у нее на щеке и не могу понять, в чем дело, ведь она такая хохотушка. Потом до меня доходит, что это не слезы, а первые капли дождя. Наши плащи в рюкзаках; я не заметила, как наползли тучи. Хотя вымокнуть нам не грозит – на лодке мы будем на месте через полчаса; раньше, на более тяжелых лодках с моторами послабее, дорога занимала два-три часа, в зависимости от ветра. В городе люди спрашивали у мамы: «Вы не боитесь? Вдруг что-то случится?» Они прикидывали, сколько времени потребуется, чтобы попасть к врачу в случае чего.
Я мерзну и передергиваю плечами; мне на кожу падают капли. Береговая линия расходится и снова сходится; в сорока милях отсюда другая деревня, а между ними ничего, кроме запутанного лабиринта: низкие холмы, извилисто выступающие из воды, ветвящиеся бухты, полуострова, переходящие в острова, перешейки, ведущие к другим озерам. На карте или аэрофотоснимке водный массив раскидывается во все стороны словно паук, но из лодки видна лишь малая его часть, внутри которой ты находишься.
Озеро коварно, погода то и дело меняется, ветер быстро крепчает; люди тонут каждый год: перегруженные лодки или пьяные рыбаки, влетающие на полном ходу в топляки, полусгнившие старые коряги, напитавшиеся водой и почти не выступающие над поверхностью. Их немало остается после лесосплава, особенно с тех пор, как подняли уровень воды. Из-за изгибов береговой линии легко сбиться с пути, если ты не запомнил ориентиры, и я высматриваю их: бочкообразный холм, мыс с мертвой сосной, пеньки от спиленных деревьев, торчащие на мелководье. Я не доверяю Эвансу.
Но пока он плывет правильно, мы приближаемся к моей территории: два коротких поворота, пролив между гранитными берегами, а дальше в бухту пошире. Полуостров остался на прежнем месте, выдаваясь от основного берега, а дома совсем не видно из-за деревьев, хотя я знаю, что он там; мой отец всегда был мастером камуфляжа.
Эванс обходит вокруг мыса и замедляется перед мостками. Мостки покосились – каждую зиму лед что-то от них забирает, а вода наносит ил и точит дерево; мостки много раз чинили, как только могли, но это те же мостки, с которых упал мой брат и чуть не утонул.
Его держали в загоне из проволочной сетки, который соорудил отец, – по сути, это была большая клетка, или небольшой вольер: с деревцами, качелями, валунами, песочницей. Ограда была достаточно высокой, и брат не мог перелезть через нее, но там имелась калитка, и однажды он научился открывать ее. Мама была одна в доме; она выглянула из окна, проверяя, как он там, и не увидела его. День был тихий, ветер не шумел, и она услышала плеск воды. Она побежала к мосткам, но там никого не было, тогда она дошла до края и посмотрела вниз. Мой брат был под водой, лицом вверх, с открытыми глазами и без сознания; он плавно уходил под воду, выпуская пузыри изо рта.
Это случилось до моего рождения, но я помню все так отчетливо, словно видела сама, и, возможно, так оно и было: я верю, что младенец находится в животе матери с открытыми глазами и может видеть сквозь кожу, как лягушка сквозь стекло банки.
Глава четвертая
Мы разгружаем багаж, пока Эванс держит мотор на холостом ходу. Получив деньги от Дэвида, он равнодушно кивает нам и отчаливает, затем разворачивает лодку и огибает мыс, оглашая окрестности гудением, переходящим в жужжание и стихающим вдали по мере того, как нас разделяет все больше холмов. Озеро накатывает на берег, волны уходят в песок, оставляя тонкую переливчатую пленку бензина, лилово-розово-зеленую. Здесь все тихо, ветер улегся, и озеро спокойное, серебристо-белое, впервые за весь день (и за долгое время, за много лет) мы не слышим шума моторов. Мои уши и тело покалывает после вибрации, как ступни после катания на роликах.
Остальные бесцельно стоят; они как будто ждут, что я им скажу, как действовать дальше.
– Мы отнесем вещи наверх, – говорю я.
И предупреждаю всех насчет мостков: они скользкие от дождя, пусть даже еле моросящего; кроме того, какие-то доски могли размокнуть и стать ненадежными.
Мне хочется закричать: «Привет!» Или: «Мы здесь!» Но я этого не делаю, не хочу услышать тишину в ответ.
Беру рюкзак, прохожу по мосткам, спускаюсь на землю и иду по тропинке в сторону хижины, а потом поднимаюсь по ступенькам на склоне холма, сделанным из кедровых досок, закрепленных с каждой стороны колышками. Дом построен на песчаном холме, представляющем собой часть горного кряжа, оставшегося после схода ледников; все держится на нескольких дюймах почвы и тонком растительном покрове. Со стороны озера выступает и постепенно осыпается сырой песок: камни и уголь из печи, которой пользовались родители, когда начали жить здесь в палатках, уже давно исчезли, и деревья, растущие на краю, постепенно валятся – несколько из тех, что я помнила прямыми, уже наклонились. У красных сосен отслаивается кора, иголки на верхних ветках торчат пучками. На одной из них сидит зимородок, издавая отрывистый тревожный крик; птицы гнездятся на скалах, зарываясь в песок, что ускоряет эрозию.
Перед домом все еще стоит забор из проволочной сетки, хотя один конец почти свешивается с краю. Родители так и не стали разбирать его; даже маленькие качели на месте, веревки износились от влаги и покрылись пятнами. Это было непохоже на родителей – оставлять что-то, не имеющее практической пользы; возможно, они ожидали, что к ним будут приезжать внуки. Отец хотел бы иметь семейный клан, как у Поля, с домами вокруг и отпрысками, продолжающими его род. Этот забор как упрек мне, он напоминает о моем провале.
Но я не могла привезти сюда ребенка, я никогда не считала его своим; я даже не давала ему имени, пока он не родился, хотя так делают почти все беременные. Это был ребенок моего мужа, он навязал его мне; все время, пока ребенок рос во мне, я чувствовала себя суррогатной матерью. Муж тщательно следил за моим питанием, сам кормил меня, он хотел получить в итоге некое подобие себя; когда я родила, то перестала быть нужной ему. Но доказать этого я не могла – он был хитер: все время говорил, что любит меня.
Дом стал меньше, потому что (я догадалась) деревья вокруг выросли. И еще он посерел за прошедшие девять лет, словно поседел. Кедровые бревна стоят вертикально, а не лежат, стоячие бревна короче, с ними легче управиться одному человеку. Кедр не лучшее дерево, оно быстро ветшает. Как-то раз отец сказал: «Я строил это не на века». И я тогда подумала: «Но почему? Почему не на века»?
Я надеюсь, что дверь будет открыта, но она закрыта на висячий замок, как и сказал Поль. Порывшись в сумке, достаю ключи, которые он дал мне, и осторожно подхожу к двери: что бы я ни нашла внутри, это даст какую-то подсказку. Вдруг отец вернулся после того, как Поль запер дом, и не смог войти? Но есть и другие способы забраться в дом, он мог бы разбить окно.
Джо и Дэвид уже рядом, с рюкзаками и пивом. Последней идет Анна с моим чемоданом и бумажной сумкой; она снова напевает, теперь это «Холм пересмешника».
Я открываю деревянную дверь, потом сетчатую за ней и внимательно осматриваю комнату, прежде чем войти. Я вижу стол, покрытый голубой клеенкой, скамейку, еще одну скамейку, точнее, деревянный ящик, приделанный к стене, диван-кровать на металлическом каркасе с тонким матрасом. На этой кровати проводила дни мама: целыми днями она неподвижно лежала, укрывшись коричневым пледом, в осунувшемся лице ни кровинки. Мы говорили шепотом, она сильно изменилась и не слышала, когда мы обращались к ней; но на следующий день она вставала как ни в чем не бывало. Мы привыкли верить, что у нее хватит сил справиться с любой напастью; мы перестали воспринимать ее болезни всерьез, они были просто естественными фазами жизни, вроде окукливания. Когда она умерла, я в ней разочаровалась.
Все на месте. Капли воды с деревьев падают на пол.
Ребята заходят за мной в дом.
– Это здесь ты жила? – спрашивает Джо.
Обычно он не задает личных вопросов; не могу понять его настрой в отношении дома. Он подходит к снегоступам на стене, снимает один и вертит в руках.
Анна кладет провизию на столешницу и обхватывает плечи руками.
– Наверное, это была полная шиза, – говорит она. – Жить вот так, от всего отрезанной.
– Нет, – возражаю я.
Для меня это было нормальным.
– Кто к чему привык, – говорит Дэвид. – По-моему, тут четко.
Но он не уверен.
В доме еще две комнаты, и я быстро открываю двери. В каждой кровать, полки, одежда на гвоздях: куртки, плащи – они всегда висели там. Серая шляпа, у отца было таких несколько. В комнате справа к стене приколота карта местности. В другой комнате на стене какие-то рисунки, акварели – я вдруг вспоминаю, что сама нарисовала их, когда мне было лет двенадцать или тринадцать; я не помнила о них все это время, и это единственное, что меня тревожит.
Иду назад в гостиную. Дэвид положил рюкзак на пол и развалился на диване.
– Боже, как я устал, – говорит он. – Кто-нибудь, подайте пива.
Анна приносит ему банку, и он хлопает ее по заднице со словами:
– Вот что мне нравится – сервис.
Она достает банки себе и нам с Джо, мы садимся на скамейки и пьем. Теперь, когда мы перестали двигаться, чувствуется, как здесь прохладно.
Привычный запах: кедр и дровяная печь, и деготь из пакли, забитой между бревнами, от мышей. Я поднимаю взгляд на потолок, на полки: за лампой стопка бумаг; возможно, отец работал над чем-то до того, как случилось то, что случилось, и он ушел. Там могло быть что-то для меня: записка, письмо, завещание. Я ждала чего-то подобного после смерти матери – какого-то послания, не денег, а чего-то символического. Какое-то время я проверяла почтовый ящик по два раза в день – я дала родителям только мой почтовый адрес; но ничего не пришло – возможно, она просто не успела.
Ни грязной посуды, ни разбросанной одежды, ничего такого. Совсем непохоже на дом, в котором прожили всю зиму.
– Который час? – спрашиваю я Дэвида.
Он смотрит на часы: почти пять. За ужин отвечаю я, поскольку это в каком-то смысле мой дом, а они мои гости.
В ящике за печкой сложена растопка, есть несколько поленьев белой березы; до этих мест болезнь еще не добралась. Нахожу спички и сажусь перед печкой – я едва помню, как разжигать ее, и трачу три или четыре спички, прежде чем занимается пламя.
Снимаю с крючка эмалированную миску и беру большой нож. Ребята смотрят на меня, но никто не спрашивает, куда я направляюсь, хотя Джо, похоже, обеспокоен. Наверное, он ожидал от меня истерики, и мое спокойствие напрягает его.
– Я в огород, – говорю я, чтобы подбодрить их.
Где огород, они знают – видели на подходе, с озера.
На тропинке и перед калиткой разрослась трава; сорняки не пололи месяц. В другое время я провела бы несколько часов, выдергивая их, но сейчас в этом нет смысла – мы пробудем здесь только два дня.
Из-под ног у меня выпрыгивают лягушки, им здесь хорошо – близко к озеру, сыро; мои парусиновые туфли насквозь промокли. Я срезаю несколько листьев салата, он не цвел и горчит, затем выдергиваю лук и снимаю верхнюю коричневую шелуху, открывая белую, похожую на глаз луковицу.
Огород изменился – раньше по забору с одной стороны тянулась красная фасоль. Ее цветы были самыми красными в огороде, к ним подлетали колибри, зависая в воздухе, крылья так и трепетали. Если побег не трогать слишком долго, он желтел после первых заморозков и лопался. Внутри были зернышки, лилово-черные, внушавшие мне страх. Я знала, что если бы нарвала их и оставила у себя, то стала бы всесильной; но потом, когда достаточно подросла и смогла наконец дотянуться до них, это не сработало. Может, потому, что я не представляла, что мне делать с этой силой; если бы я стала такой же, как другие люди, наделенные властью, то принесла бы в мир зло.
Я перехожу на морковную грядку и выдергиваю морковь, но ее не прореживали как следует, и она хвостатая и коренастая. Я срезаю перья лука, морковную ботву и бросаю в компостную кучу, затем складываю все в миску и иду назад к калитке, мысленно отматывая время. В середине июня отец точно был здесь, он не мог уйти раньше.
У забора меня ждет Анна.
– Где туалет? – спрашивает она. – Я сейчас лопну.
Вывожу ее к началу тропинки и показываю направление.
– Ты в порядке? – спрашивает она.
– Конечно, – отвечаю я; вопрос удивляет меня.
– Мне жаль, что его здесь нет, – говорит она скорбно, пристально глядя на меня своими круглыми зелеными глазами, словно это ее беда, ее несчастье.
– Все в порядке, – успокаиваю ее я, – просто иди по тропе и увидишь, хотя идти неблизко. – Я смеюсь. – Не потеряйся.
Иду с миской к мосткам и мою овощи в озере. Я вижу в воде пиявку, хорошую, с красными точками на спине, извивающуюся, словно лента на ветру. У плохих пиявок серые и желтые точки. Эти оценочные критерии придумал мой брат, когда в какой-то момент помешался на морали, должно быть из-за войны. Все должно было делиться на хорошее и плохое.
Я готовлю гамбургеры, и мы едим их, потом я мою посуду в битом тазу, а Анна вытирает; уже почти сумерки. Я достаю постельное белье из-под скамейки у стены и стелю нам с Джо, а Анна им с Дэвидом. Он, должно быть, спал все это время на диване в гостиной.
Им непривычно ложиться в постель, как только стемнеет, и я тоже отвыкла от этого. Боюсь, что они станут скучать без телевизора и всякого такого, и ищу, чем бы их развлечь. Домино, колода карт – вот все, что лежало под свернутыми одеялами. На полках в спальнях много книг в бумажных обложках – в основном детективы и легкое чтиво. Помимо этого учебники по ботанике и всякие справочники: «Съедобные растения и побеги», «Рыбачим на сухую мушку», «Шампиньоны обыкновенные», «Строительство бревенчатого дома», «Справочник птиц», «Возможности вашей камеры». Отец считал, что, имея хорошие пособия, можно все сделать самостоятельно. Была у него и подборка серьезных книг: «Библия короля Иакова», которую он ценил, по его словам, за литературные достоинства, полное собрание сочинений Роберта Бернса, «Жизнь» Босуэлла, «Времена года» Томпсона, избранные стихи Голдсмита и Купера. Он восхищался ими – рационалистами восемнадцатого века, как он говорил: для него они были людьми, избежавшими пороков промышленной революции и постигшими секрет золотой середины, гармоничной жизни, – отец был уверен, что все они вели натуральное хозяйство. Я была шокирована, когда узнала намного позже – вообще-то, мне сказал муж, – что Бернс был алкоголиком, Купер сумасшедшим, Доктор Джонсон страдал маниакально-депрессивным психозом, а Голдсмит вообще был нищебродом. И с Томпсоном тоже было что-то не так; муж использовал понятие «эскапист». После этого я прониклась к ним большей симпатией – они перестали быть непререкаемыми авторитетами для меня.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?