Текст книги "Кошачий глаз"
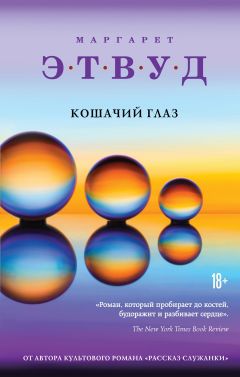
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
На следующей картине оказывается тот же рыцарь, только поменьше, а под ним написаны слова, которые мы поём под тяжелое буханье аккордов невидимого пианино:
Я слышу, как рядом со мной, в темноте, поет Грейс – ее голос карабкается всё выше и выше, тоненький и пронзительный, будто птичий. Она знает все слова. Она и заданный ей отрывок из Писания тоже знала наизусть. Когда мы склоняем головы, чтобы помолиться, я чувствую, как меня переполняет благость. Я чувствую, что меня сочли своей, приняли в круг. Бог любит меня, кто бы он ни был.
После воскресной школы мы идем обратно в церковь, на заключительную часть службы, и я кладу свой пятицентовик в тарелку для сборов. Происходит нечто, называемое славословием. Потом мы выходим из церкви, втискиваемся в машину Смииттов, и Грейс осторожно спрашивает:
– Папа, а можно мы поедем посмотрим на поезда?
Младшие девочки с показным энтузиазмом подхватывают:
– Да, да!
– А вы хорошо себя вели? – спрашивает мистер Смиитт, и девочки снова кричат: «Да, да!»
Миссис Смиитт издает неопределенный звук.
– Ну ладно, – говорит мистер Смиитт девочкам. Он ведет машину на юг по пустым улицам, вдоль трамвайных рельсов, мимо одинокого трамвая, похожего на скользящий по воде остров, и наконец мы видим вдали плоское серое озеро, а под собой – мы стоим на краю чего-то вроде невысокого обрыва – плоскую серую равнину, покрытую железнодорожными путями. По этой железной равнине движутся в разные стороны несколько поездов. Поскольку сегодня воскресенье и поскольку наблюдение за поездами – явно привычное воскресное занятие для Смииттов, мне начинает казаться, что железнодорожные пути и сонные, тяжело грохочущие составы имеют какое-то отношение к Богу. Еще мне ясно, что на самом деле посмотреть на поезда хочет вовсе не Грейс и не ее младшие сестры, а сам мистер Смиитт.
Мы сидим в припаркованной машине, глядя на поезда, пока миссис Смиитт не говорит, что обед погибнет. Тогда мы едем обратно в дом Грейс.
Меня приглашают на воскресный обед. Я впервые остаюсь на трапезу у Грейс. Перед едой она ведет меня наверх, помыть руки, и я узнаю еще кое-что про ее семью: здесь разрешают использовать только четыре квадратика туалетной бумаги. Мыло в ванной черное и шершавое. Грейс говорит, что оно дегтярное.
На обед – запеченный окорок, фасоль в томате, запеченный картофель и пюре из тыквы. Мистер Смиитт режет ветчину, миссис Смиитт накладывает гарнир, и тарелки передают по кругу. Я начинаю есть, и младшие сестры Грейс смотрят на меня сквозь очки.
– В нашем доме принято воздавать хвалу перед едой, – говорит тетя Милдред, улыбаясь с напором. Я не понимаю, о чем она. У нас дома принято говорить «Спасибо», когда встаешь из-за стола. Но все Смиитты склоняют головы, складывают ладони вместе, и Грейс произносит:
– За все блага, что мы сейчас получим, да преисполнит нас Господь истинной благодарности, аминь.
А мистер Смиитт говорит:
– Ням-ням хорош, питьё хорош, Боженька хорош, давай ням-ням.
И подмигивает мне.
– Ллойд! – восклицает миссис Смиитт, и мистер Смиитт заговорщически хихикает.
После обеда мы с Грейс сидим в гостиной на бархатном диване – на том же самом, где отдыхает после обеда миссис Смиитт. Я сижу на нем впервые, и мне кажется, что меня допустили к чему-то открытому не для всех, вроде трона или гроба. Мы читаем газету, принесенную из воскресной школы. В ней есть история Иосифа и другая, про мальчика, который украл деньги из тарелки для сборов, но потом раскаялся и стал собирать макулатуру и бутылки в фонд церкви, чтобы возместить украденное. Иллюстрации в газете – черно-белые рисунки пером, но на первой странице – цветная картинка с Иисусом в пастельных одеждах, окруженным детьми. Они из разных народов – коричневые, желтые, белые, все чистенькие и хорошенькие, некоторые держат его за руки, а другие глядят на него большими обожающими глазами. У этого Иисуса нет нимба.
Мистер Смиитт дремлет в бордовом кресле, выпятив круглый живот. В кухне звенят тарелки. Это миссис Смиитт и тетя Милдред моют посуду.
Я попадаю домой уже под вечер, в руках у меня красная пластиковая сумочка и газета из воскресной школы.
– Ну что, тебе понравилось? – спрашивает мать все так же обеспокоенно.
– Тебя чему-нибудь научили? – спрашивает отец.
– Мне задали выучить псалом, – важно говорю я. Слово «псалом» звучит как тайный пароль. Я слегка обижена. Оказывается, родители многое от меня скрывали – такое, что нужно знать. Например, шляпки: как могла мать забыть про шляпку? О Боге мне доводилось слышать и раньше – он упоминается в наших школьных утренних молитвах и в гимне «Боже, храни короля». Но оказалось, что этим дело не ограничивается: сколько текстов надо вызубрить, гимнов разучить, пятицентовиков положить в тарелку для сборов, чтобы Бог был по-настоящему тобой доволен! Однако мысль о рае меня беспокоит. Сколько мне будет лет, когда я попаду туда? А что, если я умру старухой? В раю я хочу быть такого возраста, как я сейчас.
У меня есть Библия – я взяла ее взаймы у Грейс, и это не самая лучшая ее Библия, но следующая по порядку. Я отправляюсь к себе в комнату и зубрю: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум».
У меня в спальне по-прежнему нет занавесок. Я выглядываю в окно, смотрю вверх: вот небеса, вот звезды – там же, где и всегда. Но они больше не кажутся мне холодными, белыми и далекими, как спирт и эмалированные лотки. Теперь мне кажется, что они зорко следят за мной.
19
Девочки стоят в школьном дворе или сверху на склоне, небольшими кучками, они шепчутся между собой, шепчутся и плетут на шпульках. Сейчас это модно – шпулька с четырьмя вбитыми в конец гвоздями и моток шерсти. Нитку наматывают петлей на каждый гвоздь по очереди, на два оборота, а потом пятым гвоздем нижние петли накидываются на верхние. С другого конца шпульки свисает толстый круглый шерстяной хвост, который потом надо закрутить, как раковину улитки, и сшить из него коврик – подставку для заварочного чайника. У меня есть такая шпулька, и у Грейс и Кэрол тоже, и даже у Корделии, хотя ее плетение безнадежно запутано.
Эти кучки шепчущихся девочек со шпульками и разноцветной шерстью имеют отношение к мальчикам. К обособленности от мальчиков. Каждая кучка девочек исключает всех остальных девочек, но также и абсолютно всех мальчиков. Мальчики нас тоже исключают, но активно, подчеркнуто. Нам же нет нужды это подчеркивать.
Порой я все еще захожу в комнату брата и лежу на полу, читая комиксы, но никогда – если у меня в гостях другие девочки. Меня одну еще потерпят, а как часть группы девочек – ни за что. Это ясно без слов.
Когда-то я воспринимала мальчишек как нечто само собой разумеющееся, я привыкла к ним. Но теперь начала к ним присматриваться, потому что они не такие, как мы. Например, они слишком редко моются. От них пахнет немытым телом, сальной головой, но еще – выделанной кожей, от кожаных заплаток на штанах, и шерстью от самих штанов, которые доходят только до колена и зашнуровываются, как футбольные бриджи. Ниже – толстые шерстяные гольфы; как правило, они мокрые и собираются гармошкой у щиколотки. На улице мальчишки носят кожаные шлемы с лямкой под подбородком. Одежда у них цвета хаки, или темно-синяя, или серая, или темно-зеленая, чтобы грязь была не так заметна. Во всем этом есть что-то военное. Мальчишки гордятся своей неяркой одеждой, съезжающими гольфами, грязной, запачканной чернилами кожей: для них грязь – почти так же хорошо, как раны. Они специально стараются вести себя как мальчишки. Они зовут друг друга по фамилиям и привлекают внимание к отступлениям от норм гигиены свыше обычного: «Эй, Робертсон! А ну вытри сопли!», «Кто это пёрнул?» Они отвешивают друг другу боксерские удары в плечо, вопя: «Попал!», «И я попал!» Когда ты в одной комнате с мальчишками, всегда кажется, что их больше, чем на самом деле.
Мой брат тоже, как все мальчишки, отвешивает боксерские удары в плечо и комментирует дурные запахи, но у него есть тайна. Он никогда не откроет ее другим мальчишкам, потому что его осмеют.
Тайна заключается в том, что у него есть девочка. Это настолько большой секрет, что даже она сама об этом не знает. Он рассказал только мне и взял с меня двойную клятву молчать. Даже когда мы с ним одни, я не имею права называть ее имя – только инициалы, Б.В. Мой брат иногда бормочет эти инициалы в присутствии других людей, например, наших родителей. При этом он сверлит меня взглядом, ожидая, чтобы я кивнула или подала какой-нибудь другой знак, что я его услышала и поняла. Он пишет шифрованные записки и оставляет там, где я их точно найду – у меня под подушкой или в ящике письменного стола. Расшифрованные, они оказываются удивительно непохожими на обычные послания брата, неоригинальными и, говоря откровенно, тупыми – мне даже не верится, что это писал он. «Говорил с Б.В.», «Сегодня видел её». Он пишет карандашами разных цветов и ставит восклицательные знаки. Однажды ночью выпадает аномально ранний снег, и поутру, выглянув в окно, я вижу исполненные томления инициалы, выведенные мочой на белой пелене, уже подтаявшей.
Я вижу, что эта девочка приносит ему страдания, но вместе с тем и наслаждение. Но я не могу понять, почему. Я ее знаю. Ее настоящее имя – Берта Ватсон. На переменах она гуляет с девочками постарше – в верхней части склона, среди чахлых ёлок. Она среднего роста, и у нее прямые каштановые волосы с чёлкой. Я не вижу в ней ничего волшебного, никаких отклонений от нормы. Мне интересно, как она этого добилась, что за фокус проделала с моим братом, чтобы превратить его в глупую, робеющую копию самого себя.
То, что мне открыли этот секрет, что меня одну для этого избрали, преисполняет меня ощущением собственной значимости. Но эта значимость – отрицательная: как у белого листа бумаги. Мне можно знать, потому что я не в счёт. Я чувствую себя избранной, но в то же время отвергнутой. И еще я чувствую, что должна заботиться о брате, потому что впервые несу за него ответственность. Его положение шатко, а у меня есть козырь. Мне приходит в голову, что я могу разболтать его тайну, сделать его мишенью для насмешек; выбор за мной. Брат в моей власти, и мне это не нравится. Я хочу, чтобы он стал как раньше – неизменным, непобедимым.
Девочки надолго не хватает. Вскоре брат перестает о ней вспоминать. Он опять высмеивает меня или не замечает; он снова главный. Он раздобывает набор юного химика и проводит опыты в подвале. Я думаю, лучше пусть он будет одержим химией, чем девчонкой. Кипящие зелья, ужасные запахи, небольшие взрывы с сернистым дымом, удивительные иллюзии. Можно создать невидимые письмена, которые проступят, если подержать бумагу над пламенем свечи. Можно сделать крутое яйцо резиновым, так что оно пролезет в молочную бутылку (правда, вытащить его оттуда уже труднее). «Преврати воду в кровь и удиви своих друзей!» – приглашает инструкция.
Брат все еще меняется комиксами, но без усилий, рассеянно. Поскольку результат ему безразличен, ему удается заключать более удачные сделки. Комиксы лежат стопками у него под кроватью, множатся, но теперь он читает их только тогда, когда в гости приходят другие мальчики.
Брат исчерпал возможности химического набора. Теперь у него в комнате висит карта звездного неба, а по ночам он выключает свет и сидит у темного открытого окна, в холоде, натянув бордовый свитер поверх пижамы, и созерцает небеса. Он смотрит в отцовский бинокль, который ему разрешают брать при условии, что он будет надевать ремешок на шею, чтобы не уронить. Теперь брат хочет обзавестись телескопом.
Когда он пускает меня к себе и когда ему хочется поговорить, он учит меня новым названиям и показывает на карте главные точки: Орион, Медведица, Дракон, Лебедь. Это созвездия. Каждое из них состоит из огромного количества звезд, которые в сотни раз больше и жарче нашего Солнца. Эти звезды, говорит он, отстоят от нас на много световых лет. На самом деле мы их не видим, мы видим только свет, который они испустили давным-давно, сотни и тысячи лет назад. Звезды – как эхо. Я сижу во фланелевой пижаме и дрожу, шея у меня болит оттого, что голова запрокинута – я вглядываюсь в холод, в бесконечно далекую темноту, в черный котел, где бесконечно кипят костры звёзд. Звезды брата отличаются от библейских: они бессловесны, они пылают во всеуничтожающем молчании. Мне кажется, что мое тело растворяется и меня затягивает вверх, вверх, как редеющий туман – в необъятный опустошающий космос.
– Арктур, – говорит брат. Иностранное слово, непонятное, но тон брата мне знаком: узнавание, ощущение завершенности, к набору добавлен еще один экспонат. Я вспоминаю банки со стеклянными шариками, которые были весной – как он ронял шарики в банку по одному, пересчитывая. Мой брат снова стал коллекционером; теперь он собирает звёзды.
20
На школьных окнах – черные кошки и бумажные тыквы. На Хэллоуин Грейс надевает обычное дамское платье, Кэрол наряжается феей, Корделия – клоуном. Я накидываю простыню, потому что больше у меня ничего нет. Мы ходим от дверей к дверям, неся коричневые бумажные магазинные пакеты, и они наполняются яблоками в карамели, шариками из попкорна, козинаками с арахисом. Подойдя к двери, мы скандируем: «Гони монету! Гони монету! Ведьмы гуляют по белу свету!» На фасадных окнах, на крыльце словно плавают большие оранжевые тыквенные головы, светящиеся, без тел. Назавтра мы уносим свои тыквы в овраг, на мост, швыряем их вниз и смотрим, как они разбиваются о землю. С сегодняшнего дня уже ноябрь.
Корделия роет яму у себя на заднем дворе, где нет почвы. Она уже несколько раз начинала рыть, но безуспешно – упиралась в камень. Сейчас она, кажется, выбрала место удачней. Корделия копает заостренной лопатой; иногда мы ей помогаем. Это не маленькая ямка, а большая квадратная яма; она становится все глубже и глубже, а кучи земли по краям растут. Корделия говорит, что мы сможем устроить в яме штаб. Поставить там стулья и сидеть на них. Она хочет, когда выкопает на достаточную глубину, закрыть яму досками и сделать крышу. Она уже набрала досок – строительного мусора от двух новых домов рядом с ее участком. Корделия так увлечена этой ямой, что ее трудно заставить поиграть во что-нибудь другое.
На темнеющих улицах расцветают маки. Это ко Дню Памяти[4]4
День Памяти празднуется в Канаде 11 ноября; он посвящен памяти всех канадцев, погибших на войне. В знак уважения к ветеранам войны в этот день люди покупают и носят на груди красные маки – символ пролитой крови.
[Закрыть]. Маки сделаны из пушистой ткани, они красные, как сердца на Валентинов день, с черной сердцевинкой, через которую продета булавка. Мы носим их на пальто. Мы разучиваем стихотворение про них:
В одиннадцать часов мы встаём рядом с партами на три минуты молчания. В лучах слабого ноябрьского солнца танцуют пылинки. Угрюмая мисс Ламли у доски, головы склонены, глаза закрыты, мы прислушиваемся к тишине, к шорохам собственных тел и к грому далеких пушек. «Мы – павшие». Я стою зажмурясь, пытаясь чувствовать то, что положено: патриотизм и скорбь по мертвым солдатам, которые погибли за нас. Я даже не могу представить себе их лиц. Я не знаю никого, кто умер.
Корделия, Грейс и Кэрол ведут меня к глубокой яме на заднем дворе Корделии. На мне черное платье и плащ из костюмерного шкафа. Предположительно, я Мария, королева шотландская, уже обезглавленная. Они поднимают меня под мышки и за ноги и опускают в яму. Потом прилаживают сверху доски. Дневной свет и воздух исчезают, и по доскам стучат комья земли. Лопата за лопатой. В дыре темно, холодно и сыро, и пахнет, как в жабьей норе.
Я слышу их голоса – наверху, снаружи, – а потом уже не слышу. Я лежу, размышляя, когда же мне пора будет выходить. Ничего не происходит. Когда меня положили в яму, я знала, что это игра. Теперь я понимаю, что это не игра. Я ощущаю печаль, словно меня предали. Потом давящую темноту; потом ужас.
Возвращаясь мысленно ко времени, проведенному в яме, я не могу вспомнить, что происходило, пока я в ней лежала. Не могу вспомнить, что на самом деле чувствовала. Может быть, не происходило ничего. Может быть, те чувства, что я помню, – не те, что были у меня на самом деле. Я знаю, что позже девочки пришли и выпустили меня из ямы, и мы продолжили игру, эту или какую-то другую. У меня не осталось мысленного образа себя в яме; только черный квадрат, наполненный пустотой. Похожий на дверь. Может быть, этот квадрат пуст; возможно, это лишь памятный знак, метка, разделяющая время до и время после. Точка, в которой я стала бессильной. Плакала ли я, когда меня доставали из ямы? Мне это кажется возможным. С другой стороны, я в этом сомневаюсь. Но вспомнить не могу.
Вскоре после этого мне исполнилось девять лет. Я помню другие свои дни рождения, раньше и позже, но этот – нет. Мне наверняка устроили праздник, первый настоящий день рождения с гостями, ведь раньше мне было некого пригласить. Наверняка был торт, со свечками, с загадыванием желаний, четвертак и десятицентовик, завернутые в бумагу и спрятанные в торте, чтобы попасться кому-нибудь на зуб, и подарки. Корделия наверняка пришла, и Грейс, и Кэрол. Всё это должно было случиться, но единственное, что осталось у меня в голове, – смутный страх перед днями рождения, не чужими, а моими собственными. Я вспоминаю пастельную глазурь на торте, розовые свечки, горящие в бледном свете ноябрьского дня, стыд и ощущение провала.
Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки. Мне нужно заполнить черный квадрат времени, вернуться и увидеть, что в нем. Я словно исчезла в какой-то момент и появилась позже, уже другой, не зная причин перемены. Я буду рада увидеть даже доски над головой. Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки.
Сначала ничего нет: только отступающая пустота, как туннель. Но вскоре что-то начинает проявляться: гуща темно-зеленых листьев и фиолетовых цветов, темно-лиловых, насыщенный и печальный цвет, и грозди красных ягод, прозрачных, как вода. Стебли так переплелись, так перепутались с другими растениями, что стали как живая изгородь. Запах земли и другой, острый запах поднимаются среди листьев, запах старых вещей, тяжелый и плотный, забытый. Ветра нет, но листья шевелятся, по ним пробегают волны, словно там крадутся невидимые кошки, или словно листья движутся сами по себе.
Паслён, думаю я. Это тёмное слово. В ноябре паслён не растёт. Паслён – обычный сорняк. Если он вырастет в саду, его выдергивают и бросают. Паслён – родственник картофеля, поэтому цветы у них похожи. Картошка тоже может стать ядовитой, если ее оставить на солнце, и она позеленеет. Я стараюсь знать такие вещи.
Я сознаю, что это воспоминание – не то, что я ищу. Но цветы, запах, движение листьев упорствуют – насыщенные, завораживающие, вызывающие отчаяние, повергающие в скорбь.
V. Отжим
21
Я выхожу из галереи, сворачиваю на восток. Мне нужно зайти в магазин, купить нормальной еды, организоваться. Оставшись в одиночестве, я возвращаюсь в те времена, когда забывала поесть и работала ночь напролет. Работала, пока меня не охватывало странное чувство, в котором я не сразу распознавала голод. Тогда я тайфуном налетала на холодильник. Остатки сладки.
Сегодня утром были яйца, но их больше нет. Нет хлеба. Нет молока. А почему сначала они были? Должно быть, это запас Джона. Наверно, он иногда ест у себя в мастерской. А может, он все это принес для меня? Мне как-то не верится. Я куплю себе апельсинов. И йогурт. Натуральный. Буду позитивно смотреть на жизнь, заботиться о себе, кормить себя ферментами и полезными бактериями. Эти греющие мысли доводят меня до самого центра города.
Здесь когда-то стоял универмаг Итона, вот на этом углу, квадратный, желтый. Теперь вместо него новое здание, так называемый торговый комплекс. Можно подумать, торговля – это психическое отклонение. Стены комплекса – стеклянные, фасеточные, зеленые, словно айсберг.
Напротив – знакомая страна: универмаг Симпсона. Я знаю, что в нем должен быть продуктовый отдел. В зеркальных витринах – стопки банных полотенец, пухлые мягкие диваны и кресла, постельное белье с модным рисунком. Я думаю о том, где, в конце концов, окажутся все эти тряпки. Люди покупают их, увозят, набивают ими свои дома: гнездовой инстинкт. Для тех, кто видел птичье гнездо вблизи, это рисует не очень-то привлекательную картину. В любой дом влезет лишь ограниченное количество тряпок, но, конечно, их можно время от времени выбрасывать. Когда-то мы старались покупать добротные, ноские вещи. Со временем они становились как будто частью тебя. Мы проверяли, хорошо ли подрублен подол, крепко ли пришиты пуговицы, щупали ткань, потирая её большим и указательным пальцами. В следующей витрине – мрачные манекены. Таз выдвинут вперед, плечи перекошены. В целом похоже на маньяка, замахнувшегося топором. Видимо, такой облик нынче в моде: озлобленность и агрессия. На тротуарах множество андрогинов во плоти: девочки в черных кожаных куртках и грубых ботинках, стриженные под ежик или с прической «утиный хвост», мальчики – капризные, с надутыми губами, как у моделей на обложках модных журналов, волосы уложены гелем в «иголочки». Издали я не могу отличить мальчиков от девочек, хотя сами они, наверно, могут. При виде их я чувствую себя отставшей от жизни.
К чему они стремятся? Может, мальчики хотят выглядеть как девочки, а девочки – как мальчики? Или мне только так кажется из-за того, что все они пугающе молоды? Они держатся хладнокровно, но их стремления очевидны – торчат наружу, как присоски на щупальцах у осьминога. Они хотят взять от жизни всё и сразу.
Но, наверно, и мы с Корделией вызывали те же чувства у людей постарше, когда переходили вот этот самый перекресток – воротники подняты, брови выщипаны скептическим изгибом, мы залихватски вышагивали в резиновых сапогах, изо всех сил пытаясь создать впечатление, что нам на всех плевать. Шли мы на Центральный вокзал – засунуть четвертаки в фотоавтомат, четыре черно-белые фотографии размером как на документы. Корделия с сигаретой в углу рта, глаза полузакрыты – играет знойную женщину. Суперчёткая.
Я вкручиваюсь через крутящуюся дверь в универмаг Симпсона и немедленно теряюсь. Тут всё поменяли. Были чинные, оправленные в дерево стеклянные прилавки со стандартными перчатками, пристойными часами, шарфиками в цветочек. Респектабельность и хороший вкус. А теперь тут помесь косметического салона с ярмаркой: серебряный декор, золотые колонны, цепочки бегущих огней, надписи фирменными шрифтами – буквы размером с человеческую голову. Воздух насыщен парфюмерными ароматами, враждующими между собой. На экранах высвечиваются безупречные лица, вертятся, прихорашиваются, вздыхают через приоткрытые губы, принимают чьи-то ласки. На других экранах – поры крупным планом «до и после», подробности ухода за всем, что только можно представить – руками, шеей, бедрами. Локтями – особенно локтями: старение начинается с кожи на локтях и метастазирует дальше. Это религия. Обряды вуду и заклинания. Мне хочется уверовать во всё это – кремы, омолаживающие лосьоны, прозрачные мази во флаконах с крутящимися шариками наверху, как клей. «Ты что, не знаешь, из чего делают весь этот мусор? – сказал как-то Бен. – Из молотых петушиных гребней». Но меня это не останавливает, я всё что угодно готова испробовать, лишь бы сработало – сок из слизней, слюну жаб, жало гада, клюв совенка, все на свете, лишь бы мумифицироваться, остановить безжалостную капель времени, остаться хотя бы приблизительно собой.
Но у меня уже столько этих снадобий, что хватило бы забальзамировать всех моих одноклассниц – наверняка они теперь в этом нуждаются не меньше моего. Я останавливаюсь лишь на миг, чтобы девушка, раздающая пробники духов, прыснула на меня каким-то новым ядовитым ароматом. Похоже, мода на роковых женщин вернулась. Вероника Лейк торжествующе прокралась обратно. Снадобье пахнет сладкой виноградной газировкой. Не представляю, кого такой запах может соблазнить – разве что плодовую мушку.
– Вам самой-то нравится? – спрашиваю я у девушки. Должно быть, им одиноко стоять тут весь день на высоких каблуках, опрыскивая прохожих.
– Эти духи очень популярны, – уклончиво отвечает она. Я на миг вижу себя ее глазами: увядшая женщина, почти бабушка, но еще на что-то надеется. Я – ее целевая аудитория. Я спрашиваю, где продуктовый отдел, и она отвечает. В подвале. Я встаю на эскалатор, но еду внезапно вверх. Плохо дело, раз я начала так путать направления. Или у меня провал в памяти, и я уже побывала внизу? Я схожу с эскалатора и блуждаю меж рядами детских нарядных платьев. Кружевные воротники, рукава-фонарики, пояса-кушаки. Я помню такие платья. Многие – в клеточку: подлинные цвета шотландского тартана, словно обагренные кровью, темно-зеленые с красной полоской, темно-синие, черные. «Черная стража». Неужели те, кто придумал эти платья, забыли историю? Неужели ничего не знают о шотландцах? Ничего лучше не придумали, как одевать девочек в цвета отчаяния, резни, предательства и убийства? «Уже усеян – с новой строки – земной мой путь листвой сухой и желтой»[6]6
У. Шекспир, «Макбет», акт V, сцена 3, пер. Ю. Б. Корнеева.
[Закрыть]. Когда-то школьников заставляли многое учить наизусть. Впрочем, шотландская клетка была модной и в мое время. Белые носки, туфельки с ремешками, вечно не тот подарок на день рождения, завернутый в хрустящую бумагу, и девочки с оценивающими глазами, скользкими обманчивыми улыбками, одетые в шотландку, как леди Макбет.
В те бесконечно тянувшиеся времена, когда Корделия так полно властвовала надо мной, у меня была привычка отколупывать кожу со ступней. Я занималась этим по ночам, когда мне полагалось спать. Ступни были прохладные и слегка влажные, как кожица гриба. Я начинала с больших пальцев. Подтягивала ступню к лицу и прокусывала начальную дырочку там, где кожа толще всего – у основания большого пальца, с внешней стороны. Потом ногтями рук – ногти я никогда не обгрызала, какой смысл обгрызать то, чему не больно, – я начинала сдирать кожу узкими полосками. То же повторяла с большим пальцем другой ноги, потом с каждой пяткой по очереди. Я сдирала кожу ровно на такую глубину, чтобы пошла кровь. Никто кроме меня никогда не видел моих ступней, поэтому никто не знал, чем я занимаюсь. По утрам я натягивала носки на ободранные ноги. Ходить было больно, но можно. Когда была боль, было что-то определенное, насущное, о чем я могла думать. За что я могла держаться. Еще я жевала пряди своих волос, так что в любой момент хотя бы одна прядь была мокрой и заостренной. Я обрывала зубами заусенцы на ногтях, оставляя пятна обнаженной, мокнущей плоти – они твердели, превращались в струпья и отшелушивались. В ванне или в тазу для мытья посуды мои руки выглядели как обгрызенные, словно над ними поработали мыши. Все это я проделывала постоянно, даже не замечая. А вот ступни – это было сознательно.
Помню, когда родились девочки – сначала одна, потом другая – я начала думать, что мне следовало бы иметь сыновей, а не дочерей. Я думала, что дочери мне не по плечу, что я не знаю, как они устроены. Наверно, я боялась, что возненавижу их. С сыновьями я бы знала, что делать: мы бы ловили лягушек, удили рыбу, играли в войну, возились в грязи. Я научила бы их защищаться и объяснила бы, от кого именно. Но мир сыновей изменился: теперь гораздо вероятней увидеть мальчика с таким вот растерянным лицом. Будто ночной зверек случайно попал под солнечный свет и ослеп. «Умей постоять за себя как мужчина», – говорила бы я. И при этом сама стояла бы на зыбкой почве.
Что же касается девочек, во всяком случае – моих дочерей, они, похоже, родились с каким-то защитным покрытием, каким-то иммунитетом, которого не хватало мне. Они смотрят прямо в глаза – ровным, оценивающим взглядом. Они сидят за столом на кухне и своей ясностью пропитывают воздух вокруг. Они душевно здоровы – во всяком случае, мне хочется так думать. Это благодать, которая меня спасает. Дочери изумляют меня. Всегда изумляли. Когда они были маленькие, я чувствовала, что должна скрывать от них определенные черты своей собственной личности, свой страх, самые неприятные стороны своих браков, дни пустоты. Я не хотела ничего передать дочерям – ничего из того, что им повредило бы. В такие минуты я лежала на полу в темноте, задернув занавески и закрыв дверь. «У мамочки болит голова, – говорила я. – Мамочка работает». Но им, кажется, не нужна была такая защита, они всё видели, смотрели на вещи прямо, принимали всё как есть. «Мама там, в комнате. Она лежит на полу. Завтра она поправится», – я слышала, как Сара сказала это Анне, когда одной было десять, а другой четыре. И я поправилась. Они верили в меня, как верят, что завтра взойдет солнце и что убывающая луна потом начнет возрастать, и эта вера меня поддерживала. Должно быть, именно благодаря такой вере Бог продолжает существовать.
Кто знает, что будут дочери думать обо мне потом? Кто знает, что они уже сейчас обо мне думают? Мне хотелось бы видеть в них счастливое завершение своей истории. Но, конечно, для самих девочек они – вовсе не завершение.
Кто-то подходит ко мне сзади, и вдруг раздается голос, словно из пустоты:
– Вам чем-нибудь помочь?
Я вздрагиваю. Это продавщица, на этот раз не молодая. Немолодая. Тут я расстраиваюсь: до меня доходит, что она моя ровесница. Моя и Корделии.
Я стою среди платьев в шотландскую клетку, щупая рукав. Одному Богу известно, сколько я так простояла. Не говорила ли я вслух? Горло перехватило, ноги болят. Но что бы ни сулила мне судьба, я не собираюсь съезжать с катушек среди платьев для девочек в универмаге Симпсона.
– Продуктовый отдел, – говорю я.
Она вежливо улыбается. Она утомлена, и я ее разочаровала, так как не нуждаюсь в платьях из шотландки.
– О, вам надо прямо вниз, в подвал.
Она любезно отводит меня туда.
22
Открывается черная дверь. Я сижу в Корпусе, в запахе мышиного помета и формальдегида, на подоконнике, батарея поджаривает мне ноги, и я смотрю из окна на улицу, где хлюпают по лужам феи, гномы и снеговики под звуки «Джингл беллз» в исполнении духового оркестра. Феи выглядят укороченными, побитыми жизнью, они полосатые из-за дорожек, промытых каплями дождя на пыльном окне. От моего дыхания на стекле образуется туманный круг. Брата здесь нет, он уже слишком взрослый для этого. Он так сказал. Поэтому весь подоконник – мой.
На соседнем окне теснятся Корделия, Грейс и Кэрол, перешептываясь и хихикая. Я сижу на своем подоконнике одна, потому что они со мной не разговаривают. Я что-то не так сказала, но не знаю, что именно – они не объясняют. Корделия велела мне хорошенько обдумать все сказанное мною сегодня и постараться понять свою ошибку. Так я научусь больше не говорить подобного. Когда я догадаюсь, в чем был мой проступок, они опять начнут со мной разговаривать. Всё это – для моего же блага, потому что они мои подруги и помогают мне сделаться лучше. Вот я и думаю, пока внизу идут волынщики в промокших меховых шапках и тамбурмажоретки с голыми мокрыми ногами, красными улыбками и слипшимися в сосульки волосами: что я сказала не так? Вроде бы я сегодня говорила абсолютно все то же самое, что и в обычные дни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































