Текст книги "Дань ненасытному времени (повесть, рассказы, очерки)"
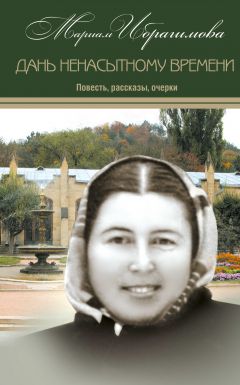
Автор книги: Мариам Ибрагимова
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Прислушиваясь к разговору отца с кустарями, мастерские которых были в двух шагах от нашей, понял, что среди них немало соотечественников. От них узнал, что турецкий султан водит дружбу с правителем германских гяуров – неверных – и готовится выступить против русских.
В один из осенних вечеров, когда мы, усталые после трудового дня, лежали на топчане, отец задумчиво сказал:
– Владыка миров не всегда направляет рабов своих на верный путь, надеясь на их разум. Напрасен мой приезд сюда, время смутное, опасное. Пока не поздно, вернёмся, сын мой, в родные края, ближе к русским людям, которые испытывают большую нужду в нашем ремесле. А единоверцы – одни утопают в роскоши, другие – в нищете…
Вскоре мы покинули Турцию, с трудом добрались до станции Кавказской и с одним из земляков, встретившимся на вокзале, свернули на Кубань. Ехать в сторону гор было опасно – там полыхала Гражданская война. Что ни день – то вооружённые столкновения, нападения на поезда и прочая неразбериха. Только весной 1921-го вернулись в родной аул.
А осенью вновь спустились на плоскость, в Темир-Хан-Шуру, ставшую столицей утверждённой автономной области Дагестана.
Очередным обвинением, ошеломившим меня на допросе, была причастность к антипартийной правоуклонистской бухаринской группировке. Я спросил:
– На каком основании?
Следователь ответил:
– Органам внутренних дел стали известны ваши убеждения и согласие с многими антисоветскими и антипартийными трактовками Бухарина, в частности, с его теорией «об устойчивости мелкотоварного производства», раскритикованной нашим генеральным секретарем – Сталиным – как вредная антимарксистская теория «врастания кулака в социализм».
У меня дыхание перехватило. Это был последний удар, рассеявший окончательно сомнения в неизбежности ареста.
Да, где-то я говорил что-то такое, вне всякой связи высказывая свою точку зрения.
Но говорил доверительно, только близким.
От кого могла просочиться информация?
Кто донёс?
Видя мою растерянность, Рюрик Иванович Иванов, как стала известна мне его фамилия, с видом победителя, измерив меня взглядом, отчеканил:
– Идите и подумайте.
А в следующую нашу встречу назовите имена всех, кто состоит в вашей группировке и кто ею руководит.
Это был, пожалуй, один из тяжелейших периодов идеологической и постоянной борьбы стоящих у руля Советской Республики, начавшей набирать силу.
Убийство Кирова породило многочисленные аресты.
За ним последовали: таинственная смерть жены Сталина, «скоропостижная» кончина Серго Орджоникидзе, новые сенсационные разоблачительные публикации в газете «Правда»…
Ранней весной 1937 года пленум ЦК ВКП (б) исключил из партии Бухарина и Рыкова, возглавлявших «антипартийную группировку», которая из политического течения стала «оголтелой бандой врагов народа».
Язык мой – враг мой.
В который раз вспоминал предупреждения отца – не давать воли языку, даже в самый критический момент.
Излишняя болтовня унижает достоинство мужчины.
Народная мудрость горцев гласит: «Как только человек рождается, мозг требует от языка – не «высовываться», не болтать без нужды, не «вертеться за частоколом зубов», ибо излишние «действия» языка тяжёлой болью отдаются в голове».
Но мой разговор – личное, случайно высказанное мнение.
Да и сидя в КПЗ, я не сомневался и не сомневаюсь теперь, что частнособственнические тенденции устойчивы, особенно у крестьян. Нельзя крестьян лишать земли, приусадебных участков, где они растят овощи, фрукты, скота, крупного и мелкого, домашней птицы. Хлебороб крестьянин прирастает к ним душой, потому что живет за счет натурального хозяйства. Живет сам и излишками кормит других. Коллективные хозяйства, коммуны можно и нужно создавать. Колхозник отработает в коллективном хозяйстве положенную норму и найдёт в себе силы и время заняться личным хозяйством, приучая, привлекая к домашнему труду всех членов своей семьи, начиная с малого возраста. Даже одна коровёнка-кормилица бедных семей горцев – и та требовала затраты сил, ухода – с восхода зари, когда её нужно было подоить, погнать на пастбище, и вечерней зарёй – вновь подоить, обеспечить кормом на ночь, очистить хлев…
Если отнять у крестьянина натуральное хозяйство, он станет нахлебником у государства, разленится, отвыкнет от работы в домашнем хозяйстве, да и по отношению к коллективному сознание его притупиться, когда он увидит, что руководящим и командующим без особого труда живётся легко за счёт него – труженика.
…Я категорически всё отрицал.
Желая каким-то образом связать меня с «троцкистами», которые сидят в соседних камерах, Рюрик Иванович самым подробным образом вёл допрос: когда и каким образом я с ними познакомился, откуда знаю.
Тон его допросов с каждым разом становится резче и грубее. Он уже не предлагает закурить.
Резче, озлобленнее становлюсь и я. Порой во мне начинает клокотать гнев, хочется крикнуть:
«белогвардейский выродок, господин Гирич!
А ну-ка зови настоящих коммунистов, пусть разберутся, кто из нас есть кто!»
Но дух добра подавляет дух зла в душе моей, и я прикусываю губу.
Нервы мои напряжены до предела, теперь и я, как и все сидящие в камере, ушёл в себя, несмотря на то, что в глазах их стал видеть сочувствие.
Дело в том, что в те времена в интересах раскрытия преступления, изобличения виновных, к арестантам подсаживали «наседку» – информатора, который, выдавая себя за преступника, «доверительно раскрывал свою тайну», выпытывал, провоцировал, вызывал на откровенность. Поэтому с новичком подследственные некоторое время не вступали в контакт, пытливо наблюдали за ним со стороны.
Итак, постепенно взаимоотношения между мной и моим следователем обострялись. Не располагая достаточными уликами, по-видимому, относясь к категории механически мыслящих исполнителей, либо – скорее всего – в силу своих политических пристрастий и служебного рвения, используя свое безапелляционное право карателя, «Иванов» стал прибегать к мерам, которые применяли в тупом бессилии ликвидаторы всех времен – избивать меня.
Для меня – здоровенного мужика, всю жизнь увлекавшегося спортом, обученного приемам самбо – легко было простым напряжением крепких мускулов амортизировать удары сухопарого хлюпика.
Но на одном из очередных допросов, когда «Иванов» стал сопровождать свои действия «изысканной» бранью и оскорбил матом мою мать, я не выдержал, вскочил, схватил табуретку и со всего размаху кинул в следователя.
Я только успел крикнуть:
«Рюрик Гирич!
Ты враг народа!
Это тебе за мои муки!»
В кабинет влетели конвоиры и надзиратели и ударили меня чем-то тяжёлым по голове.
Я потерял сознание. С трудом пришел в себя – после того, как меня окатили ведром воды.
Наверняка у меня был такой вид, что как только меня втолкнули в камеру, все кинулись ко мне и самым заботливым образом стали врачевать примочками, повязками из полотенец и прочими примитивно доступными средствами.
Нет, я нисколько не сожалел о содеянном.
Слово мать для меня, как для всякого горца, было священным.
Матерную брань, обращённую к кому бы то ни было, я просто не выносил.
И не приведи господь, если кто-либо из дружков или неприятелей решился бы обложить меня подобной бранью.
Да, мать свою я страстно любил.
Её слово для меня было законом, её воля непоколебима.
Когда умер отец, нас осталось у неё трое.
Безграмотная горянка, она от природы была одарена светлым умом, была неустанно трудолюбива.
Её мудрый, искрящийся теплом и лёгкой грустью взгляд я обожал. В нём хватало и мужества чтобы заменить нам отца.
Благодаря матери я уверовал в силу женщин-горянок, которые могли опоясаться мужским ремнём, надеть папаху и сражаться с врагом наравне с мужчинами.
У меня были обожаемая жена, любимые дети и если признаться откровенно, оказавшись под арестом я страшно тосковал по матери.
А может быть, это потому, что ее безутешная, отчаянная тоска передавалась мне необъяснимой силой телепатии.
Она боготворила меня, но свои чувства, порожденные неизгладимой силой материнского инстинкта, старалась скрыть за внешней строгостью и напускаемой спокойной рассудительностью.
Я знал, что в потемках бессонных мучительных ночей она скрывает от всех свои страдания по мне, потому что не сомневается в моей невиновности, ибо только ей я доверял самое сокровенное.
Когда ночью щёлкнул замок, заскрипел засов – несмотря на ночь, каждый из заключённых приподнял голову: кого «на выход»?
Я поднялся, глянул на лежащих рядом, прочёл в их глазах сочувствие и, улыбнувшись, кивнул головой. В сопровождении конвоира, держа руки за спиной, как и положено, я направился по длинному коридору к знакомой двери. Несмотря на сильное волнение и стеснение в груди, вошел я в кабинет следователя твердым шагом и гордо, вызывающе откинув голову, стал перед столом.
Но тот, кого я увидел, в какое-то мгновение привел меня в такое состояние раскованности и растерянности, что я, чувствуя, как лезут глаза из орбит, с трудом шевеля языком, прошептал:
– Саша, ты?
Александр Смирнов встретил меня более спокойно. Вспомнил меня. Я понял, что встреча для него не была неожиданностью.
– Да, Гирей, это я, здравствуй, – он пожал мне руку и, указав на стул, добавил, – садись.
Опять-таки, не забывая, кто я есть в данном положении, я опустился на сидение и, наклонив голову, стал ждать официального разговора.
Но Саша Смирнов, мой старый товарищ по комсомольской работе, тихо начал говорить.
– Прости, я не знал, что тебя арестовали, да и откуда мог знать, если наши пути разошлись десять лет тому назад.
Ты возмужал и так изменился, что если бы не знакомство с протоколами допроса, я бы не сразу узнал тебя. Самым тщательным образом я изучил твое дело, и кое-что не мог понять.
Скажи, Гирей, как ты в такое время в кругу друзей мог вести ненужные разговоры!
– Какие именно?
Я приподнял голову и глянул в глаза Смирнова.
– Ты что, считаешь правильной бухаринскую теорию «устойчивости мелкотоварного производства», тогда как она истинными марксистами рассматривается как антисоветская, мелкобуржуазная теория «врастания кулака в социализм»?
– Но ведь это мое личное убеждение, которое я никому не навязываю. Я и сейчас могу повторить, что считаю неправильным абсолютную коллективизацию. Нельзя у горцев отнимать приусадебный участок, коровенку, лошаденку, мелкий скот. Мои предки испокон века существовали натуральным хозяйством.
– Ты, значит, против коллективизации? – удивился Смирнов.
– Напротив, я за колхозы, но с сохранением мелкого личного хозяйства середняка и бедняка.
Пойми, Саша… извините, товарищ Смирнов – меня правильно.
Горцы пойдут в колхоз охотнее, если им сохранят небольшие частные хозяйства. В положенное рабочее время они отработают в коллективном хозяйстве, а в личном будут управляться старики, дети – и сами в свободное время. От этих личных хозяйств выиграют все – и сам хозяин, живя за счет натурального хозяйства, и государство – потому что не нужно будет в полной мере снабжать колхозников продуктами: наоборот, горцы могут сами еще излишки сдать государству. А если лишить их всего, как говорится, «под метлу», они станут потребителями.
Смирнов молча, задумчиво слушал.
– Саша, ты помнишь, как мы с тобой, молодые комсомольцы, участвовали в деле коллективизации в те далекие годы? – спросил я.
Смирнов встрепенулся, посмотрел на меня долгим взглядом, словно хотел заглянуть в душу и тихо сказал:
– Иди, отдыхай, продолжим завтра.
Охваченный радостным волнением от встречи с другом, который меня хорошо знал, окрылённый надеждами на торжество справедливости и скорое освобождение, вошёл в камеру улыбающийся, и на вопросительное выражение лиц сокамерников коротко сказал:
– Сменили следователя.
Разговаривать ни с кем не хотелось. Под натиском нахлынувших воспоминаний и взволновавших впечатлений я притворился спящим, чтобы остаться одному со своими мыслями. А они теснились в голове роем.
В 1929–1930 годах вторая волна репрессий, арестов, насилия докатилась и до нас.
Молодая Советская Республика, ликвидируя частную собственность, не могла ограничиться лишь мерами убеждения, прибегала и к насилию.
А в наше время, когда появилась настоящая частная собственность, психология людей в этом отношении не только не изменилась, но ещё более обострилась. Да и на самом деле, кто может вот так взять да отдать без сожаления свою кормилицу-коровёнку, благодаря которой сыта семья!
И это несмотря на то, что содержание её связано с большим трудом. Ведь настоящая хозяйка привязана к хвосту своей коровёнки с раннего утра до позднего вечера. А остальной скот? А приусадебный или земельный участок? Как прожить без них горцу вдали от городских рынков?
Заволновалось крестьянство, а некоторые забастовали.
И случалось, открыто встречали в штыки активистов колхозного движения.
А сколько убивали из-за угла!
Вот в этот сложный период мобилизовали меня, комсомольца – также как молодого коммуниста Смирнова – на борьбу с кулачеством.
Саша был на несколько лет старше меня. Его, как ответственного товарища, вооружили браунингом. Тогда наша семья жила в небольшом городке, вокруг которого на плоскогорье были разбросаны мелкие аулы.
Обычно посланцы партии и комсомола собирались группой и разъезжали на лошадях или на «линейках» по селениям. Там, собрав сход горцев, проводили с ними разъяснительную работу о преимуществах коллективного хозяйства, о росте производительности их труда с помощью механизации, т. е. техники, которая будет выделяться для колхозников государством и т. п.
К великому моему удивлению, на этих сходах активность проявляли в основном женщины. Мужчины, стоя поодаль, только наблюдали за происходившим.
Надо сказать, что среди представительниц слабого пола находились агрессивно настроенные. Вызывающе выступив вперед, размахивая руками, они с насмешкой выкрикивали: – Ну что ж, давайте, объединяйте скот, землю, а потом, может быть, и нас, женщин, будете объединять?
В одном из аулов какая-то дородная старуха, засучив руки, бросив платок под ноги, поднялась на сколоченную наспех трибуну и бросилась с кулаками на Сашу – одного русского, которых оказался среди нас. Кто-то из местных товарищей прикрыл Смирнова собой. Но она, как разъяренная тигрица, протянув скрюченные длинные пальцы к его лицу, рвалась именно к нему. Рука Саши невольно легла на рукоятку браунинга. Я, зажав его руку в свою, шепнул: – Брось, не смей, это провокация. Никто не смеет тронуть старуху. Иначе тут начнется такое месиво, что и родные не опознают никого из нас.
Присутствующий среди нас член исполкома – пожилой человек, из местных, спокойно сказал:
– Апам, ты женщина, мать, как ты смеешь поднимать руку на мужчину, гостя. Разве он твой кровник или унизил, оскорбил тебя или кого-нибудь из твоего рода? Будь благоразумна, пусть сюда выйдет и разговаривает с ним тот, кто тебя настроил, пусть не прячется за спину женщины, если он мужчина.
Видно, исполкомовец попал не в бровь, а в глаз. Старуха смущенно опустила руки, и, ворча, сошла с трибуны.
На Кавказе горцам, как и всем народам мира, свойственны добро и зло; как сказал Лермонтов –
«Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь».
Но мне кажется, в отличие от степенных, рассудительных степняков, горцы склонны к бунтарству.
«Им бог – свобода, их закон – война…
…Верна там дружба, но вернее мщенье».
Но в те дни в каждой республике партийные советские и комсомольские работники активно включились в дело коллективизации. Не дремали и затаившиеся враги. Подстрекаемые людьми, недовольными народовластием, крестьяне роптали и открыто заявляли:
– Вы же обещали власть советам, а землю крестьянам, зачем же теперь отнимаете?
И вот нам, местному активу, надо было находчиво отвечать на все вопросы и всяко доказывать выгоды и преимущества коллективных хозяйств.
И всё-таки чувствовали мы, «как ныне безумный Кавказ негодует, и мрачные думы его тяготят».
Доказательством тому был бунт сельских горянок.
В один из дней к городу стали стекаться со всех окружных аулов женщины. Словно по сговору, все они были укутаны в белые полотнища, под которыми прятали руки с узелками.
Они, словно бесчисленные стаи белых чаек, запрудили все улицы, ведущие к центру города и главную улицу с домом, где помещался исполком городского совета.
Вся местная власть во главе с седобородыми народным депутатами вышли навстречу.
Было понятно, что это не стихийная вспышка народного гнева, а хорошо продуманные, спланированные и чётко организованные действия. Горянки могли быть вооружены, а их подстрекатели вместе с мужьями, сыновьями, братьями могли где-то наблюдать и выжидать на расстоянии.
Представителям местной власти и всему партийно-советскому активу было сделано жёсткое предупреждение – пользоваться только мерами убеждений и обещаний во избежание столкновений.
Председатель исполкома, обратившись к представительницам бунтарок, сказал, что он предлагает зайти в помещение городского театра и там обсудить их требования и желания.
Но зачинщицы категорически отказались, заявив, что они желают вести переговоры на открытой местности, в присутствии всех.
Ничего не оставалось делать.
Предупредив на всякий случай командование военного гарнизона, находившегося в городе, сотрудников НКВД и милиции, представители местной власти согласились на переговоры за городом. Местом сбора была назначена большая площадь, посреди которой, словно гранитный пьедестал, торчал огромный плоский осколок скалы. На эту скалу поднялись представители власти. Площадь запрудила толпа сельских женщин в белых одеждах и горожане в разных одеяниях. Переговоры длились более часа и закончились миром. Среди военных и работников органов, переодетых в гражданскую одежду, были Саша и я. На сей раз мне на всякий случай выдали под расписку наган, при ощущении которого сбоку под пиджаком сердце мое преисполнялось особой гордостью.
Саша, конечно, все это помнит, он должен поверить мне.
Вызвав на очередной допрос, Саша Смирнов молча протянул мне сверток и тихо произнес: «Ешь, да побыстрее». В свертке были бутерброды с маслом и колбасой. Я ел, жадно глотая, и давился от того, что комок от сдерживаемых слез сдавливал глотку, а Саша, низко склонившись над записями, сделанными следователем Рюриком, читал.
– Ну какой же ты, Гирей, не осторожный, – сказал он наконец, озабоченно глянув на меня.
– В чем же я виноват?
– В чем? На кой черт тебе было разговаривать на политические темы с тем же Окаевым. Мужик глупый как пень, что у тебя общего с ним?
Другое дело Соснович. Этот хоть мало грамотный рабочий, слесарь, но, видать, человек мужественный – невзирая ни на какие угрозы, категорически отказался от показаний на тебя.
И тут я вспомнил чисто случайно возникшую беседу в узком кругу товарищей, после прочтения газетной статьи об антипартийной группе – Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева и др. Это касалось высказывания Бухарина об «устойчивости мелкотоварного производства». В убедительности его доводов, касающихся крестьянства, я не усомнился, соприкоснувшись самым активным образом с коллективизацией. Я высказал мнение о возможной причастности Бухарина к иного вида антипартийным деяниям.
Соснович Антон – белорус, сирота, заброшенный изменчивой судьбой в наши края. Честный, порядочный человек, простой рабочий-слесарь, живущий со мной в одном доме, мой товарищ, оказался настоящим другом – давал показания следователю Рюрику в мою пользу, не боясь угроз, зная, что меня постигла беда, веря в мою гражданскую совесть. Святая ложь – а ведь он слышал мои разглагольствования о «теории устойчивости мелкотоварного производства».
Окаев Гамзат, мой односельчанин – тоже сосед, одноклассник, тупой увалень. С трудом окончил семилетку, шефство приходилось брать над ним, я занимался с ним часами.
Трусливый, только и знал, что прятался за мою спину, если случалась схватка с ребятами. Но в люди выбился, хотя и начал рабочим на складе горторга. Умел услужить начальству, щедро одарить нужно человека. Теперь заведует складом.
Как же это он меня «заложил»? Неблагодарный! Я ведь содействовал его трудоустройству, возвышению.
Он ведь лучше других знал, что я не враг народа. Да и как мог быть им сын, можно сказать, пролетария, безземельного кустаря-отходника, который с семи лет был приобщён к тяжёлому труду лудильщика-скитальца.
Как я, беднейший из бедных, мог быть неблагодарным той власти и партии, которая дала мне высшее образование, почётную должность и все те блага жизни, о которых даже мечтать не могли мои предки! И откуда у меня может взяться протурецкая ориентация? Я как историк и марксист ясно сознавал выгодность присоединения горцев Дагестана к такому могучему государству, как Россия, нежели тянуться через моря и страны к далёкой Турции, могущество которой давно растоптано колесом истории, катящимся по развалинам империи?
Я ведь высказал свой взгляд, быть может, ошибочный. А сколько подобных взглядов, мнений и убеждений скрыто в недоступном глазу и слуху, в кладовых человеческого мозга!
И почему, проживший свою недолгую жизнь набело, которую можно проследить, как букашку, движущуюся на ладони, оказался без вины виноватым в том, что даже в голову мне не приходило?
И в то же время такой как «Рюрик Иванович» облечён высоким доверием только потому, что он – воспитанник детского дома.
А уж если говорить откровенно, в то смутное время революционного переворота, во время бегства, отчаянных и горячих схваток, теряли не только свои состояния, но и детей. И где им было воспитываться, как не в детских домах. И могли ли те из них, которые, как Рюрик, видели гибель близких на пепелище поместий, простить Советской Власти содеянное?
Думы обо всём этом теснили мою грудь, и тем сильнее, чем яснее сознавал я, что попал в полосу «политического циклона», движущегося по нашей стране по воле непонятных сил.
Саша Смирнов – настоящий большевик, честный чекист; он, конечно, старался мне помочь – но каким образом, если такая улика налицо?
Мне не ведомо, что и как докладывал он обо мне высшему начальству, которое, безусловно, хотело покончить с моим делом, как и положено в таких случаях.
Я не сомневался в том, что он всяко старался вызволить меня, – он намёками, а иногда и прямыми советами учил меня, как вести себя на «заседании тройки» (закрытом суде), от которого ему не удалось меня избавить.
Также не доверил бы мне тайны так потрясших меня фактов, как аресты и самоубийства среди оперативных работников НКВД.
Саша говорил:
– На днях арестовали Али Османова, начальника райотдела – ты знаешь его, бывший футболист.
А вчера прямо в кабинете застрелился Кольченко – в Чапаевской дивизии служил, оружием именным был награждён.
Что-то непонятное творится и в наших органах, – говорил он тихо, задумчиво глядя перед собой.
А тот ужас на последнем допросе потряс меня настолько, что я впал на некоторое время в состояние невменяемости.
…Вызов на очередной допрос.
В кабинете, как обычно, за столом Смирнов. Я поздоровался. Он сухо кивнул головой.
– Разрешите сесть?
– Садись, – с трудом выдохнул он из груди.
Я смотрю ему в лицо. Он отводит взгляд. Губы сжаты, лицо бледно, на правой щеке у выступа скулы нервно подёргивается мускул.
Я ничего не могу понять. Эта резкая перемена в поведении не только озадачила, насторожила, но и взволновала. Я перевёл взгляд на свои руки, лежащие на коленях, и стал ждать.
За дверью послышались быстрые шаги. С шумом распахнулись двери кабинета. Вошли трое, все в форме. Один из них подошёл ко мне вплотную. Я поднял голову. Мы впились глазами друг в друга. Смуглое, сухощавое лицо инквизитора, горящие ненавистью глаза, бесформенные, тонкие губы, искажённые дьявольской улыбкой, превратились в плотную складку.
Вдруг складка разошлась, показывая мелкий, редкий частокол жёлтых прокуренных зубов, через которые он стал процеживать:
– Подлец! До каких пор ты будешь отпираться, выдавать троцкистско-бухаринскую пропаганду за случайно высказанное мнение.
Он, словно стервятник – крылья, поднял надо мной обе руки с согнутыми, как когти, пальцами.
Я отшатнулся.
– Да если бы не Сталинская конституция, я бы разорвал тебя на части вот этими руками!
Я вскочил со стула, и, в свою очередь, окинув его презрительным взглядом, дерзко заметил:
– Так, значит вы недовольны Сталинской конституцией, нечего сказать, чекист!
Он с площадной бранью кинулся на меня. Ударом ноги ниже пояса я отшвырнул его: если бы двое стоящих сзади не подхватили, он бы ударился об стену.
И в это время раздался выстрел.
Я глянул на Смирнова и заметил, как рука его медленно опустилась от виска, из неё выпал браунинг и сам он мешковато стал валиться на бок.
– Саша, дорогой! – не своим голосом закричал я, кинулся к нему.
Но меня схватили. Я вырвался, изрыгая из себя потоки самой гнусной площадной брани и проклятий, каких никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не произносил.
Во мне проснулся зверь, мне хотелось рвать, метать, бить, ломать. Но множество крепких рук сковали меня, скрутили руки за спину, связали ремнями, свалили на пол, а ноги, которыми я пытался угодить в скрутивших меня, тоже связали. Не знаю, сколько я катался на полу, скрежетал зубами, как пойманный зверь, пока силы не покинули меня.
Судила меня «тройка». Приговор – десять лет строгой изоляции.
Через несколько дней после вынесения приговора меня, вместе с парией других осуждённых, ночью посадили в грузовик и повезли в сторону вокзала. Февральская метель кружила по пустынным улицам. Ледяной холод пронизывал всё тело. Съёжившись, мы старались греться друг о друга.
Длинный товарняк стоял в глухом и плохо освещённом тупике.
Автомашину подкатили почти к самому составу Под бдительными взорами конвоиров, ставших в два ряда, нас по одному стали ссаживать с кузова и тут же, под их обрывистые окрики «поживей в вагоны», мы взбирались в вагон товарняка. На полу мрачного пульмана была расстелена солома. Арестанты – те, кто вошли первыми – усаживались у стен, остальные – где поудобнее; молча, бесшумно.
Когда затворили тяжёлую дверь и послышался лязг железного затвора, те, кто оказался у входа, поднялись и потянулись к решёткам высоких, маленьких окошек. Видимо, каждому хотелось окинуть прощальным взглядом погружённую в сон окраину родного города.
Разговаривали шёпотом, словно боясь о чём-то проговориться. Послышался свисток дежурного, поезд дрогнул и тронулся. Под монотонное постукивание колёс, постепенно набирая скорость, состав покатил полем на северо-запад.
Трудно подобрать слова, чтоб описать моё душевное состояние. Остаток ночи я провёл в какой-то тягостной полудрёме, ворочаясь с боку на бок.
Сумрачный рассвет, серое утро… Лишь к полудню кто-то привстал, присел, поднялся на ноги и с безразличием огляделся вокруг.
Но жизнь есть жизнь, и любая обстановка становится переносимой – тем более среди людей, связанных одной участью. Великий дар человеческой природы – речь – сближает людей, никогда не знавших друг друга, вызывает сочувствие, симпатию, взаимно утешает даже самых угрюмых.
Встречаются и такие, которых не угнетает никакая обстановка – не унывают в самых тяжёлых условиях, своим оптимизмом, покладистым веселым характером приносят успокоение. К счастью, такой человек оказался рядом со мной.
Это был небольшого роста, незаметный человечек. Всю ночь, лёжа рядом, он старался прижаться к моей широкой спине, и я, не зная его прежде, почему-то подумал, что это молодой парнишка – легко одетый, наверное, мёрзнет. Как только я шевельнулся, он приподнялся, и словно извиняясь, с виноватой добродушной улыбкой воскликнул:
– Привет, братцы!
Кое-кто буркнул в ответ, а некоторые даже не повернули головы. Я поздоровался и стал бесцеремонно разглядывать его.
Это был не юноша, а мужчина средних лет и, как я уже сказал, внешне тщедушный. Пока я его разглядывал, он с волчьим аппетитом уминал часть своей пайки, запивая водой из фляжки.
Когда с немудрёной трапезой было покончено, сосед вытер рот тряпицей, которую достал из кармана, затем, обратившись ко мне, сказал:
– Не будете возражать, если я закурю?
– Курите, курят же все другие и никого не спрашивают.
– Да, оно-то так, но есть и мужчины, которые не выносят дыма, тем более махорочного.
– Мы – не в мягком вагоне, привыкли выносить всё, – махнув рукой, сказал я.
Прикурив самокрутку, он с удовольствием затянулся ароматным дымком, затем, поглядев на меня внимательно, протянул руку:
– Будем знакомы, Иван Семёнович, поэт.
Я пожал его небольшую кисть с длинными тонкими пальцами:
– Магомед-Гирей, историк.
К тому времени в вагоне почти все перезнакомились друг с другом и предались беседам в клубах махорочного дыма.
Весёлый по характеру не унывающий, Иван Семёнович оказался словоохотливым собеседником. Этот, как я убедился, интеллектуал, не лишённый тонкого юмора, несмотря на свою серенькую внешность, становился ярким и каким-то необыкновенным, как только начинал говорить. Быть может, так казалось. Мне нравились остроумные люди, умеющие вести себя, не подчёркивая своего превосходства и не унижая достоинства других. Я сразу почувствовал, что общение с этим человеком будет доставлять мне удовольствие.
Немногие люди бывают самокритичны. Большинство из них, – в особенности посредственные и ограниченные – влюблены в себя, не сомневаются в своём превосходстве над остальными.
Не зря сказал какой-то мудрец, что дурак, осознающий, что он дурак – не дурак. К счастью, я тоже часто сомневался в своих умственных способностях, относил себя к людям обыкновенным и твёрдо помнил арабскую поговорку – жизнь, от колыбели до могилы, есть наука.
Мне доставляло удовольствие общение с умными людьми – в особенности со стариками, умудрёнными опытом и знанием жизни, теми, кто превосходил меня.
В том, что Иван Семёнович превосходит меня в образованности, культуре, я понял с первого часа и потянулся к нему. Однако внешне я старался держаться независимо, не желая поддаваться первому впечатлению.
Прекрасно знал Иван Семёнович литературу – классическую, отечественную, зарубежную, современную, историческую, западную и восточную, европейскую и азиатскую. Он хорошо разбирался в юриспруденции, истории, астрономии, библии, музыке.
Этот тщедушный, ничем не приметный внешне человек в течение нескольких дней завладел душами почти всех временных обитателей пульмана. Его правдивые и вымышленные весёлые рассказы и анекдоты на все случаи жизни можно было слушать сутками. Подносил он их артистично, меняя говор, интонации голоса, акцент. Вызывая гомерический хохот, он никогда не смеялся сам.
Ехали мы долго. Как я уже говорил, нас пересаживали в другие поезда под покровом глухой ночи. Но однажды, на безлюдном полустанке, затерянном в бескрайних заиндевелых степных просторах Севера, нас высадили днём.









































