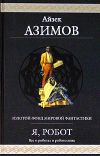Текст книги "Девочка на шаре"

Автор книги: Марина Друбецкая
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В «Кафе поэтов» футуристы уже разошлись не на шутку. В первой комнате с импровизированного постамента Маяковский методично швырял бутылки из-под шампанского, целя в кого-то из чиновничьей публики. Во втором рыжеволосый с «русалкой» проводили акробатические чтения. Публика увлеченно следила за их азбукой тела. Ленни подхватила сумку, заботливо переложенную Бестеренко на стойку бара, и двинулась было к выходу, но в это время раздались выстрелы. Неточка, бледный чернокудрый поэт, лежа на полу, задумчиво палил в Маяковского, который направлялся со своим стулом к «живому алфавиту». Публика прыснула врассыпную. Неточка всхлипнул и, подложив пистолет под голову, захрапел.
– Не волнуйтесь, господа, у него холостые, – сказал Бестеренко. – Я каждое утро проверяю.
– Долой ссстарое иссскусство! – пробормотал Неточка сквозь сон, пуская пузыри. – Долой вссех! Убббью!
Глава 5
Новое лицо
– Саша! Да где же ты? Саша! – Из глубин сада послышался голос Чардынина и показался сам Василий Петрович, вспотевший и взволнованный. – Слушай! – задыхаясь начал он, взбежав на веранду. – Еду по набережной, останавливаюсь выпить газированной воды в павильоне «Воды Лагидзе», вижу газетную тумбу. Вдоль нее – афиша летнего театра, ну, помнишь, мы с тобой были в парке на представлении? Во всю афишу – имя. БОРИС КТОРОВ! – Имя Чардынин почему-то произнес с особой торжественностью. – Люди толпятся, говорят, об этом Кторове идет по городу молва, что он необыкновенный. Чем, спрашиваю, необыкновенный? Кто таков? Почему не знаю? Никто объяснить не берется. Будто бы он дальний родственник, двоюродный племянник, что ли, артиста Кторова. Поедем, Саша, посмотрим спектакль, а? Поедем? – Чардынин в ажитации стаскивал с себя чесучовый пиджак и одновременно наливал в стакан воду из графина.
Выехали заранее – Ожогин решил заодно узнать, чем богатеет местный кинорепертуар. Ничего принципиально нового из Москвы пока не прибыло, кроме слезливой драмы «Измотанных судеб венчальное кольцо», где горевал увенчанный своими льняными кудрями красавец Жорж Александриди. До представления оставалось больше часа, и они решили зайти в ресторацию, расположенную тут же, под тентами. Только сделали шаг, а там – пожалуйста! – знакомое общество. Семейство местного врача, который не раз приглашался на небольшие ожогинские приемы.
– К нам, к нам! – защебетала супруга доктора, интересная смуглая дама, то ли астроном, то ли ихтиолог, насколько Ожогин мог вспомнить. Сделали книксены две взрослые дочки, студентки по естественно-научной части. Улыбалась и картавила по-иностранному их гостья-француженка. Сам доктор широко открывал объятия. Уселись вместе, соединив два стола.
– А мы только-только заказали коктейли. Вот и официант. Позвольте, кажется, нас обслуживал другой, ну, да какая разница. – Все шумели, смеялись, одновременно перебивая друг друга, начинали что-то пересказывать из прочитанного в газетах. Официант в канотье, надвинутом на лоб, быстро принял заказ, скрылся в глубинах ресторанного павильона и вскоре появился с подносом маленьких жареных рыбешок, который бухнул на стол подле Ожогина.
– Да уж в первую очередь надо бы дамам, – пробурчал тот.
Официант качнул головой и отбыл. Шипящие представительницы водного мира так и искрились на солнце, испарина на стаканах с белом вином быстро исчезала – уж пить бы, не ждать, пока согреется. Мужчины не выдержали и попробовали горячую закуску, быстро ополовинив поднос. Официант принес второй, поставил перед дамами и быстро ретировался. Чардынин встал и пошел за ним. Через минуту все услышали, как Чардынин несвойственным ему высокомерным тоном отчитывает лакея:
– Разве сложно запомнить, что блюдо сначала подается дамам?! Вам что, никто этого не говорил?
«Да что это с ним?» – пронеслось в голове у Ожогина.
– Н-да, прислуга у нас имеет очень приблизительное представление о том, как следует обслуживать посетителей, – заметил раскрасневшийся и несколько смущенный Чардынин, когда вернулся. Все замахали на него руками, разлили по бокалам вино. И захохотали еще громче, когда молниеносно появился сосредоточенный официант и переставил подносы: ополовиненный поставил перед женой доктора, а полный переставил к мужской части стола. Выпили за будущее студии «Новый Парадиз», за десятилетний юбилей победы над болезнью ришты в Азии, за… Между тем официант расставил тарелки, задумчиво поглядел на стол, взял одну и измерил ее диаметр большим и указательным пальцами. Остался недоволен, быстро собрал остальные и унес. Притащил еще одну стопку. По дороге верхняя тарелка соскользнула, официант сделал кульбит и, не меняя выражения лица, поймал ее на лету, подставив под нее всю стопку. Общество замерло. Раскидав тарелки по столу, официант принес кувшин со льдом, заказанный картавой француженкой. Не доходя шага до стола, он опрокинул кувшин на колени Чардынина, кубики льда псыпались тому на брюки. Чардынин вскочил, стал салфеткой сбивать лед на пол. Официант стоял перед ним с невозмутимым выражением лица, держа кувшин вертикально на кончике указательного пальца. Развернулся и, покачивая кувшином, скрылся в кухне. Раздался жуткий грохот, еще более нахмуренный и абсолютно мокрый официант появился в зале с блюдом, на котором красовалась запеченная курица. К этому моменту пили за недавнее открытие господина Циолковского в области воздухоплавания. Официант застыл между кухней и столом, флегматично раскладывая тушеные яблоки и сливы вокруг тушки курицы. Яблоки и сливы выскакивали у него из рук, и он, не делая ни малейшего движения корпусом, меланхолично ловил их и складывал в карман. Сложив все, он так же меланхолично стал вытаскивать их по одной штуке и жонглировать. Некоторые вылетали у него из рук и занимали точно отведенное им место вокруг курицы в шахматном порядке: слива – яблоко – слива – яблоко. Вдруг взлетела и сама курица. Официант молниеносно подставил блюдо, и она плюхнулась на него, поместившись ровно посередине. Чардынин пытался отвлечь его от возни с курицей, обратить внимание на посетителей. Тот послушался, но, дойдя до стола, снова стал быстро перекидывать фрукты, пытаясь попасть в одному ему известную загадочную математическую формулу. Получилось: два яблока – две сливы. Официант окинул взглядом блюдо и остался доволен. Девицы хрюкали от смеха в носовые платки, доктор смотрел на происходящее исподлобья, не очень понимая, что происходит. Официант, оторвавшись на секунду от яблок, поднял на доктора внимательный взгляд без тени улыбки. Засмеялась супруга доктора: взгляд официанта точно копировал выражение лица ее мужа. Француженка кричала нечто похожее на «бис!».
– Это он? – спросил Ожогин у Чардынина.
– Он, Саша. Ты видишь, какая выдержка? Он на сцене с шести лет, с родителями. Провинциальная водевильная антреприза, клоунада. И представь – отец запрещал ему смеяться. Когда мальчуган, несмотря ни на что, сохранял невозмутимость, это публику больше забавило. Он гений, Саша.
– И ты запланировал все это представление, Вася? – удивленно переспрашивал уже в который раз Ожогин. – Как-то не ожидал от тебя.
– А загипнотизировал он меня. Сегодня днем встретил его тут и поддался обыкновенному гипнозу. Поставил на известное правило: никто не обращает внимания на прислугу. И выиграл. Неужели не помнишь это странное лицо? Сам же говорил, что оно сделано из прямоугольников. Ну, вспоминай: нищий актеришка, кофе пил на набережной, а ты за него заплатил. Не человек, а картина француза этого, Пикассо.
«Пикассо…» Вдруг Ожогин действительно вспомнил тот вечер в конце мая, когда они с Чардыниным сбежали из дворянского собрания, кафе на набережной под полосатыми тентами, беднягу неопределенных лет за грязноватым столиком, который едва кивнул ему тогда в благодарность. Но лицо его как-то смылось из памяти.
Поесть не успели. Из-под ресторанного тента было видно, что зрители уже заполнили почти все скамьи в летнем театрике – представление должно было вот-вот начаться. Оставались пустыми несколько мест в импровизированном партере. Их-то Ожогин с Чардыниным и заняли, быстренько откланявшись перед любезным семейством.
Жара, мучившая весь день, спала, и это расслабило публику, настроило ее на добрый лад. До темноты оставалось добрых два розовых предзакатных часа. Между рядами под открытым небом мелькали разносчики напитков и сладостей.
Подняли занавес. Начало было многообещающим на странный манер: на сцене стояла печка. Видавшая виды, прокоптившаяся медная печка. Труба, приоткрытая заслонка – видно, как бьется внутри несильное пламя, – две конфорки на поверхности – заметно, что круглые ободки плиты накалились. Из-за кулис вышел флегматичный Кторов в потертой пиджачной паре. Рукава пиджака и брюк немного короче, чем следует. Довольно высокий, он при других обстоятельствах вполне мог бы казаться элегантным клерком. Ожогин усмехнулся разгадке – когда несколько месяцев назад они случайно видели Кторова в кафе на набережной, тот наверняка был в сценическом костюме и в роли. Да уж, определенно типчик.
Началось действие. Печка стала нападать на Кторова. Он попытался водрузить на нее кастрюлю, из которой свешивалась мокрая простыня, но тут гавкнула заслонка, и на клоуна выскочило пламя. Он задвинул заслонку ногой, однако пламя осталось играть у него на локте, что нисколько его не удивило. Он прикурил от локтя неожиданно появившуюся во рту сигарету, и пламя исчезло. В тот же момент кастрюля принялась подпрыгивать, качаться и повалилась с плиты. Простыня обвилась вокруг шеи Кторова и стала его душить. Мокрые концы в нарушение закона тяготения устремились вверх, к невидимому крюку, фатальному для новоиспеченного самоубийцы. Смыслы происходящего мелькали и менялись непонятным образом. В глазах Кторова появилась тень ужаса, и он вступил в отчаянную борьбу с простыней.
«Вот уж кто настоящее привидение, он будто смотрит на себя издалека, стоя где-то в конце длинного шоссе, и сам видит себя во сне, а на сцене показывается только сонный двойник, а не он сам, который далеко», – думал Ожогин. Вся эта история – особенно с самодеятельностью Чардынина – привела его в замешательство. Это уж чертовщина какая-то! Неподвижный взгляд Кторова и правда гипнотизировал, но всех ли? Поймает ли он простую публику?
Зато Чардынин резвился как ребенок, причмокивал от удовольствия и озирался вокруг: всем ли нравится представление так же, как ему? «Живая» простыня была побеждена, но при этом проникла в заслонку и затушила в печи огонь. Повалил дым. В нем артист и скрылся. Где-то на краю сцены были устроены вентиляторы, они гнали смрад прочь от зрителей, а из клубов дыма выскакивала то нога, то рука – казалось, там барахтались в борьбе как минимум двое, а то и трое.
Зрители разделились на две категории – одни вообще не понимали, что происходит. Другие улюлюкали от счастья. Ожогин растерянно улыбался. Дым рассеялся, печка развалилась, от нее осталась только труба, с ней под мышкой Кторов покидал сцену. Он шагал в сторону кулис беспечно, засунув руки в карманы. На прощание обернулся к залу и снова продолжил путь. Вытащил из кармана левую руку, разжал кулак, и из него полыхнуло небольшое пламя. Так, с пламенем в руке Кторов и ушел за кулисы.
За все время репризы он произнес одну реплику: «Вы недостаточно серьезно воспринимаете это произведение, оно настолько значительно, что с ним не сравнится “Война и мир”». Голос у него был шершавый, будто механический. Лицо во все время спектакля ничего не выражало. Кто-то всхлипнул. Дама за спиной у Ожогина громким шепотом просила у мужа платок. Да что ж это такое?!
Раздались аплодисменты. Некоторые кричали «браво», но в нестройных голосах слышалось удивление. Ожогин вдруг вспомнил вечер с Лямскими, музыкантами-путешественниками, прошлой весной гостившими у него на даче. Тогда тоже случилось чудо: Лямский дотронулся смычком до виолончельных струн – и облако, до той поры висевшее неподвижно, поплыло по небу. Музыкант прекратил играть, и облако замерло. На Ожогина это произвело тогда удивительное впечатление – он разрыдался.
– Мы сделаем удивительные серии… – между тем завороженно шептал Чардынин. – У него есть целый набор трюков с разными механизмами и техническими приспособлениями, он, видишь ли, нежничает с ними и в конце концов приручает. Веришь, Саша, уже изложил мне идею о том, как человек влюбился в поезд.
– Верю, Вася. Но ты как-то разволновался на удивление. Я тебя таким, душа моя, давно не видел.
Кторов показал еще несколько удивительных номеров, которые вводили публику скорее в смятение, чем в восторг. Но это смятение как раз дорогого стоило. Впрочем, Ожогин колебался.
Домой возвращались затемно. Густая ночь, дуга огней вдоль побережья. Ожогин вспомнил про Толстого в Антибе – да неужели прямо так сидит и корпит над сценарием при свете лампы с алым абажуром? Наверное, нанял кого-нибудь из русских рифмоплетов, которые пристрастились к прованскому вину, а на дорогу домой денег нет. И все-таки Кторов… Новая комическая серия – и все у его ног. Может, именно это сейчас и нужно публике – грустные трюки? И покоряет он своей безоружностью, вот чем. Это может «купить», да, может. А что он выделывал в ресторане! Если попытаться объединить, перемешать, дать зрителю вздохнуть на бессмысленных падениях, а потом – рраз! – и тебе Отелло. Ожогин заерзал. Кажется, он начинал понимать, что надо делать. А делать вот что – наверное, завтра подписать контракт. Много ли у Кторова своего реквизита? А все-таки не простовата ли наша синематографическая публика для него? Опять риск, а Толстой все выгреб. А ведь серии с Кторовым можно было бы продать в Америку и победить Холливуд. Он же существо как с другой планеты, он зачарует. Такие сборы можно сделать! Надо ли будет платить процент Нине? Как будет строиться доход?
Мысли Ожогина вяло бродили по кругу. Чардынин молча смотрел в темень за окном. Теплый ветер гулял в салоне автомобиля. Вдруг из окна в сумрак машины занесло большую бабочку – мягкие синие крылья мерно поднимались и опускались, пока она фланировала над их головами. Вверх-вниз, вверх-вниз. И скрылась в теплой темноте.
Дома Ожогина ждало письмо от Лямских. Они рассказывали – наперебой, письмо писалось двумя разноцветными перьями – о том, что на Кавказе, в театрике города Боржоми видели «инженерную драму Бориса Кторова», «важнейшее шоу», «нельзя упустить». Из письма выходило, что они говорили с Кторовым и даже давали ему адрес Ожогина в Ялте. Было это два месяца назад, письмо затерялось, судя по штемпелям, обошло не один почтовый участок и все-таки вырулило на финишную прямую. «Тогда да. Завтра же контракт. Не думаю, что он много запросит», – сказал себе Ожогин, еще раз пробегая глазами разноцветные строчки.
Утро было подернуто дымкой, отчего, казалось Чардынину, в воздухе была разлита таинственность. Он встал первым в доме. Было часов шесть утра. Никто не суетился на кухне, псины мирно спали – все трое сопели в гостиной на подушках, которые сами же затолкали под рояль. Рояль был привезен сразу после того дня, когда приезжали Лямские, – и ждал их. Чардынин сделал себе кофе и сел в саду. Нетерпение охватило его еще в середине ночи, когда часа в три открылись глаза, сон ушел, а на смену ему пришло навязчивое желание ехать подписывать контракт с Кторовым. Чардынин ждал, когда проснется Саша. Если Ожогин сомневается в кторовских сериях, тогда он, Чардынин, должен настоять на их запуске и рискнуть тем, что, возможно, ему при обстоятельствах причитается. Задумчиво приковылял к столу длинноухий Бунчевский, тоже, видно, не выспавшийся, и улегся Чардынину на ноги, как уставшие крылья, распластав по траве уши. Чардынин улыбнулся. С момента встречи с Кторовым он вдруг стал повсюду видеть репризы и трюки.
Ожогин спустился часа через два, когда Чардынин окончательно извелся. Глотнул остывшего кофе, сунул в рот сигару и уселся в плетеное дачное кресло.
– Вот что, Саша…
– Вот что, Вася…
Они посмотрели друг на друга и засмеялись.
– Я только хотел спросить о Кторове. Что ты решил? – сказал Чардынин.
– Ну и я примерно о том же. Скажи честно, Вася, ты действительно считаешь, что он «купит» публику, или тебе просто очень хочется, чтобы он ее купил?
Чардынин помолчал. Лицо его было нахмурено, на нем появилось упрямое выражение.
– Ладно, не хмурься, упрямая башка. Я уже решил. Просто ответь на вопрос.
– Я не знаю, «купит» ли он публику, – медленно проговорил Чардынин, словно с трудом подбирал слова. – Но я знаю, что публика будет полной дурой, если не «купится».
Ожогин хмыкнул.
– Заодно и мы с тобой останемся в дураках. Вот о чем я подумал, Вася, не будем говорить Нине Петровне об этом контракте. До поры до времени не будем.
– Значит, ты не уверен?
– Не уверен. И договор заключим не на «Новый Парадиз», а на старую фирму, на «Ожогина и Ко».
– Значит, уверен?
– Уверен.
– Черт! Ты меня окончательно запутал, Саша!
– Да я и сам запутался. Не знаю, что правильно, а что – нет. Сбил меня с толку твой Кторов. Поэтому и хочу, чтобы это было только наше с тобой дело. Проиграем – сами будем виноваты. Выиграем – тем лучше. Не придется делиться.
– Еще одно, Саша. Я хочу сам заключить контракт.
Ожогин кивнул.
– Заключай. У тебя в старой фирме ведь есть доля? Ну и хорошо. И сразу начинай им заниматься. Сценарии, реквизит, партнеры, съемки – все на тебе. Полный хозяин. Как ты думаешь, сколько он запросит в неделю?
И они принялись обсуждать, сколько денег смогут платить печальному комику за его смех и слезы.
Глава 6
Кинопробег начинается
Весь апрель Ленни и Евграф Анатольев, ныне именовавший себя «верховным продюсером кинетической фильмы» и «распорядителем чистого кино», не вылезали из конторы господина Щукина, составляя план создания автоколонны. Ленни бросилась в работу, как бросаются самоубийцы с моста, запретив себе думать о том, что произошло. Решено было собрать три грузовика – для съемочного оборудования, проявочной техники и монтажной комнатки, – а также легковой «Паккард» для съемочной группы. Анатольев показал себя затейливым коммерсантом и договорился с автомобильной компанией «Руссо-Балт» о том, что они предоставят грузовики практически бесплатно – ну, за славу и пару рекламных роликов, которые Анатольев ловко навязал Ленни. Он потирал руки – даже удивительно, насколько не обмануло его чутье в тот дымный вечерок в «Кафе поэтов», дельце-то может оказаться прибыльным не только в художественном смысле. Пасьянс складывался на удивление бойко.
Итак, Ленни собирала команду. Химика, который должен был заниматься проявкой, и монтажера она нашла довольно быстро, а вот какого оператора пригласить, пока было неясно. Ленни хотела снимать сама, но отдавала себе отчет в том, что это может завести затею в тупик. Когда она подменяла Эйсбара в съемках для киножурналов, у нее было простейшее оборудование, собственно, старенькая камера – только рухлядь ей и доверяли – и штатив, тоже склонный к переломам ножек и ручек. Но теперь, чтобы осуществить замысел – «Ваш день – ваш фильм», нужно было немало технических ухищрений. Одной не справиться. Самое важное: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ее планы застряли в плену ее же воображения.
Ленни старалась не вспоминать тот декабрьский день, когда она крутилась как дервиш, брызгая слезами в фотомагазине. Но в то же время заставляла себя вспоминать, как оглоушило ее открытие: ее существование целиком построено на иллюзиях, которые она производит на свет. Теперь она следила за собой и за ними – иллюзиями. Следила цепким взглядом надсмотрщика. Она изменилась. Перестала по-птичьи весело подпрыгивать. Перестала смотреть на собеседника с «улыбкой-лампочкой» – так когда-то давно назвал Эйсбар то, как она, поворачиваясь в разговоре к собеседнику, ласково освещает своими внимательными искрящимися глазами лицо визави. Обида и короста унижения не мешали ей ночью по-прежнему вспоминать его. Сначала Ленни было стыдно перед собой, но потом она сказала себе, что имеет право распоряжаться собственными иллюзиями, как ей хочется.
Евграф Анатольев тоже было надумал ехать в киноэкспедицию. Собственной холеной персоной. С моноклем, разноцветными тюрбанами и шелковыми пальто с лисьей подпушкой – со всей этой красотой, которая, по молчаливому мнению Ленни, вносила бы известный диссонанс в их встречи с жителями маленьких городов. Но выяснилось, что тогда нужен еще один легковой «Паккард»: негоже Анатольеву тесниться со съемочный группой. К тому же непонятно, что в глубинке с гостиницами, и Анатольев, слава всем кинематографическим духам, как-то приостыл. Зато поэт Неточка, Андрей Буслаев – кудрявый брюнет с бледным лицом – очень рвался «принять участие в маневрах», как он выражался, на правах сценариста и ассистента по любым занятиям. Он переменился, перестал ныть и подсовывать всем, кому ни попадя, салфетки со своими виршами. Напротив, увлекшись «социальной фантастикой», про которую вычитал у Мак-Орлана, французского писателя о кино, высказывал довольно трезвые идеи. И вслед за неведомым Орланом славил синематограф как «магический инструмент, вскрывающий в повседневности ее таинственные и магические стороны». Цитируя своего любимца, Неточка делал страшные глаза и шептал, что «кинокамера превращается в своего древнего предка – волшебный фонарь, лучики которого освещают следы мимолетной религии, как-то: сигарета или вуаль Мэри Пикфорд или Лары Рай…».
В остальном он вел себя на удивление деловито: старательно записывал за Ленни ее идеи, толково развивал их и очень бережно обращался с оборудованием, поскольку наделял съемочные механизмы, винтики, рейки, металлические конструкции, не говоря уже о «царице-кинокамере», религиозным смыслом. Был взят на две должности: ассистента и советника по сюжетам.
В конце апреля от Эйсбара пришло письмо, в котором он подробно описывал запахи, что докучали ему в Калькутте. Ленни залилась злостью. Но вечером не удержалась и рассмотрела каждую остроугольную букву, выписанную тонким пером. Почерк был похож на клинопись: писал он не прописью, а печатными буквами, которые мчались по строчками, налезая и нападая друг на друга.
Оператор сам нашел ее. Англичанин Скотт Колбридж зарулил в Россию год назад и, как он доверительно сообщил Ленни, навсегда потерял тут веру в любовь. Был он немолод, полноват для своего невысокого роста и склонен к цитированию восточных философов. Излюбленной его поговоркой была фраза: «Вы ничего не можете сказать человеку, пока он не хочет услышать». Поначалу Ленни даже показалось, что господин Колбридж откуда-то знает о ее любовной неудаче и специально подыгрывает ей, чтобы получить работу, но это было, конечно, ерундой. Выяснилось, что он снимал еще на фронтах Великой войны для трансъевропейского киножурнала «Патэ-Гомон», с тех пор отрицает статичную съемку и отлично разбирается в новейшей технике. В нем ни на йоту не было высокомерия. И главное – русского языка он практически не знал. Ленни же была единственной в команде, кто говорил по-английски. Таким образом, никто не будет лезть в ее съемочные идеи с советами, точнее – с сомнениями. Покрутившись около проекционного аппарата, Колбридж сказал, что готов заодно быть и киномехаником. Почему-то он не хотел возвращаться в свою «мокрую», как он выражался, страну.
Выезд был намечен на начало мая – несмотря на то что думское правительство активно занималось строительством дорог на глухом российском континенте, нельзя было снимать со счетов весеннюю распутицу. Колбридж колобком катался по разным конторам, подбирая оборудование. Оказалось, он был знаком со всем киносъемочным миром, знал, где что можно взять в аренду подешевле, но иногда вставал в позу – ноги иксом, рука с тростью на отлете – и требовал покупки специальной операторской тележки в Берлине. Щукин, неожиданно поддавшийся уговорам «верховного агента футуризма» в тот знаменательный для Ленни день, скрупулезно проверял все строчки бюджета киноколонны. И даже писал своему старому знакомому кинопромышленнику Александру Федоровичу Ожогину, осевшему в Ялте. Советовался: не погорячился ли он с этим кинофутурологическим предприятием. Ожогин просмотрел присланный листок с техническими нуждами, расходом пленки и описанием экипировки машин и ответил, что люди стоят за этой затеей не просто честные, а даже слишком скромные. Щукин обрадовался как ребенок.
В первых числах мая автоколонна уже въезжала в Ростов. Следующим пунктом значился Харьков. Предполагалось, что финальной точкой маршрута станет Симферополь, а ключевым моментом – запечатление на пленку гастрольных спектаклей Художественного театра в Харькове. Команда прибывала в город, устраивалась на ночлег – чаще всего в гостиницу, если таковая имелась, или по рекомендации городского главы в частный дом. Если в городке была ресторация, то Неточка Буслаев обязательно успевал прочитать там лекцию о том, что кино – «самый надежный проводник самых эфемерных общественных явлений». Утром, не самым ранним, поскольку все в группе оказались сонями и Колбридж порадовал Ленни мыслью, что, если не знаешь, что снимать, нечего спозаранку «бить в подушку – она не барабан», так вот, утром в начале одиннадцатого Ленни, Неточка и Колбридж отправлялись на разведку с кинокамерой, в которую был заряжен моточек пленки. Каждый моточек – десять минут.
Генеральная идея Ленни была на грани возможностей и казалась малоосуществимой. Но «мало» не значит «не». Среди местных жителей – прохожих, служащих почты, торговцев, чиновников, гимназистов – надо было выявить персонажей, с которыми в течение дня могло бы произойти нечто. Скажем, идет по улице гимназист, очевидно, хочет прогулять занятия. То кошку учит прыгать через лужу, то торчит около витрины, разглядывая новейший «Ундервуд», то предлагает помощь старенькому почтальону, – но стрелка уличных часов показывает, как неотвратимо приближается час контрольной работы по математике. Съемочная группа оставляет ушастого трусишку в форменном костюмчике около дверей гимназии. Далее идет калейдоскоп городских событий, но в конце десятиминутной фильмы мы снова видим мальчишку, который мчится по улице вне себя от счастья, – голова закинута, руки дирижируют радостный марш, он перегоняет конку, застрявшую на перекрестке, и летит дальше. Титр сообщает: «Победа. Сошлись все ответы!»
– Ну что-то в этом роде, – заканчивала обычно Ленни свои объяснения Колбриджу. Тот почесывал нос, быстрым движением массировал щеки и поворачивал голову к Неточке. Тот доставал из карманов листочки, сортировал их и сообщал результаты своих утренних изысканий.
Потом снимали до темноты: «мотор» – «стоп», «мотор» – «стоп» – на крыше фабрики, в больнице, куда привезли роженицу, в мастерской портного, шьющего свадебный наряд, всюду-всюду-всюду звучали команды Ленни, следуя которым Колбридж включал и выключал камеру. Эти два русских слова – «стоп» и «мотор» – он выучил назубок. Неточка слушал их как музыку.
А вечером наступало время химика-проявщика Михеева. Он забирал пленки в лабораторию, проявлял, сушил и печатал. На следующее утро Ленни и монтажер, скромная старая дева по имени Лилия, с Михеевым ее связывали неясные, «не-про-явлен-ные» отношения, садились склеивать сюжеты в одну фильму минут на двадцать. На шесть вечера назначали местную премьеру драматического киножурнала «Ваш город – ваш фильм». Первым делом показывали, что снято в этом городке, и добавляли журналы, снятые раньше. После премьеры – повторы еще на двух сеансах.
«Естественная драматургия… Спонтанная драматургия… Мы не ведаем начала и не ведаем конца…» – молился Неточка каждое утро, рассматривая в сереющем рассветном небе начало нового дня. Он один в команде был жаворонком и уже ранним утром отправлялся на поиски сюжетов. Из разговоров с Ленни, к которой он относился с той же почтительностью, что и к «царице-кинокамере», он почерпнул тезис «жизнь врасплох», хотя Ленни всего-то пыталась объяснить, что хочет показать обыденную жизнь и больше ничего – но чтобы сразу был задействован весь город. Один человек просыпается, другой чистит зубы, третий варит яйцо на завтрак – «в общем, весь город просыпается как единое существо».
Монтажерка Лилия подошла к ней как-то вечером и прошептала:
– Елена Себастьяновна, прошу прощения, но на мой вкус поведение господина Буслаева предвещает неладное. Его религиозное поклонение кинокамере и механическому глазу, коим он величает объектив, приобретает экстатические формы…
– Разжился молельным ковриком, прячет его в машине с оборудованием, ночью достает и воздает хвалу царице-камере. Совсем с головой ку-ку, – буркнул, проходя мимо, Михеев и добавил, когда его уже никто не слышал: – Морфинист чертов!
– Вчера повздорил с местным доктором, – продолжила Лилия, – весьма просвещенной персоной, который позволил себе замечание о том, что, может статься, футуристическому кино не хватит психологизма, чтобы по-настоящему увлечь аудиторию. Доктор-то – поклонник Станиславского, а наш схватился за штатив и в драку. Еле удержали!
И они с Ленни направились к грузовику, где располагалась монтажная. Настольная лампа освещала фигуры, склоненные над столом с маленьким светящимся экраном в центре и двумя бобинами справа и слева. Жужелица-пленка так и сновала – справа-налево, справо-налево. Клац! Отрезается кусочек. Лилия смотрит его на просвет, отсчитывая кадры, и «штоп!» – в железную пасть клеющей машинки. Выбранный кадр мчится к экранчику. Вокруг стола свисают пленочные ленты, прикрепленные к проволочному каркасу. Если заглянуть в грузовик через щель в дверях – что часто делал Буслаев, – казалось, женщины прячутся в заколдованном лесу. Сидят, притаившись, в зарослях лиан, высматривая, что же там впереди.
Как-то Ленни достала из папки сценарий под названием «Руки». Суть его заключалась в том, чтобы показать хронологию дня с помощью разнообразных действий, которые совершают руки. Руки ребенка и городового. Руки, размазывающие ложкой кашу по тарелке и стреляющие из пистолета в преступника. Рука влюбленного, посылающего воздушный поцелуй. Рука, кладущая кубик сахара в кофе. Пальчики, на которые наносится маникюр. Рука застегивает ворот рубашки. Пальцы нервно бьют по столу. Рука пианиста. Рука фермера, который доит корову. Рука учителя, который пишет на доске цифры. Рука, перебирающая монеты. Рука, открывающая ключом дверь. Рука, которая душит чье-то горло. Рука, которая просит милостыню…
– А в конце – рука, укрывающая кого-то, кого любят, теплой периной. Так и пройдет здешний кинодень, – завершила Ленни и отвернулась, потому что глаза ее были на мокром месте. Она вдруг вспомнила, как заснула в мастерской Эйсбара и он прикрыл ее тяжелым ватным одеялом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?