Текст книги "КМ"
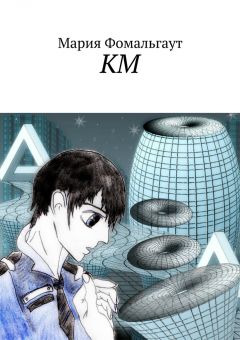
Автор книги: Мария Фомальгаут
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава восьмая. Кто мы
Листья.
Как они смеют все еще падать и падать.
Луна.
Как она смеет еще светить.
Хочется бросить в луну камень и разбить. Вдребезги. Чтоб не светила, незачем ей светить больше, потому что Тори нет.
Тори, это Виктория, если кто не знает.
Да никто не знает, никому это неинтересно, вообще для самого себя пишу, кому я собираюсь объяснять, что Тори – это не партия в Великобритании, и не волость в Эстонии, и не остров в Ирландии, и много еще чего не, Тори – это Виктория.
Была.
Годы жизни на памятнике.
Любим. Помним. Скорбим.
Чувство какое-то мерзкое, что так быть не должно, не должно, не должно.
Здесь нужно рвать и метать, и не рвется, и не мечется. Чувства куда-то делись, должно быть, лежат под тем же камнем, между двумя датами…
Это будет завтра.
А сегодня страшно посмотреть на стол в комнате, потому что там лежит в окружении цветов и свечей…
Тори.
Это не область в Грузии.
И не партия в Великобритании.
Это Виктория.
– Вы её давно знали?
Это полиция.
– Я её вообще не знал. И в то же время знал пять лет.
– Проясните.
– В Итер… инетр… в Сети…
– В Интернете переписывались?
– Ну да.
Солнце.
Кажется, Солнце еще не знает, что Тори нет, иначе бы не стало светить. А может, Солнце путает, есть же Тори – область в Грузии, есть же Тори – в Ирландии, еще где-то есть какие-то Тори, вот солнце и путает, и светит, потом спохватится, погаснет, океаны промерзнут до самого дна…
Острая сердечная недостаточность.
Это диагноз.
Не мой.
Тори.
Мысли путаются. Тори. Имя. Четыре буквы. Цифры на могильной плите. Строки на экране.
Заглатывают пасмурные будни
Дела, дела, дела, дела, дела,
И тащат в день измученные люди
Тела, тела, тела, тела, тела.
Нам мало дней безжалостная осень
Дала, дала, дала, дала, дала,
Когда исчезнем, остается после
Зола, зола, зола, зола, зола.
И гонит нас, и кто-то гонит листья
Со зла, со зла, со зла, со зла, со зла.
И кто-то жжет нечитанные письма
Дотла, дотла, дотла, дотла, дотла.
Это Тори.
И еще
Вечер прячется за туманом,
Вздохи-шорохи так тихи
И катаются по полянам
Ненаписанные стихи
И от снегопада до мая
Необдуманно налегке
Сны скитаются над домами,
Не увиденные никем.
И за суммами, и за числами
Видит деловой человек,
Как гуляют по лесу мысли,
Непродуманные вовек.
И со снега, что не растаял
Так скорехонько на раз-два
Дворник поутру выметает
Все несказанные слова.
Это тоже Тори.
И много-много еще.
А то давай встретимся.
Это не Тори. Это я. набираю дрожащими руками, клавиши прыгают, пляшут, выбивают на экране – ато дваай ствретисмя.
СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Сердце падает.
Мир замирает.
Мысленно бью себя по пальцам, не так это нужно было писать, не так, а…
…а как?
У ВАС НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
А то давай.
Вот так по-простому. А то давай.
И адрес.
Мысли путаются. Надо вспоминать, не вспоминается, не осталось воспоминаний, ничего не осталось – боль, боль, боль.
Это было вчера.
Вокзал. Поезд отсчитывает километры и телеграфные столбы. Другой вокзал. Носильщики обступают, позвольте ваши вещи, нет у меня вещей, ничего нет.
Метро.
Прохожий смотрит на мою черно-белую карту, кивает:
– А, это вам на зеленую ветку.
Цветы круглосуточно.
– Сколько стоит букет роз?
Пересчитываю банкноты, понимаю, что не хватит.
– А мне бы что-нибудь попроще.
Белые хризантемы.
Лабиринты незнакомого города.
– А Каховская где, не подскажете?
– Какая?
– Каховская.
– КахОвская, горе вы мое!
Краснею.
– Вон, через дорогу…
Иду.
Высотка в центре двора.
Седьмой этаж.
Уже перед дверью вижу, что один цветок сломан. Вспоминаю, так было, или так стало, пока нес.
Думаю, выбросить или нет.
Вспоминаю какие-то приметы про восемь цветов.
Не выдерживаю, – сломанная хризантема летит в глотку мусоропровода.
Чив-чив-чив-чьюр-р-р-р.
Это звонок.
Щелчок замка.
Веснушки во все лицо.
Это Тори.
Хочет что-то сказать, давится собственным голосом, падает мне на руки.
Острая сердечная недостаточность.
Это диагноз.
Помню, однажды просто так, ниоткуда
Так осторожно – не напугай, не тронь
Со снегопадом с неба упало чудо
С неба упало прямо в мою ладонь.
Слухи и сплетни сбежались большою грудой
И я от славы не бегал, как от огня:
Люди сбегались – чудо упало, чудо!
Люди смотрели с завистью на меня.
Было мне здорово, было тогда не худо,
Благодарил я за дело судьбу свою:
Я все показывал людям в ладони чудо
И раздавал бессчетные интервью.
Был я богат, знаменит, и было мне круто,
Были завистники до истерики злы…
…но на рассвете вдруг растаяло чудо
И на окошке оставило горсть золы.
Это тоже Тори.
– Вы возьмете на себя похороны?
– А?
– Возьмете на себя…
– А… – сам пугаюсь своего голоса, – а разве у неё… нет…
– Никого нет.
– А-а…
Стараюсь не смотреть на стол посреди комнаты, где в окружении цветов и свечей лежит…
Светает.
Или нет, это луна.
Хочется бросить в неё камень и разбить, как хрустальный шар.
Чив-чив-чив-чьюр-р-р-р.
Это звонок.
Иду в коридор.
Щелчок замка.
Оторопело смотрю на бескровное лицо. Человек энергично пожимает мне руку, вспоминаю какие-то приметы про рукопожатия через порог.
– Тингерман, к вашим услугам. Разрешите войти?
Разрешаю. Даже не спрашиваю, кто он для Тори.
Тингерман смотрит на Тори, я не хочу, чтобы он смотрел на Тори, мне кажется, он отнимает у менгя Тори.
– Вы очень любили её?
– Да.
Отвечаю да – неожиданно для самого себя.
– У меня к вам деловое предложение…
Подозреваются в похищении тела умершей…
Думаю, какого черта я согласился.
Тингерман.
Он умеет убеждать.
– Вы же хотите воскресить её?
Это Тингерман.
– Это невозможно.
Это я.
– Друг мой, забудьте это слово раз и навсегда. Пока вы будете повторять себе – это невозможно, – вы не добьетесь успеха…
Тингерман.
Мысли путаются.
– Мне нужна её кровь… её тело…
Это говорит Тингерман. Я не хочу отдавать Тори. Но я должен отдать Тори. Если я отдам Тори, я верну её, если я не отдам Тори – я потеряю её навеки.
Парадокс.
Мысли путаются.
– Думайте, думайте, вы хотите её вернуть или нет?
Это Тингерман. Наклоняюсь над приборными стеклами, бережно капаю краситель на мертвые ткани, хочется швырнуть все это в лицо Тингермана, в холеное бескровное лицо…
Солнце.
Оно еще светит, оно еще верит, что Тори вернется.
Тори – это Виктория.
Друг мой, если вы будете путать красители, мы НИКОГДА не вернем Тори…
Это снова Тингерман.
Стекла со звоном летят на пол, комната летит кувырком, пытаюсь поймать самого себя, не могу.
Мир меркнет, в последнем проблеске сознания думаю – вот солнце и погасло.
– Ну что… плохие новости у меня.
Это Тингерман.
Стараюсь не замечать пульсирующую боль в висках.
– Сколько… мне осталось?
Тингерман усмехается.
– Вы что, собираетесь умирать?
– Вы сами сказали, плохие новости.
– Друг мой, сколько раз вам можно повторять: нет ничего невозможного!
Воспоминания путаются.
Это плохо.
Тингерман говорил, нельзя путать воспоминания.
Воспоминания – это все, что у меня осталось.
ОБРАБОТКА ПАМЯТИ – 90%
Не выдерживаю:
– Долго еще считывать?
– Друг мой, по-вашему, оцифровать человека это раз плюнуть?
Спохватываюсь.
– А Тори… тори тоже можно вот так… оцифровать?
Тингерман настораживается, задумывается.
– А что у вас осталось от Тори?
– Вот… стихи.
Тингерман усмехается.
– Друг мой, как, по-вашему, можно восстановить человека по стихам?
– Нельзя?
– Разумеется, нет.
Смотрю на Тингермана.
– Вы сами говорили, нельзя говорить – невозможно. Можно, по крайней мере, попробовать.
– Друг мой, это безумие.
Киваю.
– Безумие. И все же.
– Хорошо, давайте обсудим финансовую сторону дела…
Понимаю, что опять придется залезать в кредиты…
Свет меркнет.
Солнце гаснет, пока для меня одного.
Боль.
Боль, которая не уходит. Нет, не душевная, душевная и подавно никуда не уйдет.
Я говорю про физическую боль.
Она тоже не ушла.
Говорю – без языка, без голоса, языка и голоса у меня больше нет.
– Тингерман… я умер, а мне все еще больно.
– Это нормально, друг мой. Ваше сознание не может забыть о боли.
– И мне что теперь… всю жизнь… вот так?
– Не беспокойтесь, это пройдет.
Не беспокойтесь… легко сказать.
– Ну что, плохие новости у меня…
Это Тингерман. Смотрит на то, из чего мы пытались сделать Тори.
Догадываюсь:
– Не получилось?
Тингерман качает головой:
– Я очень сожалею.
Тянусь к файлам с Тори. Не тяну руку – именно тянусь, потихоньку привыкаю к своей нематериальной оцифрованной сущности.
– А можно я это… себе оставлю?
– Не вижу в этом смысла. Впрочем… дело ваше.
Тори…
В смертный бой уходят солдаты,
Обескровлены, разорены,
И не верится, что когда-то
Будем мир, и не будет войны.
Души темные крови жаждут,
Души темные ждут зимы,
И не верится, что однажды
Будет свет и не будет тьмы.
Ночь неумолимо права,
Зимний вечер неумолим,
И не верится, что бывает,
Чтобы не было вечных зим.
Это тоже Тори. В последнем четверостишии не хватает слога, ночь, которая права, обрывается в никуда.
КМ: ты строчку-то исправь.
Тори: я художник, я так вижу :))))
Собираю нашу с Тори переписку.
И стихи.
Все, что осталось от Тори.
– Есть еще один шанс.
Тингерман смотрит на меня, будто испытывает, на сколько еще хватит моего доверия.
– Что же на этот раз?
– Время, друг мой.
– У вас нет времени говорить?
– Нет-нет, друг мой, я имел в виду другое. Время. Варианты действительности. В одном варианте Тори умирает от сердечного приступа, в другом попадает под машину, в третьем может и не умереть… Я видел ваши наработки… по поводу вариантов времени…
– Это еще сколько лет над ними работать…
Тингерман приподнимает бровь:
– Вы куда-то торопитесь?
Вспоминаю, что у меня вся вечность впереди.
– Когда вам будет удобно начать работу? – спрашивает Тингерман.
– Да хоть завтра…
– Завтра я иду протезировать сердце… – Тингерман хмурится.
Вздрагиваю всем телом, даром, что у меня нет тела.
– Удачи.
– В чем, в чем, а в удаче я не сомневаюсь. Итак, послезавтра начинаем.
Шальная, хитрая
Рыжемордая осень настала,
Листаю я
Вечера и туманы пью,
Когда стихи
Собираются в дикие стаи,
И стаями
Улетают куда-то на юг.
С судьбой на Вы
В леденящую осень холодную
Туманы зля,
В листопад, как осенний листок
Иду ловить
Золотые стихи перелетные,
Иду стрелять
Средоточие мыслей и строк.
Это тоже Тори.
Врываюсь в кабинет Тингермана.
– Вы все наврали… наврали!
Тингерман делает мне отчаянные знаки, сейчас-сейчас-сейчас, хочется выхватить у него телефон и грохнуть об стену, вспоминаю, что не могу это сделать. Внедряюсь в телефон, вонзаюсь в электромагнитные потоки, пропади оно все, пропади, пропади…
– Да вы с ума сошли, – не выдерживает Тингерман, – вы…
– Вы мне все наврали. Я посмотрел варианты реальности… Тори не будет жить ни в одном…
– А вы молодец, что перебрали все варианты, у меня бы терпения не хватило.
– Вы знали, что она не будет жить!
– Невнимательно слушаете, у меня бы не хватило терпения перебрать все варианты… А вы нам помогли, чертовски помогли…
– Чем?
– За новостями-то следите, друг мой? Или на хрен надо?
За новостями я не слежу.
На хрен надо.
В связи с похолоданием климата власти предлагают перейти с одного варианта реальности на несколько вариантов в надежде, что хотя бы одна из вариаций действительности переживет надвигающуюся катастрофу…
Вот теперь, пятьсот лет спустя, солнце поняло, что Тори не вернется – и погасло.
Ну не совсем погасло.
Но остыло.
Тори…
Шальные, хитрые,
Непонятные и опасные,
Живые, хилые,
Сгорающие в золу,
Летят стихи,
Неподсудные и неподвластные,
Летят стихи,
Рассекают осеннюю глушь.
Друзья пеняют —
Что ты ходишь, крылами размахиваешь,
Бросай – и бросься
В мира слабости и грехи,
Зовут меня,
А я только устало отмахиваюсь,
Сегодня осень,
Охоты сезон на стихи.
Вбираю в свое сознание Тори – до последней капли. Прислушиваюсь к себе, только теперь вспоминаю, что Тингерман говорил не смешивать сознания.
Друг мой, если вам дорога ваша жизнь, даже не вздумайте…
Прислушиваюсь к себе, спрашиваю себя, кто я, это еще я, или уже Тори, или что-то среднее между мной и Тори.
– Я хотел бы заказать сервер помощнее.
Продавец оторопело смотрит на меня.
– А доверенность от хозяина есть у вас?
– От какого хозяина?
– Ну, вы же не сами по себе.
– К-как не сам по себе, я человек…
– Вы же не человек. Вы оцифровка.
– По-вашему, у меня гражданских прав нет?
– Сожалею, но только через хозяина.
– Я и паспортные данные свои сказать могу…
…пытался купить сервер по паспортным данным человека, умершего двадцать лет назад. Виртуал задержан и передан своему владельцу Н. Тингерману, владелец отделался выговором…
– Вы знали, что так будет!
Тингерман устало смотрит сквозь меня.
– Знал.
– Вы…
Тингерман выключает связь со мной. Вот так. Просто. Начинаю понимать, что у меня и правда нет прав.
Они сорвутся
С пожелтевших обсыпанных веток,
Несут бессонницу,
Обнимает их пустота,
С собой зовут
В край далекий, где вечное лето,
Где светит солнце
Не за тучами, а вот так.
Без сна, без сна
До отчаяния, до истерики,
Летящий стих
Гордо крылья свои несет,
Они не знают —
Ни один до далекого берега
Не долетит. Не доскачет. Не доползет.
Это Тори.
У Тори теперь тоже нет прав.
И Тори нет.
Или есть?
Открываю сервер, вырываюсь в реальности, еще не освоенные человеком…
…сбежали из нашего мира в собственноручно созданный вариант реальности. Всем, кто знает что-то об их местонахождении, просьба сообщить в правоохранительные органы. В момент побега на аватарке КМ был изображен непропорционально высокий и тонкий человек…
Осторожно покидаю реальность Тингермана, осторожно оглядываюсь, не следит ли кто, еще думаю, не разветвить ли время, не остаться ли частично здесь – нет, нет, уходить так уходить, оглядываю варианты, вон какие-то необъятные туши грузно топают по осеннему полю, подернутому первым снегом.
Приближаюсь к ним…
– Тори… Тори? Тори!
Смотрю в звероподобное лицо, узнаю знакомые черты, не верю себе, не понимаю…
– Тори?
Наши миры расходятся, удаляются друг от друга…
– То-о-о-ри-и-и!
Тори.
Область такая в Грузии.
И партия в Великобритании.
И остров в Ирландии…
И…
Захлопывается портал.
Виктория.
Остаюсь наедине с собой, с воспоминаниями – единственным, что от меня осталось.
Он приближается – бесплотный, полупрозрачный, лиловый куб с желтыми глазами.
– А я Эрчибелд.
Это говорит куб.
– Очень… приятно.
Это я. Говорю ему, без языка, без голоса говорю ему:
Пределы горизонта шире,
Иней на траве,
Седой туман, разбитый в дым дождями дробными,
И все живое в этом мире,
И каждый человек
Стремится бессознательно к себе подобному,
Что было в августе нетленно,
Разметает в прах
Косыми ливнями, туманами молочными,
И каждый Бог в своей Вселенной
И своих мирах
Страдает в эти дни от одиночества.
– Это ты? – спрашивает Эрчибелд.
Мотаю головой:
– Нет. Это Тори.
Глава девятая. Кто вы
…отличаются высоким ростом (до двух метров), мощным телосложением. У самцов (зачеркнуто) мужчин чрезмерно развит плечевой пояс, у самок (зачеркнуто) женщин обычно широкие тазовые кости. Волосяной покров густой, обычно грязно-белый, развита лицевая часть черепа. Подвид Человек Зимующий предназначен для проживания в эпоху Оледенения…
Ему снятся сны.
Яркие сны, красочные сны, живые сны, сны, после которых просыпаешься, еще долго оглядываешься по сторонам, хватаешь что-то ускользающее из сна, оглядываешься – а где, а почему нет, а было же…
Нет.
Не было.
И быть не могло.
И отец по затылку хлопнет, хорош мечтать уже, вставать надо, кто рано встает, тот грибы себе берет, ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глазки продирает, так старики говорили, так отец говорит.
Он встает, спешит за сестрами, за братьями, надо спешить, поторапливаться, да как спешить, так не хочется растерять остатки сна, так хочется собрать в кулачке.
Сна…
Тонкий мир, легкий мир, легкие острова, парящие в бесконечной пустоте, острова, на которых возвышаются башни, шпили, арки, мосты, тонкие деревья, они кажутся неживыми…
– Поспеша-а-а-й!
Это старшой орет, ложкой по лбу хлопает. И то правда, нечего носом клевать, поспешать надо, вон, делов-то не меряно, урожай собрать, вон какой уродился, урожай-то ждать не будет, не соберешь его с полей, так холода нагрянут, урожай крыльями захлопает, на юг улетит, только его и видели.
Так что поспешать надо, зерно бегом-бегом доедать, и в поля. Да какое там доедать, уже и забываешь, что там в тарелке лежит, только глаза прикроешь – и вот он, сон, острова легкие парят в пустоте, люди тонкие ходят, по тонким мостикам переступают, и не боятся, не падают. А кто и вовсе в небе парит, вот клочок земли у него, в клеточку, по умолчанию, вот он на клочке земли дом себе строит, раз рукой взмахнул – вот и фундамент готов, два рукой взмахнул – вот и стены…
Хорош спать-то уже!
Это отец. И хлоп ложкой по лбу, правильно, виноват, вон, самую силу на тарелке оставил, кто силу на тарелке оставляет, того зима унесет, а ну ешь давай!
Есть он не хочет, оглядывается по сторонам, а вот Завирайка скачет, хвостом виляет, вот Завирайка миску-то и вылижет.
Так-то.
Он спешит за братьями, за сестрами, на поле спешит, урожай собирать, пока не улетел урожай. Спешит, и про себя повторяет то, что во сне ему пригрезилось, прислышалось.
В седой ночи уже не плачется,
Не видишь горизонта степи,
И люди друг от друга прячутся
В той непроглядной темноте
Укрылись друг от друга ветошью,
Враждебным обликам не рады,
…А в темноте пылают светочи
И беззащитные – горят.
– Поспеша-а-а-й!
Он поспешает, вытаскивает урожай из подмерзшей земли, бросает в корзины. Кусается урожай, шею ему не свернешь, так и цапнет…
Ну да.
Он вспоминает.
Не помня – ни обид, ни зла,
Не жалуясь и не стеная,
Стараются ничтожным пламенем
Тьму вековую разогнать.
Наивно мнят себя бессмертными,
На белый свет глядят без зависти,
И не боятся, что заметят
Их – хищной полночи глаза
И видят светочи ранимые,
И чуют посреди зимы,
Как толпами проходим мимо
В делах запутанные мы
Приходят в память слова откуда-то из ниоткуда, слова, сплетенные кем-то когда-то, неведомо кем и когда. И вроде нет уже того, кто слова сплел, а слова вот они, живут.
– Живе-е-ей!
И то правда, живей надо. А то зима-то близко, зима-то не за горами, крадется зима – злая, голодная, урожай не соберешь, к зиме жирок не нагуляешь, тут-то тебя зимушка-зима и унесет…
И видят светочи безропотно,
В пространство расточая зной,
Как мы – пугливые и робкие
Их свет обходим стороной
Мы из души лазури выгнали,
Из марева ушли в снега,
И кто-то безнадежно выдохся,
И кто-то в сумерках погас,
Их кто-то называет выскочками,
Зовет пройдохами и плутами,
Кого-то вычислил и выхватил
Тумана ненасытный клюв,
Что-то тут не так, нескладно что-то, он еще сам не понимает, что – но нескладно. А вот, плутами – клюв, не должны они рядом стоять, не должны, а почему не должны, он и сам не знает. А если по-другому поставить, будто переменится что-то, встанет все на свои места, откроется грань какая-то…
А зима крадется, злая, голодная, нюхает человечьи следы…
Пренебрегавшие заветами
Мотаемся вперед-назад,
И кто-то проклинает светочей,
И свет, что больно бьет в глаза.
Он прислушивается.
Нет, вроде ничего… а нет, чего, очень даже чего, дрогнула пустота, шелохнулся туман, будто расступилось что-то, открылось что-то в холоде осени…
Но снова – светлые и вечные
Метелью черной не запутанные,
Горят всевидимые светочи,
Ничейный озаряя путь.
Клацнула зима зубами.
Да поздно уже зубами клацать, нет уже никого, был, да сплыл, шагнул в туман, и нет его, одна скорлупа осталась из плоти и крови, а скорлупу зима прибрала, зубами клацнула.
Так-то.
Ищут его, по полю зовут, голосят:
– Ко-о-лосве-е-е-ет!
А нет Колосвета.
И все за головы хватаются, вот горе какое, зима прибрала.
Затягивается дымка, тает туман осени.
***
Мало времени у Бореслава.
Только Бореслав не торопится. Некуда Бореславу торопиться, знает Бореслав, поспешишь…
…верно, людей насмешишь. Вот вы это тоже знаете, молодцы какие, что старые пословицы знаете, а то сейчас молодежь пошла, и не помнит ничего.
Так что Бореслав все потихонечку-потихонечку, тише едешь…
…правильно, дальше будешь.
А время на осень повернуло. Лето уходит, не век же ему, лету-то быть, так в природе заведено, лето короткое, за ним осень, птицы летят, лес желтеет, а там и зима лютая на порог стучится. Как говорят, лето-припасиха…
…не знаете?
Лето-припасиха, зима-прибериха, вот как говорят. А это что значит? А то и значит, надо к зиме подготовиться, жирок нагулять, запасы на зиму, у Бореслава во-он какие запасы, на всю зиму хватит, может, и до весны чего останется. Весна-то, она тоже не лыком шита, не медом намазана, пока снег сойдет, пока травушка-муравушка проклюнется, тоже ведь кормиться чем-то надо.
Так что Бореслав зимой не пропадет, можете не волноваться даже за Бореслава. И сам Бореслав крепок, и дом у Бореслава что надо, крепкий дом, знатный дом, стены вон какие толстенные, бревенчатые, мхом проконопаченные, и полы в три слоя, и шкуры звериные на полу постелены, и печь ы большом зале выложена, и спальня огорожена, шкурами устлана, и в кровати теплым-тепло, как под шкуры спрячешься, так всю зиму проспишь, проглядишь сладкие сны. А зима ох до-о-о-лгая, по полгода ходит-бродит по полям, по лесам зимушка-зима.
А к зимушке подготовиться надо. Вот Бореслав и готовится, дом свой утепляет, жирок нагуливает, вот и сейчас благоверная Бореслава, милая сердцу Рада, пирогов напекла, вот теперь всей семьей ужинать будут. Во главе стола Бореслав сидит, подле благоверная Бореслава, Рада, сердцу милая, Бореславу под стать, дородная, в платье белом, бисером расшитом, и сын старший, Радомир, отцу подмога, и Световея, милая очам и сердцу, дочка Бореславова на выданье, выискал ей Бореслав жениха, соседского сына. И меньшие, Ждан да Зван, уж где Ждан, где Зван, никто не разберет. А дальше меньшого портрет стоит, Колосвета, в том году зима лютая его унесла.
Аминь.
Поднимается Бореслав на чердак.
А чердак детям ходить не велено.
Да никому туда ходить не велено, туда и самому Бореславу идти страшно, да как не страшно, там же этот…
Этот самый…
Как его…
А Бореслав и не знает, как его, имени его не знает, а может, и нет у него имени никакого. Вот что страшно-то будет. У всего в этом мире имя есть, у солнца красного имя есть – солнце красное, у лета красного имя есть – лето красное, у земли-матушки имя есть – земля, у дома имя есть – дом, у хлеба имя есть, да не одно, и каравай, и лепешка, и по-всякому, ржаной хлебушко – калачу дедушко. Про людей и говорить нечего, как родился человек, так в церкви белокаменной его окрестят, имя дадут. Вот Бореслава Бореславом назвали, благоверную Бореслава – Радой, сердцу милой, сына старшего Радомиром назвали, дочурку старшую, красавицу на выданье – Световеей, близняшек – Жданом да Званом, а меньшого самого, которого зима прибрала, Колосветом звали. Вот так, даже у мертвых и у тех имена есть.
Да что у мертвых, уж на что смерть саму все проклинают, ненавидят люди смерть – и то имя ей дали, Смерть. Уж на что зиму лютую не любит никто, и то имя ей дали – Зимушка-Зима. И ночку темную Ночью прозвали, и зверя лютого зверем лютым.
А у этого, на чердаке который, и имени нет.
Вот страшно-то.
А чего страшно, у страха глаза велики, всю жизнь бояться будешь, так и не сделаешь ничего. Торопиться тоже не надо, ну да правда бабка говорила, не торопись, но поспешай.
Вот и не торопится Бореслав.
Но поспешает.
Поднимается на чердак Бореслав, лестница под Бореславом поскрипывает… а, да нет, не сломается, видели бы вы, какие лестницы в доме-то у Бореслава, всем лестницам лестницы, ну окромя этой, которая у черного хода, на ту и правда лучше не подниматься, да и вообще снести её пора. А так-то дом у Бореслава добротный, что есть, то есть.
Вот поднимается Бореслав наверх, корчажку с кашей несет, каша с мясом, сам бы ел. А вот, не ест Бореслав сам, этому несет…
Этому…
У него и имени-то и нет.
Вон он, на полу лежит, на ложе из медвежьих шкур, жуткий, страшный, Бореслав его вчера по кусочкам собирал. Буквально собирал, в кузнице ковал, руки, ноги, голову, в голову еще мозги вставлял, хотя этому-то мозги не вправишь, что не дано, то не дано.
Скажете, не бывает так, чтобы человека из железа выковать?
Верно.
Не бывает.
А вот случилось. Чисто как в сказках страшных, как какой-нибудь мастер чудище из железа выковал, и пошло чудище-юдище по свету убивать добрых людей. Бореслав тоже раньше думал, так только в сказках бывает, в жизни не придется чудищ делать.
А вот пришлось.
Страшный он получился. Да он и был страшный на картинке-то. Бореслав же все по правилам делает, по картинке, вот как на картинке этот страшный нарисован был – ножки-спички, ручки-спички, глазища здоровые, говорят, у кого глаза большие, у того в душе черт сидит.
А он черт и есть, этот-то… вон он, сидит, глазами зыркает, смотрит. Уж сколько Бореслав детей малых пугал, на чердак не ходите, чудо-юдо там, и самого Бореслава в детстве пугали, а-а, по чердакам по темноте не шастай, там чудо-юдо прячется. Потом-то уже подрастут дети малые, поймут уже, что нет никакого чуда-юда, и не было никогда.
Нет.
И не было никогда.
А вот есть.
Сидит чудо-юдо, глазами большими смотрит. Страшное чудо-юдо.
Входит Бореслав, кланяется, говорит вежливо, как учили:
– Вечера тебе доброго, дорогой гость.
Гость кивает.
– С-спасибо. Большое… спасибо.
Вот так, даже не знает гость, как отвечать надо, и тебе вечера доброго, дорогой хозяин. Ну не человек гость, не человек, что ж делать-то.
– Угощайся, гость дорогой.
Гость дорогой наклоняется над корчагой, тут же выпрямляется.
– Но я… я есть не могу. Я же…
– Можешь, ешь давай, зря, что ли, тебе эти мокросхемы делал…
И то правда, зря, что ли, Бореслав этого по кусочкам собирал, зря, что ли, в кузнице ковал, зря, что ли, делал, чтобы гость зерно ел.
Пробует гость дорогой. Еще. Еще пробует.
Отодвигается от корчаги.
– Спасибо. Большое… спасибо.
Удивляется Бореслав.
– А это кому оставил?
Первый раз видит Бореслав, чтобы еду на тарелке оставили, где это видано – еду оставлять, как дед старый говорил – самую силу.
Гость дорогой проводит ладонью по горлу, показывает, что сыт. Да и то правда, гость-то – тонюсенький, как спичка, куда ему есть-то, некуда ему есть.
И все равно Бореслав головой качает, где это видано, еду оставлять, кто из меньших еду бы оставил, Бореслав бы ему за шиворот вывалил.
Оно и ясно, чужак в доме.
– А… где я нахожусь?
Это чужак спрашивает.
– В доме моем, гость дорогой.
Здесь бы гостю похвалить дом чужой, да хозяина поблагодарить, за кров, за хлеб, за соль. Только это человек благодарит, чужак благодарить не будет.
Так-то.
– А… кто я?
Удивляется Бореслав.
– Как кто, ты же…
И осекается Бореслав, сам толком не знает, кто такой в доме его.
– Ты… этот… чужой ты. Нездешний ты.
– Нездешний – а чей?
– Да чей… ничей ты… чужой, неприкаянный. Есть вот такие, рода своего не помнят, дома своего не помнят, памяти своей, и то не помнят, от них-то все беды и пошли, от них-то беда и нагрянет!
Сердится Бореслав, гневается Бореслав, ух, страшен в гневе Бореслав, как грохнет кулаком Бореслав, так труха с потолка летит, меньшие все по углам прячутся, и то правда, меньшие старшого бояться должны.
– Беда? От меня?
– От тебя, конечно, от кого ж еще-то. Ну и от этих еще, которые там, незнамо где… распродали все как есть, а работать кто будет?
Снова сердится Бореслав.
– А вы… кто?
Это чужой спрашивает. У которого и имени нет. Где у добрых людей имя, у него написано – Кэ-Мэ, что за имя такое, нешто это имя – Кэ-Мэ?
И близко не имя.
– А я твой враг злейший, – Бореслав говорит, – еще когда поклялся башку твою снести, душу твою темную вытрясти, да нет у тебя башки, да и души нет, вот незадача-то…
Пугается чужой, прячется за кадушками, чисто как крыса прячется.
– Не боись, не трону… добрый я. До трех раз прощают, а ты единожды провинился, когда род свой предал, и тело свое предал, не пойми, чем стал…
Ладно.
Негоже гостя дорогого ругать. Гостю дорогому нужно еды поднести, да дом показать, большой у Бореслава дом, знатный, крепкий, и семья у Бореслава большая, крепкая. Вот Бореслав, вот благоверная Бореслава, Рада, вот Световея очи потупила перед гостем, вот Ждан да Зван в воинов играют, славные будут воины, а вот и Колосвета портрет, нету Колосвета, зима лютая прибрала.
– Так его же можно воскресить.
Это гость дорогой говорит.
– Что говоришь такое, где это видано, чтобы мертвые воскресали.
– Но ведь мы можем… – гость припоминает, щелкает пальцами, – делали же как-то… отматывали время назад… копировали сознание…
Сердится Бореслав.
– И-и, ты мне это брось, сознание копировать, выдумал тоже!
– Но… почему?
– А по кочану, да по капусте, в жизни так не делали, деды наши, прадеды так не делали, где это видано, извращение какое, еще детей в свои извращения впутывать будешь…
– Вы не признаете прогресс?
Это гость.
– Какой прогресс, еще нам этой ереси не хватало, что вы там напридумывали… как деды наши жили, прадеды жили, с сотворения мира…
Гость думает чего-то себе на уме, глаза пустые. Говорит:
– Противоречите сами себе. Вы же созданы в результате генетической модификации.
Гневается Бореслав. Ох, гневается, это ж надо ж было такое про Бореслава сказать-то, а уж когда Бореслав гневается, тут только держись, все разбегаются. Вот и гость дорогой прочь из дому кинулся, и со двора прочь, чтоб духу его здесь не было, супостата окаянного.
А там и горожане этого безымянного увидели, переполошились. Шуточка ли дело, ни с того ни с сего вылезло чудо-юдо страшное, ручки-ножки как спички, глазищи вот такенные, вообще не пойми, что. Ребятишки бегут, камней понабрали в чудище-юдище бросать, тут и взрослые подоспели, кто уже и топор несет, кто и вилы…
А этот-то безымянный что?
А ничего.
А того. Ручонку-то свою тощую протянул, и…
И сердце у Бореслава захолонуло, вот жуть-то, так вот и зашибет кого силой нездешней, мало ли какие силы темные ему помогают.
А нет.
Не зашиб.
Вон чего сделал, вокруг себя треугольник очертил, и сидит себе, и камни до него не долетают, и вилами его не возьмешь.
А кто-то уже огня тащит, и хворосту тащат, да побольше, жечь супостата будут.
А тут Бореслав выходит. Уж на что мужики в городе крепкие, Бореслав покрепче мужиков будет, косая сажень в плече.
– А ну разойдись!
И сын соседский, которого Бореслав в женихи Световее своей выискал, на этого безымянного показывает:
– Ворог же… ворог.
И то правда, ворог, бить надо ворога, что ж делать-то…
Спохватывается Бореслав.
Орет.
– Гость это! Гость!
И то правда. Если в дом пришел, значит, гость, а гостя трогать нельзя.
Безымянный к дому идет, устраивается в прихожей, кивает:
– Спасибо… большое спасибо.
Вот так.
Спасибо – и все.
Не выдерживает Бореслав, говорит Бореслав, вот так, в лоб:
– Я ж тебе жизнь спас.
Спасибо. Большое спасибо.
Хочет Бореслав сказать, что спасибо в карман не положишь, да на хлеб не намажешь – не говорит. Не успевает. Чужой сам понимает, надо же, еще понимает что-то.
– Чем я могу отблагодарить вас?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































