Текст книги "Миленький ты мой"
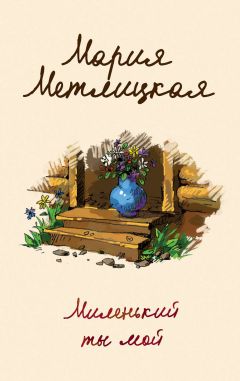
Автор книги: Мария Метлицкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Впрочем, память о ней всегда жила в моем сердце. Единственный человек, который любил меня. Единственный человек, кому я была нужна и кто обо мне заботился.
Недалеко от своего дома я притормозила – села на скамеечку, на завалинку, где раньше собирались на вечерние посиделки старухи, и закурила.
Курить я начала в училище – все девчонки смолили на переменах и в общаге. А позже Димка курить мне запретил: «Кого ты мне родишь, Лида? Уродца с заячьей губой?»
При Димке я не курила. А вот оставшись одна – да, бывало. Стыдно было… Ведь слово ему давала. Ну да ладно. Что говорить… Когда в душе чернота… Это немножко спасало. Или мне так казалось – не знаю. Но пачку сигарет я носила в сумке всегда. То детишки мои, ученички, доконают. То начальство разнервирует. То какая-нибудь мамашка поскандалит и кровушки напьется.
Я закурила и огляделась по сторонам. Начало июня, жарко. У палисадников облака сирени – белой, розовой, темно-сиреневой. А пахнет как!.. Детством моим. Раньше я любила начало лета, когда все просыпается, все оживает. По пыльной дороге летит тополиный пух – вьется, кружится, клубится, где-то сбивается в кучки и издали походит на снег.
Жужжит толстый шмель, пристраиваясь на бледно-розовую, ломкую кисть иван-чая.
Тишина и благодать. Вспоминаю, как уходила в жару на сеновал – подремать. Как бы готовиться к школьным экзаменам. Наберу с собой учебников, сушек похрустеть и кружку домашнего кваса – белого, кислого, мутного. У бабы он получался отменно. У нее даже в схоронках хранился древний, засохший изюм – она бросала его в бидон с квасом. Сморщенный, почти черный и мелкий изюм в квасе разбухал, увеличивался в несколько раз, становился гладким и налитым. Я любила вылавливать его пальцами и сосать, как конфету.
На сеновале было душно. В узенькое оконце пробивались солнечные лучи, и многолетняя пыль кружилась на солнце, как крошечные, сказочные балерины в медленном танце.
Учить параграфы было неохота. Я потихоньку отхлебывала из алюминиевой помятой кружки квас и закрывала глаза.
О чем я мечтала? Об этом я не сказала бы никому. Даже бабе. Это было только мое, сокровенное. Самое главное и стыдное.
Я мечтала о… маме. Нет, не о Полине Сергеевне! Она и это чудесное слово никогда не вставали рядом. Я придумала себе ужасно дурацкую и нелепую историю. И в ней Полина Сергеевна не была моей матерью. Моей настоящей, кровной матерью была… Совсем другая женщина.
Двоюродная сестра Полины Сергеевны – Аня, Анюта.
Анино фото (в отличие от фотографии Полины Сергеевны) висело у нас на стене. Аня была дочерью бабиного брата Ивана, погибшего в сорок четвертом. Бабиного любимого младшего брата.
Анечка была красавицей – высокой, тоненькой, синеглазой. С длинной, до пояса, пшеничной косой. Аня была смешливой. Певуньей была. Аню обожали все деревенские – бабы, старики, дети.
Но была она сердечницей – баба рассказывала, что иногда Анечка бледнела, опухала и даже падала в обморок. Лечиться она не хотела. «Сколько дадено, столько и проживу!» – говорила она.
Замуж не собиралась – кому нужна больная жена? Потратит жених деньги на свадьбу и… Через полгода я окочурюсь? И детей мне рожать нельзя – все ж это знают!
Все знали, а все равно к Анечке сватались. А она всем отказывала.
Однажды баба сказала, что короткий роман у Анечки все-таки был. С каким-то партийным начальником. Приехал тот с проверкой или с комиссией и влюбился в нашу девочку не на шутку.
Любились они – так говорила баба – всего-то пару недель. Важный начальник задержался в инспекциях по близлежащим селам и каждый вечер возвращался к зазнобе. А потом уехал – звали дела и семья. Семье его, кстати, незамедлительно капнули, и оскорбленная женушка раздула страшный скандал, объявив, что шлюху эту со света сживет.
Начальник, в глубокой печали и тревоге за любимую, поехал к ней и посоветовал уехать подальше – хотя бы на время.
Анечка уезжать отказывалась, мотала головой и говорила, что ревнивой жены не боится.
И тогда, видя, что этим ее не проймешь, начальник соврал: дескать, а давай убежим вместе? Ну, сначала уедешь ты, а потом подъеду и я. Как в песне поется: «И чтоб никто не догадался…»
Наивная Аня поверила. От счастья заплакала хрустальными и чистыми слезами и дала возлюбленному согласие.
И еще – ну, раз уж так вышло! – призналась ему в своей беременности.
Тот совсем было пал духом, но Анечка не расстроилась – все складывалось на редкость удачно.
Быстро собравшись, через пару дней она уехала. Денег он ей дал и договорились, что как только сможет – главное, кстати, не семья, а парторганизация! – он сразу же телеграфирует ей на главпочтамт городка К., выбранного ими для счастливого проживания. Ну и наступит их счастье.
Дальше все было странно: начальник так и не развелся, никуда не уехал и жил себе прежней, знакомой и размеренной жизнью.
А девочка наша просто пропала: что с ней случилось – никто не узнал. Ни ответа, ни привета. Уехал человек и пропал навсегда. Вот как бывает…
И в розыск подавали, и к начальнику в город ездили. Но он ходоков не принял – дескать, дел много. А когда его подкараулили на улице, у блестящей черной машины, он отшатнулся как от прокаженного больного и прошептал белыми губами: какая Анна Ивановна? Не знаю такой!
Вот я и придумала себе историю: дескать, я – дочка Анечки и того партийного босса. Родила меня Анечка и тайком привезла в родную деревню. Почему? Да понятно: как поднять одной ребеночка? Да еще и в незнакомом месте! А ехать домой было стыдно – позор все-таки. Позор и обман.
Так вот, привезла меня мамочка бабе Мане и – в путь. Потому что там, в Сибири, у нее сложилась большая карьера – стала наша Анечка… Например, главврачом!
Тут я вздыхала. Потому что хотелось мне придумать самую важную для Анечки должность. Да вот понимала я в этом не много.
А сестра Полина замужем и бездетная. Вот и записали ребеночка на нее – с ее же согласия.
От этих мыслей мне становилось так хорошо и счастливо, что я засыпала.
И не понимала я, что этими своими фантазиями я… Подспудно пытаюсь оправдать Полину Сергеевну – дескать, не кровная дочь, и тогда ее нелюбовь всем понятна.
Так мне было определенно легче.
А что стало с Анечкой – мы так и не узнали. Жива ли она? Наверное, нет…
Наконец я подхожу к своему дому. Калитка раскрыта и болтается на нижней петле. Я машинально приподнимаю ее и надеваю на верхнюю петлю.
Дверь в сени тоже открыта. Я захожу. В сенях стоят черные резиновые сапоги с комьями налипшей глины. Баба учила меня мыть сапоги сразу – пока грязь не превратится в цемент. Глина у нас в деревне злая, застынет – молотком не отобьешь.
Я открываю дверь в комнату и слышу, как громко работает радио. Оттуда несутся дикие звуки безумного рэпа – как колотушкой по голове: бум! бум! бум!..
Я зажмуриваюсь и вхожу. Окна раскрыты и под потолком вьется стайка мелких назойливых мушек.
Баба Маня всегда с ними боролась – вешала клейкую ленту, ставила ловушки с сахарной водой.
Полина Сергеевна лежит на бабином диванчике и храпит.
На ней бабина ночная рубашка – голубая, в синих букетиках.
Возле диванчика ссаное ведро – полное наполовину. Естественно, запах.
Я хватаю ведро и тащу его на крыльцо.
Когда возвращаюсь, она уже сидит на диване и хлопает глазами.
– Ой! – удивляется она. – Ты приехала, Лидочка?
Я не отвечаю – злюсь.
– Чего ссанье не выносишь? Не задохнулась еще?
Она всхлипывает и оправдывается. Бормочет, что нету сил.
– Иногда заходит соседка, Нина Разводова, приносит молоко и хлеб и заодно выносит горшок.
Я молчу и разбираю рюкзак – хлопаю на стол печенье, вафли, рассыпной чай, пару банок с консервами, пакетик соевых батончиков и мороженую треску – все, что мне удалось достать перед выходными. С продуктами тогда было плохо.
– Есть будешь? – спрашиваю я.
Она отказывается:
– Нет, дочура. Совсем нет аппетита. Пью только молоко.
Меня заливает жаром. Точнее, обдает кипятком. Ошпаривает всю – с пяток до корней волос – от слова «дочура». Его я слышу, по-моему, впервые. Впервые в жизни! Впервые за свои двадцать с небольшим лет.
«Дочура»… Я не могу двинуться, не могу обернуться, посмотреть на нее.
Я застыла, как жена Лота. Окаменела.
Баба Маня звала меня «доча». Но это было совсем другое.
Дочернее чувство – броситься к ней, обнять ее и пожалеть, слиться с ней телом, почувствовать ее худые плечи, тонкие руки, услышать ее запах – всего этого у меня не было. Не промелькнуло даже секундой, мгновением – нет.
А что было? Да ничего! Оторопь моя через пару минут прошла, я «расколдовалась», отмерла, кровь отступила от моего лица и я… Вернулась к себе.
– А чего одно молоко хлестать? – грубо бросила я. – Поешь вот… – я задумалась. – Рыбу, хочешь, сварю?
Мотает головой:
– Нет, Лидка. Не лезет. Вот чаю, может быть?.. Только нету его. Кончился чай.
Я громко вздыхаю, ставлю чайник и завариваю крепкий чай. Чай плохой, пахнет прелой соломой, а цвета густого, темно-коричневого, словно обещает терпкий вкус. Но он и на вкус трава травой. Эх, достать бы индийского, «Три слона»! Вот это чай, а не мура какая-то…
На блюдце кладу лимон, нарезанный дольками, вафли, печенье.
Полина, заметив мои приготовления, оживает и присаживается. Вижу, что дается ей это с трудом. Но помочь не спешу. Делаю вид, что не замечаю.
Наконец, усаживается и отхлебывает из чашки.
– Ох, как вкусно, Лидок! Сто лет не пила!..
– Печенье ешь, – строго говорю я.
Она пугается и поспешно кивает. Хватает печеньку и размачивает ее в кружке. Печенька распадается и тонет в стакане.
Полина пытается выловить ее и с опаской поглядывает в мою сторону.
Я молча протягиваю чайную ложку.
После чая я вывожу ее на улицу – точнее, почти выношу. Она болтается на моей спине, обхватив шею руками.
Несу ее как полупустой мешок.
Усаживаю на стул под рябиной.
Рябину баба Маня хотела спилить – у нее, женщины деревенской, пережившей и голод, и холод, отношение к природе было потребительское: расти должно только то, что приносит пользу. От чего есть толк. Что можно съесть или использовать.
Рябинка росла вместе со мной. Из ее зеленых ягод я варила кукольные супы. Из красных и спелых я мечтала сварить варенье. Баба Маня не давала: вот еще! Сахар переводить на это говно!
– А вдруг будет вкусно? – канючила я. – Вдруг не горько будет?
Ну и достала я ее, и баба моя в сердцах плюнула:
– Ну и вари, дура упрямая!
И швырнула мне пакетик с сахаром.
Сахара там было с полкило. А сколько нужно ягод? Я не знала. А вдруг сделаю что-то не так и варенье испорчу? А если нет – докажу бабе, кто упрямый баран, а кто нет!
И побежала я к соседке, бабе Паше. Спросить, сколько класть сахара в варенье.
Баба Паша, полуглухая и полуслепая, ни черта не поняла:
– Да сыпь весь, Лидка! – сказала она. – Чем слаще, тем вкуснее будет!
Ну и бросила я ягоды в кастрюльку, бухнула туда сахар и налила воды – так всегда делала бабушка.
Баба Маня в процесс не вмешивалась – даже не подошла.
Закипело мое варенье, помешала я его, сняла пену – так тоже делала баба – и, подув на ложку, осторожно лизнула.
Какая же это была горечь! Просто непереносимая, отвратительная и мерзкая горечь! Отрава!
Я увидела в окно, что баба возится в огороде. Быстро вылила «варенье» в туалет за домом и, бросив кастрюлю в крапиву у забора, побежала на улицу.
Вечером сели пить чай. Баба Маня – ни слова.
Пошарила в буфете, поохала, вытащила старые сухари и обернулась на меня:
– Ой, доча! А где же варенье? Ну, давай на стол! На сухари покладем и все веселее!
Глаза хитрые и веселые, что редко бывало.
– А нету его, – беспечно отвечаю я и отвожу глаза.
– Невкусно получилось? – притворно охает баба.
– Вкусно, – пожимаю я плечами, – только я его… – тут я задумываюсь – Мишке Котенкову снесла! На угощенье!
– Бедный Мишка… – качала головой моя баба. – Ох, выжил бы только!
Я чай допила и собралась спать.
А баба строго сказала мне вслед:
– Завтра кастрюлю отмой! Слышь, Лидка? Достань из травы и отмой!
Но все-таки рябинку свою я отстояла. По осени любила смотреть в окно на красные гроздья. И ставила ветки с ягодами в вазу на стол. Была у нас одна вазочка – синего стекла. Баба говорила, что папаша мой Полине Сергеевне на день рождения подарил.
* * *
Полина Сергеевна сидела на стуле и плакала:
– Как на улице-то хорошо! А в избе душно…
– Ага, – сквозь зубы шиплю, – ты б еще полгода ведро не выносила и постель не меняла!
Она молчит. Глаза закрыла, голову свесила – дремлет.
Ну а я в дом. Убралась, полы перемыла, мебель перетерла. Постельное ей поменяла. Нагрела воды и вымыла ее прямо в тазу – до бани она не дойдет. Да и какая баня – ее ж надо топить.
Ну вроде все? Дела переделаны. Можно ехать домой?
В кровати на чистом белье она снова тут же уснула. Но мне показалось, что выглядела она получше – порозовела, слегка обветрилась. Посвежела. Уснула с улыбкой.
Я вышла на улицу и задумалась: уезжаю, обязательства выполнила. В смысле, Димкину просьбу. Ну, не просьбу – наставление. Сказано – сделано. Все чин чинарем. А на душе у меня было погано… Отвратительно было, по правде сказать. Остаться? Да что значит остаться? Остаться на сколько? Навсегда? На следующий день? А что он изменит? Нет, Лида! Езжай-ка ты домой! К родному мужу. К своей семье. А Полина Сергеевна, твоя, так сказать, мамаша, пусть уж как-нибудь! Сама. Сама строила свою жизнь, сама ею распоряжалась. И вот сейчас распорядись! А то как-то… Нечестно. Жила как хотела и плевала на всех. А сейчас ждешь любви и ухода? Сочувствия ждешь? Ээ-э, нет! Не выйдет ничего у тебя, дорогая Полина Сергеевна! Мало ты мою жизнь покорежила? Добавить хочешь? Не выйдет! Я только сейчас человеком себя почувствовала. А не загнанной, полудохлой крысой, брошенной мамкой родной. И поломать тебе мою жизнь я не позволю, слышишь?
Заболела? Ну что ж, бывает. До больнички могу довести. А там уж – как знаешь! Как выйдет, Полина Сергеевна! Все в Божьих десницах!
Как распорядится – не обессудь – и особенно хорошего не жди.
Не заслужила.
Димка ждал моего отчета – смотрел пристально и внимательно. А я медленно разделась, сделала себе бутерброд и налила чаю.
Молчу. И он молчит. А я баба вредная, все время тяну. И он не выдержал:
– Как там мама твоя?
– Кто? – переспросила я. – Аааа! В смысле, Полина Сергеевна?
И широко зевнула.
– Да ничего. Болеет…
И пошла разбирать диван.
– И? – спросил муж. – А подробности? Что там и как?
Я обернулась:
– Какие подробности, Дим? Ну, отвезла продукты. Поменяла постельное. Выкупала ее. Прибралась в доме – грязь такая была!.. – Я снова зевнула, демонстрируя свое равнодушие. – Да! Погулять ее вывела, под рябинку, в сад.
Я сняла халат, нижнее белье и легла. Спала я с краю. Димка у стенки. Обычно он ложился позднее меня – был он любителем посидеть допоздна, почаевничать и почитать газетку.
А тут разделся, лег на свое место у стенки и отвернулся.
Не спит. А я уже стала проваливаться. И тут слышу:
– Лида! А как там она… ну, вообще? В смысле – чувствует себя, выглядит? И что делать дальше, а, Лид?
Я резко обернулась к нему:
– Как чувствует себя? Как выглядит? Да паршиво чувствует и отвратительно выглядит! Болеет она, Дима! Тяжелая болезнь у нее. Рак, понимаешь? А раком легко не болеют. А что дальше, Дим? В каком смысле? Прости, не поняла! Ну, буду ездить раз в неделю. Мыть ее, прибираться. Пожрать привезу.
– Лида! – Он сел на кровати. – Ты что говоришь, Лида? Какое «раз в неделю»? Какое «прибраться и пожрать привезти»? Человек ведь смертельно болен! И сколько ей осталось? С таким-то диагнозом! А ты – «раз в неделю»! Странно все это слышать, Лида.
Дима громко вздохнул и встал с кровати. Открыл форточку, чиркнула спичка и зажегся огонек сигареты.
Димка давно не курил – только в момент сильного душевного волнения.
Я подошла к нему, забрала сигарету и выкинула в окно.
Потом посмотрела в глаза:
– Димочка, миленький! Что же такое выходит? Мы с тобой и из-за… этой? Цапаться будем? Ссориться? Ругаться и не разговаривать? Ты что, мой хороший? Она ведь… – тут я замолчала. – Она ведь, Дим… Мне всю жизнь исковеркала. Детство все… сирота при живой матери, а? Я же все годы златые проплакала! Ждала ее как. Скучала. На дорогу бегала, автобусы караулила. А она… Да ты же все знаешь! И теперь, после всего этого, ты предлагаешь мне?..
Я не договорила – Дима меня перебил:
– Что я тебе предлагаю? Что-то невозможное? Отказаться от чего-то важного, главного? Поступиться принципами? Я предлагаю тебе сделать человеческими последние дни твоей матери! Все! Вынести за ней горшок, поднести чашку с чаем, почистить яблоко. Поменять мокрую простыню. Дать лекарство. Это много, Лида? Ты мне ответь! Ведь помогают даже чужим, малознакомым людям! А тут – твоя мать! Я вот не пойму, уж ты извини, что это у тебя? Бездушие такое, черствость или жестокость? Странная ты женщина, Лида!.. Вот живу с тобой и никак тебя не пойму: какая ты? Хорошая или?..
Я отпрянула от него и усмехнулась:
– Жестокость и бездушие? Черствость, говоришь? Все правильно, Дима! Только ты еще добавь обиду, злость и тоску мою вечную! Стыд перед всеми – мать ускакала и нас бросила, как щенков беспородных, в канаву. Злая, говоришь? А если и так? Что ты, теперь бросишь меня?
– А жалость, Лида? Что, нет совсем? Даже на донышке?
Я мотнула головой:
– Нету, Дим. Вот совсем нет! Что, удивлен?
Он долго молчал. А потом ответил хриплым голосом:
– Удивлен, говоришь? Ну да. И это тоже. Но… Больше всего меня пугает то… что мне с тобой страшно, Лида!
С того самого дня отношения наши совсем разладились. Димка перестал смотреть мне в глаза. Перестал есть дома. Приходил поздно. А по выходным брал рюкзак и уходил. Куда? Я не знала. Но и не спрашивала – гордая ведь.
А на сердце было погано. Паршиво было в душе. Очень страдала я, очень. Господи, если Димка уйдет от меня! Я жить не буду…
Постепенно гордыня моя успокоилась, и я включила мозги. Нееет, мои дорогие! Просто так Димку я вам не отдам – в смысле вам, обстоятельствам.
Надо быть умной, Лида, – говорила я себе – умной и мудрой. Молодых женщин и девчонок полно. А хороших мужчин – маловато. А мне ведь так повезло! Димка мой – непьющий, не хам. С мужиками во дворе козла не забивает. По воскресеньям в подворотне не пьет. Зарплату – домой. Рубля не возьмет. И вот такого мужика я из-за своей гордыни? Откажусь от него? Да никогда и ни за что!
И я поменяла тактику. Вечером Димка увидел, что я варю диетический суп и леплю фрикадельки. Варю киселек.
Удивился:
– В деревню собралась?
Я молча кивнула.
– Когда? – смущенно уточнил он.
– Да в воскресенье, – ответила я, – а завтра в поликлинику зайду, поговорю с врачом. Может, чего посоветует.
Димка удивленно хмыкнул. И вдруг спросил:
– А если я с тобой, Лида? Ну, тоже поеду? И сумки помогу довести, и… Ну и вообще…
– Пожалуйста, – пожала я плечами, – только я думала, что у тебя есть дела поважнее…
Стервозный у меня язык все-таки! Не удержалась, чтоб муженька не подколоть!
В воскресенье мы поехали в деревню. Честно говоря, я очень нервничала: а вдруг там чего? Ну, померла Полина Сергеевна или еще чего-нибудь? И Димка обвинит во всем меня.
Но там все было так же: Полина Сергеевна дремала, ведро стояло полупустое, и банка с молоком была немного отпита.
Но, видимо, и эта картина произвела на впечатлительного Димку неизгладимое…
– Как же так, Лида? – бормотал он, бестолково мотаясь по избе. – Как же так можно? С живым человеком?
Я стискивала зубы, чтобы не ответить: «Как же так можно, говоришь? Да еще и с живым человеком? А я?! А я мертвая тогда была, что ли? Когда она меня бросила?.. Соседи заходят, так есть она все равно не желает. На белье лежит чистом. Какие проблемы?»
Смолчала. Перестелили мы заново постель, вынесли на двор прокисший матрас. Вымыли Полину Сергеевну в корыте, накормили и напоили.
Она была такая счастливая, что мне стало смешно! Радовалась как малый ребенок.
Вот ведь пробило! Плачет от счастья, и Димку за руки хватает:
– Спасибо, сыночек! Спасибо, зятек!
Вот ведь лиса! И доченькой обзавелась, и сыночек на старости лет появился. Что и говорить – повезло.
Уложили мы ее, и я на часы поглядываю – скоро последний автобус.
А Димка мой сердобольный сел у кроватки – прощается:
– Во вторник врача привезем, Полина Сергеевна! Из областного центра. Лида записалась. Ну и мы соответственно подъедем – не волнуйтесь вы так!
Она счастливо закивала и заулыбалась.
А муж продолжает:
– Ну и как доктор определит – так и будет. Может, в больницу. А может… – он замолчал, – вы к нам или мы к вам. В смысле… Переберемся.
Я замерла. И вижу, что Полина Сергеевна тоже офонарела – шепчет что-то, ничего не поймешь.
Вышли мы на двор, и Димка спросил:
– А где эта соседка, что молоко ей приносит?
Я кивнула:
– Вон, второй дом…
– Давай зайдем, – говорит.
Я – ни слова. Никакого любопытства: тихая и покорная жена. Хочет – пусть берет на себя. Только вот… про врача-то я согласна. А вот про «вы к нам» или «мы к вам»…
Но пока держусь, ни вопроса.
Соседке Дима просто дал денег – за молоко и за ведро, чтоб выносила в наше отсутствие.
– А скоро все разрешится, – оптимистично добавил он, – с нашей мамой то есть…
При этих словах я только вздрогнула – поняла: не шутит он.
Соседка была счастлива! То носила бесплатно, а сейчас денежка прицепилась.
Пообещала, что заходить будет два раза на дню.
Димка облегченно выдохнул и бодро зашагал к остановке.
Чувства у меня были странные. С одной стороны, я восхищалась своим мужем и гордилась им. А с другой… Меня раздражала его опека, его старания, его активность. Словно сделано все это было назло мне: «Вот, дескать, я – чужой человек, а ты – родная дочь!»
И вообще, меня раздражало все: и что он сообразил сговориться с соседкой. И что настоял на приезде врача. И что получалось у него все легко, уверенно, правильно и справедливо. А у меня…
И снова я стала на его фоне нехорошей – равнодушной, жестокосердной, упрямой.
Домой мы приехали поздно и тут же улеглись спать.
А чтобы подбавить свою ложку дегтя, я объявила Димке, что во вторник ехать в деревню я не смогу – экзамены. И я сижу в приемной комиссии.
– Я съезжу! – коротко бросил муж.
Ну, я и заткнулась.
Не было никаких укоров и попреков типа: «Лида, это же твоя мать!»
Во вторник Дима поехал с врачом. Приехал поздно, уже начались вечерние новости по телевизору.
Сел ужинать и был оживлен:
– Лида! Все не так плохо! Врач дал лекарство и сказал, что мама еще поживет! А все ее уже похоронили…
Я молчала. Что мне теперь, от счастья запрыгать? Да кто в это поверит, в мою счастливую радость?
Глотнув чаю, Димка посмотрел на меня и вдруг произнес:
– Лидунь! А может быть… мы – в деревню?
Я так и плюхнулась на табуретку:
– Что ты сказал? Не поняла!
Димка был очень смущен. Но затараторил бодро:
– В деревню, говорю! Полине Сергеевне нужен присмотр – это понятно. Везти ее к нам, сюда, – полная глупость! И теснота, и без воздуха. И что остается? Вернуться нам, Лида! Я все узнал: на работу меня возьмут – ветеринаром, в совхоз. Тебя тоже в школу возьмут. Красота! Дом подлатаем, подкрасим. Забор поправим. В саду наведем порядок. И мама будет при нас. А, Лидунь?.. Какое там раздолье, Лида! Какая же красота! И места полно, и природа. И огород разведем. И живность какую-нибудь!..
Как же мне хотелось бросить ему в лицо: «Идиот! Ты что придумал, придурок? На волю тебе захотелось? Животинку развести? Картошечку свою, помидорчики? Да я этим всю жизнь занималась и каждую минуту ждала, когда это кончится. Как же я ненавидела этот тяжелый, грязный и нескончаемый труд. Как я ненавидела размокшие дороги, коровье дерьмо под ногами. Холодный сортир, тусклый свет. Вечные резиновые сапоги и телогрейки… Я только и выжила потому, что точно знала – уеду! И ничто меня не остановит. А теперь… теперь меня тянет туда она… Тянет и не отпускает… С соседкой же сговорились? Она не откажется – она за любую копейку удавится. Ну и чего еще надо? Врача привезли, таблетки прописали. Пусть живет, сколько отпущено. Смерти я ей не желаю. Но и свою жизнь гробить возле нее не собираюсь – уж извини!»
Только я рот хотела открыть, как он, глядя мне нежно в глаза, говорит:
– Я знаю, Лидунь! Человек ты хороший! А что иголки, как ежик, выбрасываешь – так это от боли. И жизнь наша с тобой – одна на двоих!
– Да, Дима! – тихо сказала я. – Все это – чистая правда!
Через две недели я уволилась. Вслед за мной уволился Димка. Квартиру мы сдали, вещи собрали и… Поехали в деревню. Устраивать новую жизнь.
Только чувство у меня было такое, что ничего хорошего из этого не получится…
Просто абсолютная уверенность была. Ехала я как на казнь.
И статус хорошей дочери и верной жены меня не грел совершенно.
Просто я очень боялась потерять своего Димку…
Обустроились мы кое-как и начали жить. Настроение мое было хуже некуда. Полину Сергеевну я выносила с трудом. А как вы хотели? Детские мои обиды и комплексы, слезы мои, выплаканные и не выплаканные, – все это набухало во мне, росло и расцветало пышным кустом. Меня трясло от ее голоса, от ее кряхтенья, бесконечных «спасибо, доченька». От ее слез – конечно, неискренних, лживых. «Вот ведь устроилась, – думала я. – Вот ведь свезло!»
Глупо, конечно, так говорить о тяжелом больном, но – факт. Жизнь свою прожила как хотела. За матерью не следила, дитя не растила. Жила в городе, в красивой и светлой квартире, на всем готовом. Думать ни о чем не надо: ни о еде, ни об одежде. А что в прислугах жизнь провела – так это ж ее личный выбор. Лакейская натура ее. Пустая душа – променять родных на какую-то фифу и быть ей верным Санчо Пансой и Леппореллой, Фирсом и Фигаро.
Мать, муж, дочь… Отчий дом, родные могилы – всех зачеркнула Полина Сергеевна, всех предала.
Я давно уже не верила в общую справедливость: жизнь – лучший учитель! А что получается здесь? Плевал человек на свою родню, а помирать притащился в родное гнездо. И самое смешное – опять можно расслабиться. И пожрать принесут, и попить. И белье постирают, и лекарство доставят…
И где наказание? Где кара небесная? Где?
Так думала я тогда. Впрочем, и сейчас я думаю почти так же. Почти! Потому что я все же не зверь, а человек. В отличие от моей драгоценной мамаши.
Но самое удивительное – это их отношения с Димкой. После работы – а это вам не ветеринарная клиника, а тяжеленная и «пыльная» работа сельского ветеринара, ведь тогда в совхозе было еще довольно приличное поголовье скота – любимый зятек заходил к тещеньке, на ее «половину». Точнее – в ее комнатуху.
Заходил ненадолго – справедливости ради. Так, справиться о драгоценном здоровьечке. И, как мне казалось, проконтролировать: все ли в порядке, все ли я делаю так?
А как она ему радовалась!.. Димулька пришел! Лучший друг.
А я снова злобилась и фыркала на кухоньке.
Но лицо держала и «делала вид».
И вот чудеса! Полине Сергеевне – болезной нашей – стало лучшать!
Прямо на глазах расцветала Полина Сергеевна.
В октябре, очень теплом, сухом и красивом, стала она выходить на двор – самостоятельно. Пройдет пару шажков, присядет. Потом доползет до лавочки, что за калиткой. Там баба Маня любила семечки пощелкать и на народ посмотреть.
Сядет, глазки прикроет и – солнышком греется. Улыбочка такая сладенькая на лице… Ну чистый ангел!
И собеседники начинали подтягиваться – местные бабки. Как же, им же все интересно! «Как твоя Лидка к тебе? А зятек? Чем кормят, не жалеют ли чего?»
Все вынюхивают, выведывают, выспрашивают. Так было на деревне всегда – от своих, деревенских, ничего не утаишь. Специфика сельской жизни, от которой, кстати, меня всегда воротило.
Полина Сергеевна начинает хвалиться: «Ой, дочка у меня золотая! А зять? Тоже чистое золото! И кормят меня на убой, и постель раз в неделю меняют. И сорочку ночную свежую. И лекарство из города Лида привозит. И тапочки теплые мне купила…»
Ну и так далее, с остановками и подробностями.
Я слушаю и усмехаюсь: да уж, неплохо устроилась. Да попробовала бы ты хоть дурное слово сказать!
А бабы наши деревенские кивают, поддакивают, головами качают – удивляются. «Ох, Полька! Вот ведь тебе повезло! И с дочкой, и с зятем!»
Думаю: «Да уж! Ей точно больше, чем нам».
Мне казалось, что Димка тогда был жизнью доволен. Работа в совхозе ему нравилась, хоть была она тяжелой и грязной. Еще мой «борец за справедливость» сцепился с главным ветеринаром области и начал войну. Он, мой Димка, конечно, был прав.
Но… Бороться с ветряными мельницами – на мой взгляд, глупое дело. А он так включился в борьбу, так увлекся… Пару раз его попробовали пугануть и поставить на место. Смешные люди? Кого? Моего Димку? Который – наивный дурак – верил в человеческую порядочность, честность и здравый ум?
«Ну, ничего, – думала я, – и тебя, мой миленький, пообломают!»
Делился своими подвигами с тещей. А та все выносила на лавку и давай трепать языком. Зятем красивым и умным все не нахвалится. Я ее, конечно, прижучила. Она испугалась и три дня за калитку не выходила.
Иногда я слышала их смех и шепот – Димкин и Полины Сергеевны. Удивлялась и обижалась.
А однажды не выдержала и задала мужу вопрос:
– Тебе что, Дим, не с кем посоветоваться? Некому про свои проблемы рассказать? У тебя жены нет? Идешь к… этой и… Как ты думаешь: мне это должно понравиться?
Димка совсем не смутился:
– А что тут такого, Лид? Я же ее… ну, развлекаю! Лежит человек колодой весь день. И как ему? И ничего в жизни нет, понимаешь? Никаких событий и новостей – только наша с тобой жизнь и все! У тебя – школа, ученики, коллеги. У меня – совхоз и скотина. Да и потом, мне иногда кажется, что ты не хочешь ни о чем говорить… Я не прав, Лидуня? А тещу мне жалко – она же чувствует, как ты к ней… И плачет. А для меня она… нет, не мать, конечно. А пожилой и больной человек. И еще – твоя мать. Моя родственница. Женщина, которая родила мне мою любимую жену. Ну и ввожу я ее в нашу жизнь, чтобы не чувствовала себя обузой.
После этих слов я разревелась. И еще подумала: какая ж я дура, что ревную Димку к Полине Сергеевне? Да что мне жалко, чтобы он поболтал с ней пятнадцать минут? Да ради семейного счастья, ради спокойствия?
И я успокоилась. Но до поры! Потому что раньше у нас с Димкой были спокойные семейные ужины. Долгие беседы перед сном. А сейчас…
Полина Сергеевна присоединилась! Ну каково?
Просто однажды выползла, как мышка из норки – тихенькая, скромненькая, глазками в пол и полушепотом: деточки, а можно с вами? Чайку…
Я остолбенела. Смотрю на нее и дар речи утерян. От наглости ее и напора. Сиротку корчит!
А Димка… Святая душа! «Да, разумеется, мама! Присаживайся и приступай! Что тебе положить? Картошечки, рыбки? А огурчик свежий? А уж потом и чайку!»
Полина Сергеевна обрадовалась, глазки вспыхнули и кивает.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































