Читать книгу "Старый мир. Починка жизни"
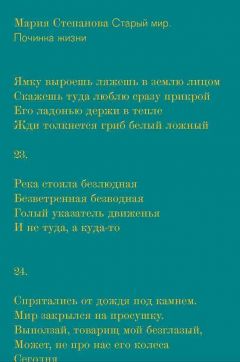
Автор книги: Мария Степанова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мария Степанова
Старый мир. Починка жизни
Тело возвращается
Z
Комнату надо очистить / пространство надо прибрать
Y
Так говорит поэзия, живущая в Канаде, в женском
теле, по-английски
Так она говорит: once cleared the room writes itself
X
Что делать дальше,
Комната вычищена до блеска,
Прибрана до кости, до костного мозга, должна
написать себя, никто никому не пишет
W
Где они, где мужчины, подобные Арею,
Поднимавшие стропила, не вмещавшиеся во врата,
Где их костный мозг, сладостные конечности, где их
зубы и языки,
На какие элементы они разложились
V
Глубоко под землей, в ее огородной клетке
Клетки продолжают делать новые клетки
Исходят яблочной пеной, когда земля собирает свой
урожай
Подземными реками шарят в поисках устья
То, что было семенем, пробует себя семенами
U
Вечную мерзлоту обдает весна,
Как струя горячей мочи
Плавит лед,
Подо льдом будоражит буквы, желтые и зеленые,
И вот, когда слепошарые ветки водят по свету,
Поэзия, говорившая по-датски, лежащая под землей,
женская.
T
Мертвая, как многие, почему-то живая,
Карамелькой она плавится за холодной щекой
глинозёма,
И прав у нее не больше, чем у тех, кто лежит под
другим кустом,
Кто все, что помнит, – это свое отраженье
В плоском лице медной военной фляги.
Слух истек,
Им нечего больше слышать.
S
Там, где было ухо, теперь земля,
Обнимающая место не-слуха.
Там, где было рот, теперь усилье корней
Стать истоком роста.
Мертвая поэзия говорит, она говорит:
«Я пишу, как ветер».
Она/они/другие они/многие до и после
Лежат, ветра там нет, что там есть, почему им ветер.
R
Разрой мерзлую землю, потрогай мертвую песню.
«Под низким небом», – говорит еще одна,
Жившая в той же Канаде, лежащая в чьей-то земле, —
С сентября 1922 года зерно ее тела
Принесло, наверное, много плода: «Под низким небом
Я видела тысячу марширующих Иисусов».
Что они делали, спрашиваем мы, стоящие на обочине.
Они маршировали. Они пели.
Q
Зимой 1918 года в Петрограде
Поэзия перестает слышать что-нибудь кроме
Постоянного шума:
Ритмического нарастающего гула,
И если выглянуть в окошко
(поля продлеваются, в них лежат и лежат и лежат,
затылки запрокинуты,
языки застыли)
Мы увидим, метель, как тюлевая занавеска,
Делает знак: в комнате стало достаточно чисто.
P
И тогда,
И когда приноравливаешься к отсутствию цвета,
И к пиксельному мельканию вещества,
И к ружейным выстрелам, доносящимся
с перекрестков,
Где до событий торговали газетами,
И каждый пятый цветок отдавали бесплатно,
Смазывая товарно-денежные отношения
Молоком человеческой нежности,
Еще не имевшим цвета,
Приглядевшись, мужчина с его поэзией видят ясно:
Здесь присутствует Кто.
O
Как если бы ветер (я пишу, как ветер)
Отрицал человеческое участие
Как если бы комната была выскоблена до кости:
И что осталось после зачистки?
Как если бы ухо мира,
Его огромная воронка, описанная по-русски в 1837-м,
По смерти Пушкина, написано непушкиным,
Ловило и передавало одно и то же.
Вот Блок и говорит, как Матушка Гусыня,
Что в белом венчике из роз впереди Исус Христос.
Так и было.
Но кто поверит гусям.
N
Лежат, расстрелянные, в оврагах, полных звезд
и черемухи
Лежат в болотах, подобные стеблям, подобные рыбам
в консервных банках
Лежат под берегами, под озерами, под автобанами,
Под пастбищами для коров свободного выпаса,
Под ногами овец, охотно дичающих,
Умеющих быть без участия человека
Лежат под многоярусными парковками,
Под взлетными полосами аэропортов,
Где тонкий лед сцепляет пальцы травы
Где синие огни расставлены разумно
Где мощные вещи летают без наших рук
Где мое тело, говорит средний слой земли,
Ее средний класс: мертвый, не успевший родиться.
M
Я сказал, говорит поэзия, и знает, что говорит:
Я сказал – вы боги, и сыны Всевышнего все вы,
Вы же падаете, как дураки,
Как обычные князья и полководцы
(политики и аристократы,
а также представители крупной буржуазии),
Как обычные смертные люди,
Словно нету ничего проще
Паденья и развоплощенья.
Вы все время умираете,
Словно это нормальное дело.
Не пора ли взять себя в руки?
Не сделать ли усилие,
Говорит поэзия из-под земли, дыша в камышинку.
L
Давай соберем это тело заново
(ножки в Медведково, попка в Чертаново).
Вечный огонь горит, пожирая павших,
Неучтенных, ненайденных и пропавших.
Не отдавай ему эти клетки, клеточки,
Нервные окончания, капиллярные сеточки,
Ребристое нёбо, пух паха и прах пуха,
Нежные перегородки ума и слуха:
Как мы с тобой соберем их на страшный суд?
Кости твои не знали, что их спасут.
Мешочки с семенем, всё, что тело съело,
Железо, за век ставшее частью тела,
Части тела другого тела, лежащего здесь
с прошлого века,
Вместе они составляют нового,
Еще не существовавшего человека.
K
Поэзия, многоглазое нелепое
Естество о многих ртах,
Находящееся одновременно во многих телах,
Побывала до этого во многих других телах,
Ныне лежащих на сохранении,
Как то, что должно родиться.
(Но в любой момент археологическая экспедиция,
любопытный пастух,
дюжина студентов в шортах
могут вынуть тебя из земли
как недоношенного младенца
и будут засовывать пальцы тебе в обеззубленный рот)
Судя по количеству фосфора в этих костях,
Поэзия, говорившая по-английски, съела
немало рыбы.
J
Говорили, и даже одна выпускница богословского
института
Подтверждала, цитируя чей-то докторский тезис:
Мы будем воскресать тридцатитрехлетними,
Даже те, кто умер в семьдесят или в девять.
Тело воскресенья будет уметь, Как положено телу:
Есть и пить что захочет,
Пешешествовать на многие стадии,
Носить на себе одежду, раны, слезы,
Оно будет ходить по воде и растворяться в воздухе,
Оставаться неузнанным и делаться узнанным,
Походить на садовника,
На странника,
На себя и на кого-то другого,
Жарить рыбу на костре и друзей угощать,
Возноситься на небеса и садиться одесную Отца,
Как положено сыну.
I
Лежа на том столе
Я слушаю звук пылесоса на этаже
Я чувствую ветер над окраиной тела.
И все, что во мне было, стоит как армия
На самой границе с воздухом,
Словно мы еще можем начать и проиграть войну.
Быстро и очень медленно,
Как умная собака сперва наклоняет голову,
Потом понимает, потом побежит к тебе,
Душа проверяет свою коробочку:
То свернется внутри, где труха и усталый бархат,
То гладит сверху кожаные крышки.
Се, под тучей синей и бурой, роскошно хмурой,
Тебя составляют заново.
Там, как рыбу торговка,
Перебирают кости твои и мышцу твою
Дорогие руки врача
И ты лежишь не крича.
H
В той английской книге
Женщине, измученной родами,
Готовой выскользнуть в смерть как в калитку,
Другая женщина рекомендует быть мужественной,
Все, что надо, говорит она, это сделать усилие.
Она говорит о ней в третьем лице,
Как о героине романа,
Которой та могла бы явиться,
Если бы сделала усилие,
Не убежала, рук не разжала,
Не доказала слабость своей природы;
Мы все должны делать усилие, объясняет она
снисходительно.
На нас лежит ответственность: сделать усилие.
Негероиня делает немужественное усилие:
Истекает
(подземной водой в решето)
Прилагается к мертвым
Замощает собственным телом
Место между мертвыми белыми мужчинами
G
Разрой мерзлую землю,
Потрогай мертвую песню.
Раздвинь ее меловые губы,
Потрогай пальцем
Твердые клубни зубов.
В одном из темных, из подземных коридоров
Внимательная девочка находит
Чему там находиться не положено:
Оно огромное, его не обойти,
Оно заполнило все место для дыхания,
И для того, чтобы пройти по коридору
(бегом, зажмурившись)
Теперь приходится протискиваться боком:
Там чье-то тело, тело все пространство съело,
Оно замерзло, умерло, ничье.
Крылья тесно поджаты,
Клюв и ножки прижаты,
Клеклый пух, закрытые веки,
Поцелуй в слюдяные перья:
Верую, ласточка, помоги моему неверью.
И вдруг она услышала, что в груди у ласточки
что-то мерно застучало:
«Стук! Стук!» – сначала тихо, а потом громче
и громче.
Это забилось сердце ласточки.
Ласточка была не мертвая – она только окоченела
от холода,
а теперь согрелась и ожила.
F
Нет,
Не то, чем грешат,
А то, чем зеленеют и раскудрявливаются.
Нет, не то, что костенеет,
А то, что водит по воле воздуха
Голыми ветками по его голубой воде.
Когда я буду усталое щетинистое насекомое —
И тогда умирать будет жалко:
Хорошо гулять в молоке.
Молодые солдатики
В широченных штанинах
Живут как стволы на весенней улице.
Что ты такой воскресший?
Да так, брат, – отвечает, —
Так как-то всё.
Тела поэзии, вы валяетесь тут и там,
Как отстрелянные пластиковые гильзы,
Не умеющие разлагаться.
Умрешь, с собой не возьмешь.
Воскреснешь, по шву не треснешь.
Вылетит, не поймаешь.
E
Как говорится,
Слово – не Воробей.
Не пять ли малых птиц
(синичек воробьишек прочих ласточек) —
Не пять ли малых птиц
Купили за два гро́ша?
Вы обошлись дороже.
Вы лучше многих птиц.
А весна такая мусорная, жиденькая,
Словно медсестричка в тапочках на бо́су
Из операционной выскочила
В больничный дворик покурить.
Он мне сказал:
Лазарь, давай уходи оттуда,
И где застряло жало —
Я его выну,
И если там какой еще засел осколок,
Его мы тоже разъясним.
И это, красное, все это red and wet,
Вся эта thing, какую не назвать словами,
Уже четыре дни как в трупной яме, —
Оно усиливается и встало и идет.
D
Он сказал мне: Лазарь, иди сюда.
Он ввел меня в дом пира.
Его знамя надо мною любовь.
И левая рука под моей головою,
И правая рука меня обнимает,
И еще одна какая-то рука
Лежит, как всегда, у меня на макушке.
Ты держишь мою голову с уважением,
Словно корзину с праздничным содержанием,
Выстеленную пальмовыми ветвями,
Доверху набитую шоколадными яйцами,
Фигами и финиками, сладкими перепелками,
Полную колбасными пальчиками.
Ты держишь мою голову, как корзинку,
Украшенную бантиками,
Переложенную веточками,
Как симпатичную пасхальную корзинку,
В которой лежит моя голова.
Береги ее бережно, неси тихо:
Сквозь кость, как вода, пробегает лик.
Можно ее положить в мешок.
Можно ее посадить в горшок.
Вырастить базилик.
C
Римлянка с бурей пшеничных волос,
Грубо собранных в груду,
Сидевшая у круглого фонтана,
Кому-то в телефон отвечая.
Мужчина в кожаной куртке
На темном кожаном теле,
Делавший зарисовки в тетради
Грифелем карминного цвета.
Мальчик в Саратове. Старуха у кассы.
Продавец светящихся пластмассовых летающих
машин.
Я хочу быть каждым из этих людей.
Я хочу спать с каждым из этих людей.
Входить в их дома как воздух,
Входить в их тела, как восточный ветер,
Трогать языком их круглые зерна
Мочки ушей
Голубые белки
Белую шерсть от запястья до локтя
Сонную тень от пупка до паха
Ребра, ключицы, лопатки
Синяя ткань рабочего комбинезона
Черное платье в мелкий белый горошек
Все это неминуемо воскреснет.
Все это неминуемо минует.
B
Рука, похороненная на Марне.
Рука, похороненная под Нарвой.
Рука, лежащая в галицийских болотах.
Пепел руки, не лежащей нигде.
Все это еще вернется.
И когда пойдем мы воскресать,
Целый лес конечностей отъятых,
Отчужденных, брошенных, неузнанных,
Зашумит у нас над головами,
Заторопится на место сбора,
Как бирнамский лес на Дунсинан.
И ноги, ноги, ноги одиногие
В истлевших сапогах (и сапогах, и сапогах) —
Солдатиками, отбившимися от части
(Отчасти камни, а отчасти облака), —
Все эти ноги встанут при дверях трактиров.
А костыли, как папские жезлы,
Отращивают прутики зеленые.
А голые безлюдые протезы
Бегут собаками за праздничной толпой.
И, как мешки с недавним провиантом,
Который съеден до последней крошки,
Лежит в земле уже ненужная поэзия.
Вагончик тронулся, дома на дачной станции
Синеют ставнями, и тополь весь как лесенка.
A
1. The dead can be so dead /
2. That no one can see they exist
3. говорит поэзия по-датски
4. но женским голосом другого человека
5. английским голосом другого человека
6. английским голосом американской женщины
7. при этом та, что это думала по-датски
8. мертва уже настолько, что ее
9. почти не видно
10. но она, конечно, есть
11. …
12. …
13. …
14. они лежат как овощи в земле
15. как вилки в ящике
16. как мысли в голове
17. никто не видит, что они настолько
18. настолько же
19. они совсем как мы
20. а то и очевиднее
21. живые
22. живые живы могут быть настолько
23. что еле веришь, где их впору встретить
24. (перебирая углеродные цепочки)
25. и при каких необычайных обстоятельствах
26. мы думаем, что их тут нет
Нестихи
Ни одного
Ни одного своего слова
Не скажу снова
Не скажу снова
Я
Лошадь не лошадь
Ее тень не моя
Автор зуммер
Клевер/ливер/обсос
Автор умер
Автор пророс
Автор дал дуба
Автор принес плода
Не остался один
Стал дождевая вода
Автоавсоний
Чтобы не попасть в пасть
Составляет стихи из обмылков
Проявляя страсть
Прилагая существенные усилия
Раскапывает землю с остатками Вергилия
Вынимает строчки годные в дело
Составляет коллаж —
Марш
Возьми чужое отчее
На хлеб намажь.
Все съеденное – общее,
Все сущее – оммаж
Улица немоя
Дома – немои
Звуки мазурки
Вы ж мои чьи-то там соловьи
Ни одного своего слова Ни одного
Ни шагу назад,
Пока мы еще:
Человекоплетни
(в переводе Анны Глазовой)
Спим как хлеб
Сияем как простыни
(в переводе Алеши Прокопьева)
И теперь певец Кинфии, Проперций,
Становится с нами в ряд
В переводе Михаила Гаспарова
И еще Григория Дашевского
И в переходе на кольцевую линию.
Все съеденное потребленное,
Изблеванное из уст,
Переработанное в калории,
Вышедшее из тел,
Участвует в новой истории,
А ты чего хотел?
Матери смотрят
На поленницу свежих младенцев
На батончики белые в белых пеленках
И не знают какое чье
И под каждым сердцем
Запевает мягкое молоко.
Цитата
Потому что, – сказал, – цитаты никто не обязан знать
(сказал и умер, и, говорят, стал сам
хуже, чем цитата, —
то музыкальною шкатулкой
для хорошего дома
то побивальной колотушкой:
«такой-то бы этого не одобрил»)
сказал и умер и немедленно стал сам
и притчей на устах у всех
и красивый сорокадевятилетний
и одна великолепная цитата
кого никто не обязан знать
кто же их не знает —
одни лежат
на поверхности как старый камень
и нам укажут на завиток
посмертную косточку капители
другие (как ты теперь) под землей
и многие изрядно переменились
вестей не подают
согласны ничего не значить
все остальные – переселенцы
замурованные мины
старающиеся не взорваться
перемещенные лица
надеющиеся что не узнают
(прадедовских лаптей или
прабабкиного рояля)
они попрятались в каждом слове
потрогай «никто», потрогай «обязан», потрогай «каждый»
медленным пальцем
раздвигающим створки плоти
там влажный блеск
ответного взгляда
скважина
(и возможно она с зубами)
алисин колодец
(в который никто не обязан падать)
временное укрытье
неглубокая узкая могила
бесконечно
надежно
делимая на двое
Четыре ты
I.
Та, с кем ты целовался на крыше мира
В присутствии фейерверков, больших и малых,
Дождей и гроз, ожидаемых порывов ветра,
Достигших многих метров в секунду,
Возникающих в Африке, катящих к Заволжью, —
Ее больше нет, милый, но не печалься,
Все ее клетки за эти десять двенадцать двадцать
Сменились на другие, новорожденная кожа
Носит себя по-другому, новая память
Ничего не видит, ничего не слышит, ничего не скажет,
Две совершенно новеньких пятки
Под столом кафе в новом районе
Смыкаются, размыкаются, расстаются,
Никак не могут расстаться,
Ее больше нету, умерла, родила другую
Себя, родила себе новые мненья,
Куда-куда подевались старые губы,
Целовавшие твои прежние губы
Один-то раз, с удовольствием и без последствий,
И весь тот поцелуй был вроде как ямка,
Сам не спрячешься, ничего не спрячешь,
Даже короткое сладкое содроганье,
Та, с кем ты целовался, кто с тобой целовала
Третьего лишнего, идолище поганое,
Раздувающуюся расписную
Куклу самодержавного аффекта —
Нету ее, больше ее нету
Как участницы общего проекта,
Но все твое переменилось тоже,
И ты не грустишь, моя радость,
У себя под деревянной крышкой.
II.
Та, чью руку ты держала,
Когда по зимней, снежной, удлиняющейся по ходу,
Стемневшей до завтра улице в бедных витринах,
За которыми липкие сладкие сухофрукты,
Схема разделки коровьей туши,
Автомат, доящийся постным маслом,
Музыкальная школа с белозубым роялем,
Шли и шли, по сторонам глядели,
Общую песню пели
Неужели мы ее забыли
Неужели она тебя забыла
В старину чинили один корабль,
Еще более старинный,
Заменили ему соленые доски
На свежие несоленые доски
Заменили ему ветхие снасти
Заменили палубу и мачты
И что там еще у кораблей бывает,
Наружные части и внутренние органы,
Буквы в имени, половичок в каюте,
Ракушки, изгрызшие древесное тело,
Заменили все, ничего не осталось,
Но что осталось – на месте,
И та, чью руку ты держала,
На ходу менялась необычайно
И многократно, обрастала волосами,
Источала кровь, испускала слезы,
Выросла вдвое, втрое, всемеро
Против своего возраста и роста,
Отставала, заглядывалась на то и это
(Снег растаял, улица перевернулась,
цыганки торговали перламутровой помадой
сигаретами с белым фильтром
и сетчатыми блядскими чулками,
все это вызывало желанья),
Пыталась притвориться, что вы не вместе,
Пыталась притвориться кем-то почище,
Пыталась попытаться вернуться в место,
Где ты ее руку держала крепко,
Пыталась тебя обидеть
И это ей удавалось —
И долгая, как собака,
Что стелется по траве в дождливом июле,
Складывалась, раскладывалась, перекладывалась
Слева направо, потом справа налево,
С жизни на смерть, а потом обратно,
Песня про ту, что шла за Марусей,
Никогда не кончалась
Не успевала начаться.
III.
Та, кому ты говорил здрасте,
Когда дверь открывалась,
И вы начинали смеяться
И разговаривать свои разговоры,
Которые заставляли вас смеяться
Так, словно все форточки многоквартирного дома
Были разом открыты и по всем его комнатам
Перекатывался общий товарищеский воздух
Щекочущий за ушами
Ледяной, как вода, но зато ясный —
Обучающий совместному смеху
Как действию общей свободы,
В доме, где под действием общей свободы
Под кровом низкого балкона
Прогуливали школу подростки
И корявыми черенками
Трогали друг друга за жаркие и чужие
Непроницаемые части тела,
Называя вещи своими именами,
Хуй хуем и пизду пиздою,
И от слова переходили к делу
Громко и неряшливо, по-птичьи,
Страшно раздражая тебя и домашних,
Та, что сидела в кресле,
Снова тут, хотя ее не видно,
Думает, что все уже воскресли,
Но оно еще не очевидно:
Смех и снег гуляют по бумаге
Сквозняки сдвигают запятые
Воздух в я заходит и выходит
Внутренние стенки задевая
Ты сидит по смерти на диване
И ветер ничьей свободы
Щекочет нас за ушами
IV.
Та-та-та и вот эта
Стоят в присутствии света
Помахивая телами туда-сюда
И по ним переливается подвижная слюда
Между ними воздушный проем
Не дает им остаться вдвоем,
Порасстаться с другими та-та́ми
И их приоткрытыми ртами
Но они еще встретятся в КПЗ:
В придорожной козе,
В неразборчивой жвачной ее утробе —
О ответствуй мне,
Есть ли любовь в говне,
В подземле, в никогде, во гробе.
Граница
Никто никогда не хочет уходить
Ночью,
Обманув сторожей,
Приходят, стоят под окном
Ждут чтобы позвали
Никто никого не хочет отпускать
Ночью,
Пока дети спят,
Оставляют своим на крыльце
Рюмку водки и что поесть
И долго стоят
По ту сторону запертого окна
Ни тебе умереть как следует
Ни воскреснуть
Незабвенные с незабывающими
Никак не умрут друг друга
Вот это
В самом конце эфира
Или сразу же после
Радиоведущая
Все-таки меня спросила
Заботливо и с оттенком тревоги:
Как это вам удается
В себе носить
Такой вот параллелепипед —
Где всё вот это?
С тех пор я думаю: что – вот это?
Иногда себе представляю
Параллелепипед
Со всем вот этим:
То он похож на террариум
(И в нем клубится вот это)
То на гроб, поставленный на попа,
Оскорбляя таким неестественным положением
И покойника, и тех, кто собрался;
Иногда он у меня в грудной клетке,
Иногда в голове,
Углы мешают,
Приходится стоять прямо.
Иногда он вовсе выпирает из тела
(как нервная очередь из дверей магазина,
как осиновый кол из спины вурдалака,
как ревущий паровоз из камина
на той картинке).
Но там всегда всё вот это
И оно движется само собою
И заставляет за меня волноваться.
____
Я всегда думала,
Что пишу о счастье
(пусть оно
еще не заполнено цветом,
как черно-белая книжка-раскраска):
Обещании
Общем
Для упырей и новобранцев,
Сбитых летчиков, недавних и давних покойников,
Для стеклянной банки,
Для сметаны, купленной после работы,
Для кассирши в сельпо,
Для хлеба на низких полках,
Для студентки второго курса
И некоторого количества текстов
Именитых и безымянных.
Я думала,
Что замеряю размеры дыры,
Проделанной в общей почве
Метеоритом, а то и бомбой;
Проделанной в теле
Спартанского мальчика
Вострым безродным лисенком
(Кто его знает,
куда прогрызался: домой, из тела —
или домой, в утробу.
Помню одно:
сквозь податливые мокрые ткани —
к себе, на природное свое место.)
Я думала,
Что пишу про место,
Где должен вырасти парадиз,
И там уже есть его верный очерк.
____
Одна писательница
Латинского алфавита
Заметила, что слово paradiso
При мельчайшем неосторожном сдвиге
Превращается в слово diaspora —
В слово-остров,
Охраняющий немногих
От тех немногих
Что болтливой водой
Делят мы на многие немы.
Слово диаспора
Прозрачный параллелепипед,
Похожий на (лагерный барак)
На (здание районной школы)
На (дом-проект, построенный для мигрантов)
На место, предназначенное для общежитья —
Все гласные раскрыты, все окна настежь —
На рай,
Но рай,
Куда падаешь и попадаешь,
На рай, где нары и правила,
Написанные не мною.
____
Я думала,
Что пишу об общей победе,
Неочевидной
И тем более неизбежной.
А с тех пор, как я увидела первую гифку,
Я думаю,
Что стихи – это гифка:
Крутятся-вертятся,
Не имеют ни конца ни начала,
Повторяются пока ты хочешь,
Останавливаются где захочешь
И даже
(чего не умеет гифка)
Послушно
Ускоряют и замедляют свое движенье
Раздвигают свои мелкие буквы
Чтобы ты вошла
(там дом и всё как дома)
И осталась, и оставалась сколько тебе надо,
И делала что надо.
Я всегда думала,
Что стихи – это место.
Вот он, параллелепипед,
Клетка с засранными голубями,
Коробочка с инопланетянами,
Комната с привидением,
Объем с пугающим содержимым.
Если бы я была стол,
Это был бы ящик
Если бы я была дом,
Это был бы телевизор,
Вечно включенный —
Люди выходят, входят,
А он работает как умеет
Если бы я была тело,
Ты, мой язык,
Ходил бы себе ходуном
По стенкам пустого места
И всё вот это
Заставлял за меня волноваться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































