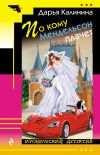Текст книги "Лунный свет"

Автор книги: Майкл Шейбон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
VIII
Некоторое время после дедова выхода из тюрьмы Конь Без Кожи вел себя довольно тихо. Когда муж или дочь были рядом – а дед, безработный и в ожидании суда, почти не отлучался из дому, – бабушка заглушала издевательское ржание потоком болтовни. Если она оставалась одна, то включала очень громко шотландскую народную музыку или марши: по неведомым причинам Конь боялся волынок. Но все время, в компании или в одиночестве, бабушка держала себя в руках, чтобы не смотреть на масличный орех за окном. Если она давала слабину и все-таки смотрела, Конь Без Кожи всякий раз был там: сидел на нижней ветке, скалил зубищи и поглаживал огромный кроваво-красный член.
– Так это все-таки был конь? – спросил я у деда на второй или третий день в мамином доме. – Или человек с лошадиной головой?
– Я его ни разу не видел, – сухо ответил дед. – Наверное, у него были руки.
– И член.
Дед дважды показал мне язык. Он смотрел в окно на туман, окутывающий эвкалипты и туи.
– Член был похож на ободранную индюшачью шею, – сказал дед. – По крайней мере, так она говорила.
Психиатрам, лечившим бабушку в конце пятидесятых, она как-то объяснила свою галлюцинацию тем, что в детстве ее напугала картинка в книжке: Титания и ткач Основа с ослиной головой. В другой раз она сказала, что видела, как ветеринар кастрировал тяжеловоза, в третий описала смешение людей и окровавленных кож на дубильном дворе. В самых своих тяжелых состояниях она утверждала, что ее изнасиловал жеребец или мужчина с конской головой. В бреду времени не существовало, и казалось, насилие продолжается до сих пор, происходит сейчас.
– Она сочиняла самые разные теории, – сказал дед. – Она читала Фрейда и Юнга. Альфреда Адлера, все такое. Говорила врачам то, что, считала, они хотят услышать.
Болезнь бабушки часто приводила деда в бессильную растерянность, но откуда взялся Конь Без Кожи, он вроде бы понимал. Конь Без Кожи неотвязно преследовал бабушку и в самых гадких словах твердил про ее преступления и черноту души. Дед считал, что такой голос есть в голове у каждого, вопрос только в степени. Коня Без Кожи можно даже считать удобной уловкой, стратегией выживания, подтвержденной успешным бабушкиным примером. Если держать голос в голове, как делает большинство, остается лишь один способ и впрямь заставить его умолкнуть. Дед восхищался бабушкиной волей к жизни, тем, как она бессознательно вытеснила обвинителя в угол комнаты, в подвальную топку, на ветки большого старого дерева.
Накануне предварительных слушаний по делу о нападении на директора «Федеркомс» дед взял телескоп, термос с чаем и поднялся на холм, чтобы наблюдать полную Луну. В душе он знал, что Конь где-то близко. Видел признаки. Слышал замечания, вопросы, непонятные изречения жены, которые она обрывала, едва начав. Как-то, подъезжая к дому с опущенным стеклом в машине, он различил призрачный отзвук волынок, а раз поймал бабушку на том, что она, вся красная как рак, отвернулась от окна, выходящего на масличное дерево.
Дед был на холме уже часа два, в меховой шапке и пендлтоновской куртке, когда в воздухе запахло гарью. Дед отметил запах, не задумавшись, что это и откуда. Мозгом полностью завладел правый глаз и теперь показывал ему чудо: структуру Рейнер Гамма в южной части Океана Бурь.
Из всех небесных тел, доступных для наблюдения астроному-любителю, только Луна предстает в таких подробностях, что можно воображать, будто живешь на ней, взбираешься на серебристые горы в семимильных лунных башмаках. Разумеется, дед знал, что Луна не пригодна для жизни. В астрономии он, может, был дилетант, но в конце сороковых – начале пятидесятых работал аэрокосмическим инженером, разрабатывал системы инерциальной навигации и телеметрические датчики сперва в компании Гленна Л. Мартина, затем, недолго, в собственной фирме «Патапско инжиниринг». После того как в пятьдесят втором бабушка первый раз попала в больницу, необходимость в гарантированном заработке вынудила его продать долю в «Патапско»[15]15
В шестьдесят втором компания «Мартин» (в то время, когда дед мне это рассказывал, – «Мартин-Мариетта», успешно работающая над ракетой «Титан») приобрела «Патапско» у его бывшего партнера Мильтона Вейнблатта, заплатив, как говорил дед, «примерно в двести раз больше, чем Вейнблатт – мне».
[Закрыть]. После этого кризис пятьдесят третьего года, невезенье и – по убеждению деда – мягкий снобистский антисемитизм, характерный для аэрокосмической промышленности, толкали его все ниже по экономической лестнице и, в свободные минуты, все глубже в мир, открываемый линзами телескопа. В фантазии он построил бабушке город на Луне и сбежал туда в ракете вместе с нею и моей мамой.
Сперва это был город под куполом, откуда открывался прекрасный вид с каждым восходом Земли, на которой остались все их беды. С годами, по мере исследований и чтения, конфигурация менялась. Для защиты от космических лучей дед убрал жилища в кратеры и подлунные туннели. Чтобы обеспечить вдоволь солнца, он поместил бабушкин лунный сад на светлое место возле Северного полюса. Однако два принципа, два правила игры сохранялись: на Луне не было капитализма, который размалывает рабочего лунянина в труху. А еще там, в двухстах тридцати тысячах миль от смрада истории, не было сумасшествия и памяти об утратах. Главная трудность межпланетных полетов была в глазах деда и главной их красотой: чтобы достичь космической скорости, бабушка, как всякий звездоплаватель, должна была почти все оставить позади.
Через мгновение после того, как запахло гарью, дед краем глаза уловил мерцающий свет и несколько секунд не обращал на него внимания. И вдруг разом увязал дрожащее оранжевое зарево с запахом дыма. Он поднял взгляд от окуляра, смаргивая призрачный след структуры Рейнер Гамма, белую лучезарную рыбку.
Масличный орех во дворе оделся парусами пламени. Окна напротив домика на дереве зловеще мерцали.
В первую секунду дед не поверил увиденному, во вторую – разозлился на себя. Вернувшись из тюрьмы, он, памятуя про недавний поджог, прочесал весь дом от подвала до чердака, собрал горючие материалы и запер в сарае с инструментами. Однако он ослабил бдительность, так что у жены было время восполнить запас лака для волос, керосина, разбавителя для краски. (Позже выяснилось, что на самом деле она проявила чудеса изобретательности, невольно восхитившей деда: шумовкой забрасывала ватные шарики, смазанные вазелином и подожженные, прямо в домик на дереве, словно комочки греческого огня.)
Вслед за злостью на себя пришла ярость. Упорное безумие жены было личным оскорблением, вызовом. Она в одностороннем порядке перечеркнула два года относительного семейного мира. Дед выкрикнул бабушкино имя с вершины холма, словно Бог, призывающий пророка на гору возмездия. Даже в пятистах футах от рева пламени собственный голос прозвучал в его ушах слабо и жалко. Сама эта слабость усилила его гнев.
Дед спускался с холма, охваченный жаждой мщения. Если бабушка не сгорела, он ее убьет. Как именно – он пока не решил. Надо до нее добраться, а там будет видно, какой метод слаще.
К тому времени, как он спустился к дому, дерево превратилось в оранжевую реактивную струю. По его словам, оно было как комета на старой карте звездного неба. Между ним и деревом висела завеса жара; она опалила ему кончики волос и обожгла щеки так, что следующие три дня они были кирпично-красные. Дед глядел на дрожащий воздух, на рвущееся ввысь пламя. Гнев его улетучился. Ничего не оставалось, кроме как стоять и смотреть.
Моя мама ничего этого не помнила.
– Просто на следующее утро от дерева остался обгорелый ствол, – сказала она. – Как фитиль у свечки.
Она переоделась из брючного костюма в джинсы и водолазку. Ей надо было еще посидеть с документами для иска, но она отложила дела, чтобы повязать деду шапку, – он часто жаловался, что у него мерзнет голова. Шапка была задумана в желто-красную полоску и с зеленым помпоном. Никто бы не хотел умереть в такой шапке, – возможно, в этом и была мамина цель.
Каждый день мама после работы сидела с дедом, пока я готовил ужин и собирал поднос для больного: миску мармеладных шариков и чашку лимонного чая. Дед сердился, что у него в комнате всегда кто-то есть: я, мама или ночная сиделка. Он понимал: мы боимся, что он умрет, когда рядом никого не будет. Дед пообещал нам, что будет цепляться за жизнь, превозмогая боль, превозмогая первичный рак и метастазы, пока не дождется, что кто-нибудь выйдет в туалет, во входную дверь позвонят и мы, несмотря на все предосторожности, оставим его одного. Тогда, и только тогда он позволит себе умереть.
– Бабушка накормила тебя димедролом, – сказал ей дед. – Ты все продрыхла. Думаю, она добавляла его в пудинг. Она всегда так делала, когда тебе не спалось.
В маминых глазах медленно зажглось понимание.
– Ух ты, – сказала она. Ее детские воспоминания были фрагментарны – пустой квадрант космоса, освещенный редкими звездочками. – Я ела очень много пудинга из тапиоки.
Судя по ее лицу, мама заключила, что загадка пробелов в памяти решена, но мне хотелось сказать, что амнезия, вызванная препаратом или душевной травмой, объясняет далеко не все. В частности, остаются непонятными умолчания в маминых рассказах о том, что она помнит. И я, и брат с детства знали, что на судьбу нашей семьи как-то повлиял Элджер Хисс, что дед сидел в тюрьме, а бабушка лежала в психбольнице. Мы знали, что из жизни у дяди Рэя мама вынесла глубокие познания в тотализаторе, несколько хитрых бильярдных приемов и ненависть к бильярдам и скачкам, а также их завсегдатаям. Знания полезные, наверное, но мало что говорящие. Если мамины дети изучали ее молчание, как она изучала молчание своего отца, они должны были усвоить, что это старое народное средство не лечит боль, разве что немного приглушает.
– Где была бабуля? – спросил я. – Пока дерево горело?
Дед глянул на мою маму и высунул язык, словно возмущаясь идиотским вопросом.
– Она смотрела, как горит, – ответил он.
Подобно большинству чудес, пожар оказался недолгим; пламя, исчерпав пищу, угасло, словно задутая свеча. Сама резкость угасания, сказал дед, говорила, насколько яростно огонь пожрал все доступное топливо. Только что комета озаряла январскую тьму, а жар не давал пройти, и вот уже пламя потухло, забрав с собой и домик в ветвях, и дерево, и религиозные восторги фанатиков, некогда его посадивших. Редкие язычки еще потрескивали на обугленных ветвях. Затем и от них остались только струйки дыма, шипение пара, легкий дождь пепла.
Дед отыскал бабушку на парадном крыльце, через которое они никогда не ходили. Она сидела босая, в тонкой ночной рубашке. Щеки у нее были серые от пепла, ресницы и брови опалены, лицо ничего не выражало.
– Не важно, – сказал он себе и ей.
Потом сел рядом с бабушкой на ступеньку. Ее голые плечи были холодны, но она не замечала ни ночной прохлады, ни того, что дед ее обнял. Через некоторое время он встал и вызвал пожарных. Потом вернулся на крыльцо и сидел с ней, пока не приехали с мигалкой и сиреной семеро пожарных, которым, в общем-то, уже нечего было тут делать.
– По кому-то психушка плачет, – заметил один из них.
Когда много лет спустя дедушка вспомнил этот диагноз, у него выступили слезы, словно для того, чтобы затушить пожар горьких воспоминаний. Он закрыл глаза.
– Папа? – позвала моя мама некоторое время спустя.
Дед лежал с закрытыми глазами уже довольно долго: отдыхал, спал, парил в сером небе дилаудида. Мы привычно наблюдали за движениями его груди – дышит ли.
– Ты устал? – спросила мама. – Может, что-нибудь съешь?
– Дедушка, – нарочито бодро произнес я, – давай что-нибудь тебе приготовлю?
Он открыл глаза. Я видел, что старое пламя вернулось, – слезы его не затушили.
– Пудинг из тапиоки на всех, – потребовал он. – И побольше.
IX
Помню, разбираясь с дедушкиными делами после его смерти, мама сказала, что, по статистике, люди в последние полгода тратят на медицину столько же, сколько за всю предшествующую жизнь. С дедовыми рассказами диспропорция получилась еще заметнее. За последние десять дней он рассказал о себе в девять раз больше, чем за все время, что я его знал. Из крох, которыми он делился со мной в детстве, лишь одно воспоминание повторялось относительно часто: про то, как он впервые увидел мою мать. Звучало это всегда примерно одинаково: «Когда я впервые увидел твою маму, она ревела в три ручья».
Не сказать, что это вполне тянуло на воспоминания: дед никогда не добавлял подробностей. Скорее это был иронический комментарий по поводу того, что мама вновь проявила твердость характера, хладнокровие и практичность, показала, что ее за пояс не заткнешь и на кривой козе не объедешь.
– Они думают ее сломать, – сказал дед как-то в те дни, когда мама (с его помощью) пыталась юридически и финансово выпутаться из того кошмара, в который превратил нашу жизнь отец. – Но ее не сломаешь.
Произнеся что-нибудь в таком роде, дед обычно качал головой и добавлял, смакуя иронию: «Не поверишь, но, когда я первый раз ее увидел, бедняжка плакала в три ручья».
Первый раз дед увидел мою маму в воскресенье, в начале марта сорок седьмого, недели через две после «Вечера в Монте-Карло». Он приехал на пятом трамвае из дома брата на Парк-Серкл в синагогу Агавас-Шолом, где готовились справлять Пурим. Технически Пурим выпал в тот год на пятницу, но из-за каких-то субботних установлений и того обстоятельства, что во времена Иисуса Навина город Балтимор еще не был обнесен стеной, отмечали его сегодня.
Иудейский календарь, как и объяснения дяди Рэя по этому поводу, деда не занимал, да и без Пурима он бы запросто обошелся. Да, в детстве на Пурим было весело, не то что в другие еврейские праздники, этого не отнимешь. Но где-то между Арденнами и Гарцем дед утратил способность радоваться поражению врага; ему казалась дешевой и глубоко неправильной параллель, которую Рэй наверняка проведет между несостоявшимся уничтожителем Аманом и вполне успешным уничтожителем Гитлером. Невезение (оно же «Бог») и еврейская хитрость разрушили замысел Амана; Гитлеру просто не хватило времени довести свой план до конца.
Ежегодные торжества в честь Божьей милости, правосудия и мощи, посты и праздники во славу Его имени, чудеса, которыми Он якобы осыпал нас на протяжении веков, – все в глазах деда обесценивалось тем, что он тогда еще не привык называть холокостом. В Египте, в Сузах, в эпоху Иуды Маккавея Господь могучей десницей избавлял нас от гибели – что с того? Когда нас отправляли в печи, Он сидел на могучем заду ровно и не вмешивался. В сорок седьмом году, по мнению деда, оставалась лишь одна причина по-прежнему называть себя евреем и демонстрировать миру свое еврейство – показать Гитлеру фигу.
Он ехал в Агавас-Шолом не для того, чтобы справлять Пурим, слушать словоблудие брата и топать ногами всякий раз, как при чтении свитка будет звучать имя Амана. И даже не ради гоменташей, хотя, разумеется, не собирался от них отказываться[16]16
Дед особенно любил те, что с маковой начинкой – ложкой крохотных черных жемчужин в тесте.
[Закрыть]. Он ехал в синагогу, поскольку дядя Рэй заверил его, что там будет бабушка, а мой дед надеялся залезть ей в трусы. Эта женщина прошла через огонь, который не сжег ее, но, как чувствовал дед, опалил. Он собирался ее спасти. Залезть к ней в трусы было необходимым первым шагом.
Отчасти именно это его в ней и привлекало – не расколотость, а возможность склеить разбитое и даже то, насколько задача будет трудна. Возможно, взвалив на себя труд любви к этой надломленной женщине, он обретет какую-то цель в жизни; спасая ее, спасется сам. С весны сорок пятого дед страдал своего рода духовной афазией. Сколько он ни вдумывался в увиденное и сделанное на войне, ему не удавалось найти в этом никакого смысла. Люди знающие и облеченные властью многократно убеждали деда, что на фронте он служил высокому предназначению и, более того, в мирной жизни дело ему тоже найдется. До встречи с бабушкой он не верил в подобные заверения; теперь, возвращаясь в синагогу по зову плоти, дед не чувствовал прежнего скепсиса. Самый зов плоти ощущался как некая форма веры.
Он знал, что одно из возможных определений слова «дурак» – «человек, который берется за работу, не осознавая ее истинных масштабов и сложности», но в конце концов инженерный корпус всегда приступал к заданиям именно так. Если в мире и была какая-то мудрость, возможно, она заключалась в оптимистично-безнадежном девизе корпуса: Essayons{44}44
Essayons – попробуем (фр.).
[Закрыть]. Итак, дед не знал, насколько большой и тяжелый труд на себя берет. Но по крайней мере, он знал, каким должно быть начало: ее губы прижаты к его губам, его бедра между ее ног, ее тело в его объятиях.
* * *
С «Вечера в Монте-Карло» дед видел бабушку трижды.
Первый раз это была своего рода ловушка наоборот, устроенная дядей Рэем. Миссис Ваксман быстро оправилась от первой неудачной попытки заарканить нового раввина и позвала его на «семейный ужин» в свою квартиру, занимавшую целый этаж в доме на Юто-Плейс. Туда же, не сообщая дяде Рэю, она пригласила мою бабушку. Дядя Рэй к тому времени уже пронюхал о заговоре и знал, что в капкан, расставленный женским клубом, угодил мой дед, поэтому в гости явился вместе с братом, надеясь, что родственная забота о душевно травмированном герое вполне его извинит.
Произошла неловкость. Аперитивы предполагалось пить в уютной малой гостиной, где два кресла Джозефа Урбана стояли напротив хагенбундовского диванчика для влюбленных{45}45
…два кресла Джозефа Урбана стояли напротив хагенбундовского диванчика для влюбленных. – Хагенбунд – объединение венских художников (1899–1938), одно из направлений модерна. Джозеф Урбан (1872–1933) – австро-американский художник и архитектор, ведущая фигура Хагенбунда, создатель американского стиля ар-деко.
[Закрыть]. Весь замысел, как эстетический, так и тактический, уничтожила необходимость срочно принести из большой гостиной истлейковский стул с вышитой спинкой. Кроме того, пришлось втиснуть еще тарелку на кухонный стол, идеально накрытый на четверых, а кухарке – спешно перераспределять пятьдесят граммов черной икры на бутербродиках с сырным кремом. Однако, безусловно, источником самой большой неловкости стал мой дед. Он сидел напротив брата, почти не говорил, с механической регулярностью отправлял еду в рот и откровенно пялился на бабушку. Когда она его на этом ловила, он так же откровенно утыкался взглядом в тарелку и делал озадаченное лицо, как будто все время забывает, что такое ужин и чем они все тут заняты.
На самом деле озадачивала его бабушка. Когда инженера настигает судьба (даже злая), она всегда принимает форму сложной задачки.
Элегантная красотка на «Вечере в Монте-Карло» была интересной и бойкой, но взбалмошной, немного чуднóй. Да что там говорить: она застегнула ему ширинку в синагоге! Молодая женщина за столом у Ваксманов была не менее красива, но как же отличались ее манеры и стиль! Столь же равнодушная к молодому раввину, как и он к ней, она надела серые жакет и юбку устаревшего военного фасона, которые даже на ее великолепной фигуре смотрелись чересчур строго. Она говорила взвешенно, рассудительно, серьезно, на более правильном американском английском, чем полторы недели назад.
Теперь, когда исчезла игривая кокетливость, в чертах проступила глубина. Гладко уложенные и заколотые волосы сегодня казались скорее рыжевато-каштановыми, лоснящимися, как конский бок. Смех был не хриплый и грубый, а тихий, вежливый. На «Вечере в Монте-Карло» дед счел ее хорошенькой пустышкой, которая торопится сгрузить свое мучительное прошлое дантистам, парикмахерам, портнихам. Перелетной птичкой, вертихвосткой. Женщина, которую он встретил в тот день у Ваксманов, была основательнее, весомее. Дед чувствовал: она – сосуд, несущий боль своего прошлого, но тяжесть внутри расколола хрупкие стенки, и в трещины сочится лучезарная тьма. Когда разговор коснулся кармелитского монастыря, где ее прятали во время войны, голос у бабушки задрожал. Дядя Рэй подал ей носовой платок. Все смотрели, как она промокает глаза в тишине, наполнившейся благоуханием гардений.
Деда смущала и завораживала метаморфоза девушки, которую он видел десять дней назад. Быть может, красотка в очках Ингрид Бергман – притворство на один вечер, а хрупкий сосуд, излучающий печаль, – истинная сущность? Или наоборот? А может, «сущность» – величина переменная, и при каждой встрече она будет представать в новом обличье? Внезапно дед по боли в щиколотке понял, что брат пинает его под столом. Он сообразил, что кто-то задал ему вопрос, и беспомощно посмотрел сперва на миссис Ваксман, потом на судью. Оба не спешили прийти на помощь, так что пришлось вмешаться дяде Рэю.
– Электротехника, – произнес он тоном добродушного раздражения. – Окончил Дрексельский технологический. И да, судья, он ищет работу, понимая, как его многострадальному младшему брату трудно обходиться без дивана.
Еще утром дед ответил бы на такое замечание чем-нибудь вроде: «Вот как? Я могу съехать завтра же!» Уже не первую неделю он каждый день просыпался на диване дяди Рэя, не понимая, зачем торчит в Балтиморе, и каждый вечер ложился с мыслью, что пора куда-нибудь перебираться.
– Я интересуюсь ракетостроением, – объявил он неожиданно для себя. – Инерционная навигация, телеметрия. Мне бы хотелось работать в «Гленн Мартин», если получится. Я слышал, они планируют заниматься такими вещами.
Миссис Ваксман взглянула уважительно, а может, просто опешила: это была самая длинная речь деда за весь вечер. Судья Ваксман сказал, что по совпадению брат его бывшего коллеги – вице-президент в «Гленн Мартин». Может быть, он сумеет помочь.
– Там делают космические ракеты? – спросил дядя Рэй. (Во время войны фирма «Гленн Мартин» построила на пустующих землях к северо-востоку от Балтимора большой завод, выпустивший тысячи гидросамолетов «маринер» и бомбардировщиков «мародер».) – Потому как знаете что, про моего братца с его инерцией и телепатией? Он, может, и похож на бетонную тумбу, но хочет полететь на Луну.
О чем говорили за столом у Ваксманов – помимо этого эпизода и бабушкиного дрожащего голоса при упоминании кармелиток, – дед сорок два года спустя вспомнить не мог. В его памяти остался лишь еще один разговор, который произошел после кофе и десерта. Чувства к бабушке – любопытство, жалость, желание – мешались, сбивая с толку. Срочно требовалось навести порядок в голове, а для этого надо было вырваться из сферы бабушкиного притяжения – ненадолго, на одну сигаретку. В поисках черной лестницы или крыльца дед наткнулся на застекленную веранду, неотапливаемую, но обставленную плетеными креслами и жардиньеркой, так что весенними вечерами тут наверняка приятно было сидеть, и быть судьей, и не знать недостатка в деньгах. Пахло затхлостью. Дед открыл окно, чтобы впустить вечернюю прохладу.
Только он закурил, как сзади хлопнула дверь: вошла бабушка в наброшенной на плечи шубе. Шуба, как и миссис Ваксман, источала аромат «Табу». Вероятно, она обошлась судье не дешевле, чем «Кадиллак-60» сорок седьмого года, который он отправлял за гостями.
– Привет.
– Э… привет.
Бабушка с вожделением глянула на сигарету у него в зубах. Дед отдал ей свою «Пэлл-Мэлл», достал из пачки другую и чиркнул зажигалкой. Когда он поднял взгляд от газового огонька, то увидел, как по телу бабушки прошла легкая дрожь – от бедер к плечам и рябью испуга по лицу.
– Тебе плохо?
Бабушка издала странный звук – не то конфузливый смешок, не то вскрик боли – и вынырнула из-под шубы, словно та в огне. Одновременно она бросила шубу в направлении моего деда, как будто сама бабушка – горящее здание и обязанность деда, пожарного с сетью, эту шубу спасти. Он поймал ее за воротник. Бабушка приложила руку к груди, сглотнула, затянулась сигаретой. Вид у нее был смущенный.
– Извини, – сказала она. – Просто я не люблю мех.
– Да?
– Когда сдирают шкуру… Я видела.
– Ага.
– И мне не нравилось.
Тогда бабушка впервые рассказала ему про семейную кожевенную фабрику в Лилле. На школьном английском, почти без эмоций, она описала ужасы своих ранних лет: кровь, вонь гниющего мяса и мочи от дубильных чанов, крики лошадей на живодерне, похожие на детские. Она обрисовала процесс сдирания шкуры в терминах красок. Серебристый нож. Алая кровь. Синие пленки. Желтый жир. Белая кость.
Дед держал шубу на весу. Мех поблескивал в лунной полутьме и как будто даже шевелился.
– Жарко. Из внутри-и, – сказала бабушка.
– Да? – Дед не понимал, о чем она говорит, но ему сразу сделалось проще, привычнее: она вновь стала девушкой с «Вечера в Монте-Карло», сообщившей, что его голова хорошо будет смотреться на заборе.
– Из многих внутрий. Миссис Ваксман сказала, нужно пятнадцать-двадцать внутрий.
Дед ничего не мог с собой поделать. Он рассмеялся:
– Нутрий.
– Ты знаешь внутрию?
– Я уверен, она была сегодня в супе.
Бабушка свела брови – густые и выгнутые, как у Дженнифер Джонс{46}46
…брови – густые и выгнутые, как у Дженнифер Джонс. – Дженнифер Джонс (1919–2009) – голливудская актриса, обладательница пяти «Оскаров» и двух премий «Золотой глобус».
[Закрыть]. Деду нравились ее брови, особенно когда она хмурилась.
– Ты меня дразнишь, – догадалась она.
– Извини.
– Нет, дразнить меня не плохо.
– Правда?
– Когда ты. Мне нравится, как ты дразнишь.
Дед почувствовал, что заливается краской. Веранду освещали только Луна и лампа в дальнем углу гостиной. Дед не знал, видит ли бабушка, как он покраснел.
– Мне нравишься ты, – сказал он.
– Ты мне тоже, – быстро ответила она и так же быстро добавила: – У меня есть дочка, знаешь?
– Ага, – ответил дед, застигнутый врасплох. Значит, двое. Спасать двоих. Essayons. – Сколько лет?
– Четыре года. В сентябре будет пять.
– А твой… э… ее отец?
– Я его убила.
Увидев лицо моего деда, она прыснула со смеху и тут же зажала рот рукой. Закашлялась от сигаретного дыма.
– Нет! Извини!
Поначалу бабушка смеялась, но чем дольше длился приступ смеха, тем больше он походил на плач. Она задержала дыхание, выдохнула. Взяла себя в руки.
– Это была шутка, но не смешная, так почему я смеялась?
Дед не знал, что ответить, поэтому промолчал. Она потушила окурок в горшке с засохшим цветком.
– Отец погиб. На войне.
Она подошла к открытому окну и подставила лицо холодному ветру. Глянула на молодой месяц. Ее снова пробила дрожь – раз, другой. Теперь она точно плакала да, наверное, и окоченела от холода. Дед повесил шубу на плетеное кресло. Снял пиджак – тот самый, что одалживал у брата для «Вечера в Монте-Карло», – и накинул бабушке на плечи. Она вся подалась к пиджаку, словно к струе теплой воды из душа, и продолжала отклоняться назад, пока не припала к деду. Его как будто ударило током. Он чувствовал, что вес на его груди – ноша, которая ему доверена. Ему отчаянно хотелось одного – оправдать это доверие, хотя, судя по шевелению в штанах, определенная его часть хотела и чего-то еще.
– Я тоже хочу полететь на Луну, – сказала бабушка. – Возьми меня с собой.
– Не вопрос, – ответил дед. – Сделаем.
Следующий раз он увидел бабушку, когда та выходила из булочной Зильбера, неся коробку, перевязанную розовой лентой. Она его не заметила. Дед прошел за ней по Парк-Хайтс до Бельведера и дальше до конца Нарциссус-авеню, где начинались дома поплоше. С почтительного расстояния он наблюдал, как бабушка вошла в домик на две семьи, более аккуратный, чем соседние. (Впоследствии выяснилось, что он принадлежит судье Ваксману, который сдает в нем квартиры.) На следующую ночь дед ворочался на братнем диване и не мог уснуть: думал о бабушке. В начале третьего он встал с дивана, оделся, взял ключи от «меркьюри» дяди Рэя и поехал к домику в конце Нарциссус-авеню. В окне второго этажа горел свет. У деда екнуло сердце. Он остановил машину у тротуара и выключил фары. Ночь снова выдалась холодная, но окно было распахнуто. Бабушка курила, облокотившись на подоконник, и смотрела на Луну. Дед гадал, вспоминает ли она его обещание. Грудь ныла по тяжести ее тела.
В комнате за бабушкиной спиной позвал ребенок – тихо и далеко, так что дед не мог разобрать, есть ли в голосе испуг, жалоба или требовательность. Бабушка резко обернулась и потушила сигарету о подоконник. На кусты внизу посыпался дождь искр.
Подходя в тот день к Агавас-Шолом если не с планом операции, то с четким осознанием своей миссии, он увидел на каменной скамье перед стеклянной дверью маленькую девочку: она сидела, упершись подбородком в колени и обняв ноги. Девочка еле заметно – не больше чем на три градуса – раскачивалась взад-вперед и, как сперва показалось деду, что-то напевала себе под нос. На ней было зеленое платье, зеленые колготки и черные лакированные туфельки с ремешком. У платья были рукава-крылышки, оставлявшие голыми руки, и даже в колготках девочка наверняка замерзла – сам он был в шляпе, шарфе и шерстяном пальто поверх свитера. Наверное, в три-четыре года с голыми руками, на каменной скамье в сорок градусов по Фаренгейту{47}47
Сорок градусов по Фаренгейту – примерно 5 °C.
[Закрыть] дед бы тоже ревел в три ручья, но он предпочитал думать, что догадался бы уйти в теплый дом.
Одна стеклянная створка распахнулась. Девочка перестала раскачиваться и выпрямилась. Из синагоги вышел еврей, держа в руках детское пальтишко. На еврее был огромный штраймл, лапсердак, подметавший полами улицу, и борода, как у Эдмунда Гвенна в «Чуде на 34-й улице»{48}48
…борода, как у Эдмунда Гвенна в «Чуде на 34-й улице». – «Чудо на 34-й улице» (Miracle on 34th Street, 1947) – американская рождественская комедия. Эдмунд Гвенн (1877–1959) сыграл в ней роль Криса Крингла, старика, который соглашается изображать Санта-Клауса.
[Закрыть]. Дед удивился, что такой еврей ходит в Агавас-Шолом, где женщины сидят рядом с мужчинами, а раввин – бойкий пижон, не способный отрастить даже приличную щетину. Еврей в огромной меховой шапке словно не замечал приближающегося деда, а девочка словно не замечала еврея. Только уже не плакала в три ручья. И вообще не плакала.
Еврей накинул на девочку пальтишко, уверенным движением поправил воротник у нее на шее и ушел обратно. Когда он входил в дверь, струя воздуха из теплого помещения приподняла край лапсердака, и дед увидел ярко-красные домашние туфли с загнутыми носами. Почему-то они удивили его даже больше, чем присутствие такого еврея в Агавас-Шолом, но, с другой стороны, то, чего дед не знал и не хотел знать про ортодоксальных иудеев, их одежду и обувь, составило бы целую книгу.
– Не знал, что бывают евреи-эскимосы, – сказал он девочке, подходя к дверям синагоги.
Она подняла на него глаза. Личико сердечком, припухлые обветренные губы, вздернутый носик шиксы. Бутылочно-зеленые глаза, сухие, без единой слезинки. Может, и впрямь плакала просто от холода.
– Что? – спросила она.
– Ты не замерзла?
Она сунула руки в рукава пальтишка. Кивнула.
– Тогда почему ты сидишь здесь?
– Мне два часа нельзя заходить в дом.
– Вот как? Почему?
– Потому что я плохая.
– Поэтому ты должна два часа сидеть на холоде?
– Да.
– Наверное, ты как-то особенно плохо себя вела.
– Да.
Наказание представлялось чрезмерным, однако о дисциплинарных методах у ортодоксальных иудеев дед знал еще меньше, чем об их обуви. Он глянул через стеклянную дверь, отыскивая глазами еврея в меховой шапке, – может, поговорить с ним? Стены вестибюля – большого спартанского пространства под скошенным модернистским потолком – украшали бумажные купола и арки в персидском духе. Сразу за входом на двух шестах было растянуто полотнище с надписью «Дорога на Сузы» псевдоарабской вязью. У двери в молельный зал топтались несколько человек, и среди них – еврей в шапке. Рядом с ним стояла стройная девушка, наряженная, как ярмарочная Саломея, в браслетах и покрывалах.
– Замолвить за тебя словечко? – спросил дед. – Могу по блату.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?