Текст книги "Галаад"
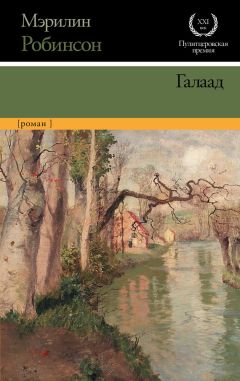
Автор книги: Мэрилин Робинсон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Мэрилин Робинсон
Галаад
Marilynne Robinson
GILEAD
© Marilynne Robinson, 2004
© Перевод. Е. Филиппова, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Посвящается моим дорогим родителям – Джону и Эллен Саммерс
Вчера вечером я сказал тебе, что, возможно, уйду через какое-то время, и ты спросил:
– Куда?
И я ответил:
– Я уйду к Господу.
И ты спросил:
– Почему?
И я сказал:
– Потому что я уже старый.
И ты возразил:
– Я думаю, ты не старый. – И, вложив свою руку в мою, добавил: – Ты не очень старый, – как будто это все объясняло.
Я сказал тебе, что, быть может, твоя жизнь будет сильно отличаться от моей и от той жизни, что мы прожили вместе, и это чудесно: есть много возможностей прожить жизнь хорошо.
А ты ответил:
– Мама уже говорила мне это. – А потом ты сказал: – Не смейся! – потому что думал, как будто я смеюсь над тобой. Ты потянулся ко мне и приложил пальцы к моим губам и посмотрел на меня с таким выражением, которого я не видел ни на одном лице, кроме лица твоей матери. Некая разъяренная гордость, неистовая и безжалостная. Всякий раз я недоумеваю, как она своим испепеляющим взором не спалила мне брови. Мне будет не хватать этих взглядов.
Глупо подозревать, будто усопшим может чего-то не хватать. Если ты прочитаешь это письмо, будучи взрослым мужчиной, – а я надеюсь, так и случится, – к тому моменту меня не будет уже много лет. Я буду знать бо́льшую часть из того, что известно мертвым, но, скорее всего, оставлю эти сведения при себе. Похоже, именно так и должно быть.
Не знаю, сколько раз люди спрашивали меня, что такое смерть, иногда за час или два до того, как узнавали это сами. Даже когда я был молод, люди, которым было столько же лет, сколько мне сейчас, задавали вопросы, хватали меня за руку и буравили стариковскими глазами, покрытыми пеленой, как будто знали, что мне все известно, и собирались заставить меня рассказать правду. Раньше я говорил: это примерно то же самое, что вернуться домой. В этом мире у нас дома нет, говорил я, а потом отправлялся знакомой дорогой в свое жилище, готовил себе кофе, бутерброд с яичницей и слушал радио, когда оно только появилось, чаще всего в темноте. Помнишь этот дом? Думаю, помнишь, хотя бы немного. Мое детство прошло в домах приходских священников. Бо́льшую часть жизни я провел в этом доме, а в несметном числе других подобных жилищ побывал в качестве гостя: друзья моего отца и многие родственники тоже жили при церкви. И, когда я задумывался об этом в те годы, а это случалось нечасто, мне казалось, что это худший дом из всех – самый унылый и открытый всем ветрам. Что ж, так я тогда думал. Это замечательный старый дом, но в те времена я сидел тут совсем один. И потому дом казался мне чужим. Я не знал, каково мое место в мире, и чувствовал себя неуютно. Теперь все иначе.
Но теперь мне говорят, что сердце у меня сдает. Врач поставил диагноз angina pectoris, или стенокардия, звучит как теологический термин, наподобие «мизерокардии»[1]1
Мизерокардия (от лат. misericordia) – «милосердие». – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]. Что ж, в мои годы это неудивительно. Мой отец умер в почтенном возрасте, а вот его сестры прожили недолгую жизнь. Так что я должен испытывать чувство благодарности. Еще мне действительно жаль, что я почти ничего не могу оставить тебе и твоей матери. Лишь пару старых книг, которые больше никому не нужны. Я не имел заработков, которыми стоило бы гордиться, и никогда не обращал внимания на деньги, которые оказывались в моем распоряжении. Меньше всего я думал о том, что у меня останутся жена и ребенок, поверь. Я был бы лучшим отцом, если бы знал. Я бы что-то припас для вас.
Это самое главное, о чем я хочу сказать: мне очень жаль, что тебе и твоей матери, как я знаю, пришлось пережить тяжелые времена без достойной поддержки с моей стороны, если не считать молитв – я ведь все время молюсь. Я делал это, пока жил, и продолжаю делать и сейчас, если это возможно в следующей жизни.
Я слышу, как ты разговариваешь с матерью: ты спрашиваешь – она отвечает. Я слышу не слова, а лишь звук ваших голосов. Ты не любишь ложиться спать, и каждый вечер ей приходится в очередной раз уговаривать тебя отойти ко сну. Я никогда не слышу, как она поет, только по вечерам, когда она баюкает тебя в соседней комнате. И даже тогда я не могу разобрать, какую песню она поет. Она поет очень тихо. Мне кажется, у нее прекрасно получается, но когда я говорю ей об этом, она смеется.
На самом деле я больше не могу судить, что прекрасно, а что – нет. На днях на улице я прошел мимо двух молодых людей. Я знаю, кто они, – оба работают в гараже. Они не ходят в церковь, ни тот, ни другой, – приличные, хотя и не самые честные, молодые парни, которые жить не могут без шуток. И вот они стояли, опершись на стену гаража, в солнечном свете и покуривали. Они всегда такие черные от машинного масла и так пропитаны бензином, что я поражаюсь, как они сами не загораются. Они отпускали шуточки, как обычно, и заходились недобрым смехом. И я увидел в этом красоту. Изумительно наблюдать за тем, как люди смеются, всецело отдаваясь этому процессу. Иногда им действительно тяжело побороть порыв разразиться хохотом. Я довольно часто наблюдаю такое явление в церкви. Поэтому мне интересно, что это такое и откуда берется, и еще мне интересно, что именно смех изгоняет из тела, ведь ты не можешь остановиться, пока не закончишь. В некотором роде, я полагаю, это сродни потребности выплакаться, только смех люди растрачивают с большей легкостью.
Завидев меня, они, разумеется, перестали шутить, но я видел, что про себя они продолжают смеяться, задаваясь вопросом, что долетело до ушей старого проповедника.
Мне так хотелось сказать им, что я тоже могу оценить хорошую шутку, как любой другой. В жизни меня много раз посещало желание сказать это. Но люди не готовы с этим мириться. Они хотят, чтобы ты держался в стороне. Мне хотелось сказать: «Я уже умираю, и у меня осталось не так много возможностей посмеяться, по крайней мере в этом мире». Но, услышав такое, они приняли бы серьезный вид и стали бы вести себя с подчеркнутой вежливостью, я полагаю. Я буду молчать о своей болезни, сколько смогу. Для умирающего я чувствую себя неплохо и благодарен за это Господу. Разумеется, твоя мать обо всем знает. Она сказала, если я хорошо себя чувствую, быть может, врач ошибается. Но, когда человек находится в таком возрасте, как я, доктор вряд ли может сильно ошибаться.
Вот что самое странное в жизни священника. Люди меняют тему разговора, когда видят, что ты приближаешься. А иногда те же самые люди приходят к тебе и рассказывают самые удивительные истории. Очень многое скрыто под фасадом, и все знают об этом. Бездна зла, и ужаса, и вины, и одиночества – все это там, где ты точно не рассчитывал их найти.
Отец моей матери был проповедником, отец моего отца – тоже, как и его отец, а до этого – кто его знает… Но догадаться можно без труда. Проповедничество было для них второй натурой, как и для меня. Все они были хорошими людьми, но если мне и стоило перенять у них одно умение, которым я так и не овладел, то это способность держать себя в руках. Это мудрость, которую я должен был постичь много лет назад. Даже сейчас, когда учащенный пульс навевает мне мысли о вечном, я выхожу из себя, если застрял ящик в шкафу или я положил очки не на то место. Я рассказываю тебе об этом, для того чтобы ты не допускал развития такой дурной привычки.
Неистовый гнев, который проявляется слишком часто или в неподходящий момент, может разрушить гораздо больше, чем ты представляешь. И наибольшее внимание уделяй тому, что говоришь. «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса неправды»[2]2
Послание ап. Иакова, 3:5, 6.
[Закрыть], – вот в чем истина. Когда мой отец состарился, он написал об этом в письме, которое отправил мне. И, как у меня случалось, я его сжег. Бросил письмо его прямо в камин. И тогда мой поступок удивил меня намного больше, чем удивляет сейчас, когда я вспоминаю об этом.
Полагаю, самое время провести эксперимент над откровенностью. Теперь я говорю все это с должным уважением. Мой отец был из тех людей, которые, как он сам говорил, живут по принципам. Во всех поступках он старался оставаться верным истине, как он ее понимал. Но что-то в манере его повествования об этом предмете разочаровывало и, должен признаться, не только меня. Я говорю это, несмотря на все то внимание и время, которые он посвятил моему воспитанию. За это я навеки в долгу перед ним, хотя он сам мог бы с этим поспорить. Упокой Господь его душу, ибо я точно знаю, что разочаровал его. Удивительно размышлять об этом. Мы желали друг другу только добра.
Что ж, «слухом услышите, и не уразумеете: и глазами смотреть будете, и не увидите»[3]3
Евангелие от Матфея, 13:14.
[Закрыть], как учит нас Господь. Я не могу утверждать, что постиг смысл этих слов, хотя не счесть, сколько раз их слышал и ссылался на них в проповедях. Это всего лишь заявление о глубоко загадочном факте. Можно знать что-то о смерти и оставаться во всех отношениях невежественным в этом предмете. Человек может знать собственного отца или сына, но их не будет связывать ничего, кроме верности, любви и взаимного непонимания.
Я упомянул об этом лишь для того, чтобы сказать: люди, которые испытывают некое сожаление по отношению к тебе, будут думать, что ты злишься, и различат гнев в том, что ты делаешь, даже если ты спокойно живешь по своему усмотрению. Они заставят тебя сомневаться в себе, что, в зависимости от тяжести ситуации, может привести к серьезному помрачению рассудка и потере времени. Жаль, я не понял этого раньше. Даже вспоминая об этом, я чувствую, как прихожу в ярость. Раздражение – форма гнева, я это признаю.
Одно из великих преимуществ, которые дает служение Богу, состоит в том, что такое призвание учит тебя сосредотачиваться. Ты начинаешь различать, что действительно нужно сделать, а что можно спокойно проигнорировать. Если я могу передать тебе хоть какую-то мудрость, то этот секрет – самый главный.
Ты благословляешь наш дом своим присутствием чуть меньше семи лет, и для меня это не самые здоровые годы, ведь моя жизнь клонится к закату. Когда ты появился, я уже не мог изменить привычный уклад, чтобы обеспечить вас обоих. И все равно я думаю об этом и молюсь. Я очень часто размышляю об этом. Хочу, чтобы ты это знал.
Выдалась прекрасная весна, и на дворе стоит очередной прекрасный день. Ты почти опоздал в школу. Мы поставили тебя на стул, и ты жевал тост с джемом, пока мама чистила тебе туфли, а я причесывал волосы. Тебе задали целую страницу примеров, которые ты должен был решить вчера вечером, а ты корпел над ними с утра в поиске верных вариантов ответа. Ты похож на мать – так же серьезно ко всему относишься. Старики прозвали тебя «дьякон», но эта серьезность передалась не по моей линии. Я никогда не видел ничего подобного, пока не повстречал твою маму. Впрочем, это справедливо, если не считать дедушку. Я не мог понять, что вижу перед собой – ярость или грусть, – и недоумевал, какое событие из жизни навеки отпечаталось у нее в глазах. А потом, когда тебе было около трех лет – совсем еще кроха, – я как-то утром зашел в детскую. Ты сидел на полу в лучах солнечного света в пижамке с кнопками, пытаясь разобраться, как починить сломанный восковой мелок. И ты поднял на меня глаза и одарил тем же самым взглядом. Я много раз вспоминал это мгновение. Могу признаться: иногда мне казалось, что ты смотрел сквозь саму жизнь, видя несчастья, от которых я молил Бога тебя уберечь, и просил меня любезно объяснить, что происходит.
«Ты совсем как они, все эти старики из Библии», – говорит мне твоя мама. Это было бы правдой, если бы я умудрился прожить сто двадцать лет и, быть может, обзавестись парочкой коров и быков, а также слуг и прислужниц. Отец оставил мне профессию, которая оказалась моим призванием. Но факт в том, что оно было моей второй натурой, я с ним вырос. А ты – навряд ли.
Я увидел, как мимо окна пролетел мыльный пузырь, пухлый и дрожащий, дозревший до цвета синей стрекозы, который пузыри принимают перед тем, как лопнуть. И я посмотрел вниз и увидел тебя и твою мать: вы пускали мыльные пузыри прямо в кошку, заполоняя ими все вокруг, так что бедное создание было вне себя от восторга. Она просто кувыркалась в воздухе, наша беззаботная Соупи! Часть пузырей летала меж ветвей, другие поднимались над кронами деревьев. Вы оба были слишком заняты кошкой, чтобы заметить небесные последствия своих земных дел. Они были так прекрасны. На маме было синее платье, а на тебе – красная рубашка, и вы опускались на колени прямо на землю, а Соупи ютилась между вами, и вся эта сверкающая масса пузырей уносилась вверх, и повсюду звучал смех. Ах, эта жизнь, этот мир…
Мама сказала тебе, что я пишу твою родословную, и тебе, похоже, очень понравилась эта затея. Итак, что мне написать для тебя? Я, Джон Эймс, родился в 1880 году от Рождества Христова в штате Канзас. Я сын Джона Эймса и Марты Тернер Эймс, внук Джона Эймса и Маргарет Тодд Эймс. На момент составления этого письма я прожил семьдесят шесть лет, семьдесят четыре из которых провел здесь, в Галааде, штат Айова, за исключением учебы в колледже и семинарии.
Что еще тебе рассказать?
Когда мне было двенадцать, отец отвел меня на могилу деда. К тому времени моя семья прожила в Галааде около десяти лет, и отец служил в местной церкви. Его отец, который родился в штате Мэн и приехал в Канзас в 1830-х, жил с нами уже несколько лет после выхода на пенсию. Потом старик сбежал, чтобы стать кем-то вроде странствующего проповедника, по крайней мере, мы так думали. Он умер в Канзасе и там же обрел вечное пристанище рядом с городком, в котором почти не осталось людей. Засуха изгнала большинство тех, кто еще не переехал в селения поближе к железной дороге. Разумеется, городок образовался на этом месте лишь потому, что дело было в Канзасе и там селились люди, которые осваивали «свободные земли»[4]4
Свободные земли – территории на западе США, где рабовладение было запрещено еще до Гражданской войны.
[Закрыть] и не особенно задумывались о будущем. Я не часто использую выражение «Богом забытый», но, когда думаю об этом месте, именно эти слова приходят на ум. Отцу потребовались месяцы на то, чтобы узнать, где упокоился с миром старик: бесчисленные запросы в церкви, газеты и так далее. Он вложил в это массу усилий. Наконец кто-то отозвался и прислал нам маленькую посылку с часами, потертой старой Библией и какими-то конвертами, в которых, как я узнал позже, хранились лишь несколько из многочисленных запросов отца о помощи в розыске деда. Их, несомненно, передавали старику добрые люди в надежде убедить его вернуться домой.
Моего отца глубоко печалило то, что последние слова, с которыми он обратился к своему отцу, были произнесены в гневе и в этой жизни между ними никогда не наступит примирение. Он действительно уважал отца, и ему было тяжело принять то, что все закончилось именно так.
Все это происходило в 1892 году, когда путешествовать было довольно сложно. Мы доехали на поезде так далеко, как только могли, а потом отец арендовал фургон с упряжкой лошадей. Все это превышало наши потребности, но ничего другого найти не удалось. Мы пару раз поехали неверной дорогой и заблудились, да и с лошадьми нам пришлось тяжко – их надо было все время поить. В итоге мы оставили их на попечение какому-то фермеру и дальше отправились пешком. Дороги были ужасны: те, по которым часто ходят, утопали в пыли, а те, что не пользовались популярностью, были изрезаны колеями. Мой отец нес в рогожном мешке инструменты, на случай если понадобится навести на могиле порядок, а я тащил то, что у нас считалось едой, – сухой паек: вяленое мясо и пару мелких желтых яблок, которые мы сорвали по дороге. Еще в моем мешке лежали рубашки и носки на смену, только к тому времени они были уже грязные.
На самом деле в то время у отца не хватало денег на поездку, но он так много думал о ней, что никак не мог подождать, пока накопит нужную сумму. Я сказал ему, что тоже должен ехать, и он с уважением отнесся к моему желанию, хотя это осложнило наше путешествие. Моя мать читала о том, что к западу от нас выдалась страшная засуха, и отнюдь не обрадовалась, когда отец сказал, что собирается взять меня с собой. Он объяснил ей, что поездка будет носить образовательный характер, и, разумеется, так оно и было. Мой отец твердо вознамерился найти эту могилу, несмотря на любые трудности. Никогда раньше в жизни я не задавался вопросом, где буду к тому моменту, когда сделаю следующий глоток воды. И я считаю так: раз с тех пор мне ни разу не пришлось задуматься об этом, значит, это один из даров, что ниспослал мне Господь. Иногда мне действительно казалось, что мы пройдем еще немного и умрем. Однажды, когда отец собирал палки для костра и подавал их мне, он сказал, что мы как Авраам и Исаак на пути к горе Мориа. Я и сам так думал.
Дела обстояли так плохо, что мы не могли купить еды. Мы остановились у фермы и обратились к хозяйке, а она вытащила из шкафа сверток и показала нам пару монет и купюр со словами: «Я с таким же успехом могла бы пойти в магазин с деньгами Конфедерации». Большой магазин закрылся, и она не могла купить ни соли, ни сахара, ни муки. Мы обменяли наше жалкое вяленое мясо – с тех пор я его не выношу – на два вареных яйца и две вареные картошки, которые даже без соли показались мне необыкновенно вкусными.
Потом отец стал расспрашивать ее о своем отце, и она сказала: «Что ж, да, он бывал в наших краях». Она не знала, что он умер, зато ей было известно, где его могли похоронить. Она показала нам едва сохранившуюся дорогу, которая должна была привести нас прямо в нужное место. От фермы идти предстояло не больше трех миль. Дорога поросла травой, но, когда мы пошли по ней, я все равно увидел борозды. В них трава была ниже, потому что земля оставалась слишком плотной. Мы дважды обошли кладбище. Два или три надгробия упали, а все кладбище поросло травой и сорняками. На третий раз отец заметил столб ограды, мы подошли к нему и увидели горстку могил, ряд из семи или, быть может, восьми, надгробий, а за ними – еще полряда под мертвой бурой травой. Я помню, что этот неполный ряд навеял на меня грустные мысли. Во втором ряду мы нашли табличку, которую кто-то смастерил из куска коры, забив в него гвозди и загнув их так, чтобы они превратились в надпись: «ПРЕП ЭЙМС». «Р» больше походила на «А», а «С» – на перевернутую «З», но ошибки быть не могло.
Уже наступил вечер, и мы вернулись на ферму той же женщины и помылись в ее баке, попили из ее колодца и поспали на ее сеновале. На ужин она накормила нас кукурузной кашей. Я полюбил эту женщину, как вторую мать. Полюбил до слез. Мы встали еще до рассвета, чтобы подоить коров и принести ей ведро воды, а она встретила нас у двери с завтраком из жареных кукурузных лепешек, намазанных конфитюром и украшенных ложечкой сливок. Мы так и ели, стоя на веранде в холоде и темноте, и это было совершенно чудесно.
Потом отец вернулся на кладбище, которое представляло собой всего лишь клочок земли, окруженный полуразвалившимся забором с воротами, связанными цепью с альпийским колокольчиком. Мы с отцом подлатали забор, как могли. Он слегка взрыхлил землю на могиле складным ножом. Потом отец решил еще раз сходить на ферму и одолжить пару мотыг, чтобы нам было легче. Он сказал: «Мы вполне можем присмотреть за этими ребятами, пока мы здесь». На этот раз нас ждал ужин в виде рагу из фасоли. Я не помню, как звали ту женщину, и очень сожалею об этом. У нее не хватало двух фаланг на одном указательном пальце, а еще она шепелявила. Тогда она показалась мне старой, но, теперь я думаю, это была всего лишь деревенская женщина, пытавшаяся сохранить достоинство и рассудок в стараниях выжить, женщина, которая очень устала и осталась совершенно одна. Отец сказал, ее акцент напоминает речь жителей штата Мэн, но напрямую не спрашивал ее об этом. Она расплакалась, когда мы стали прощаться, и вытерла лицо фартуком. Отец спросил, не хочет ли она передать с нами кому-нибудь письмо или записку, но она отказалась. Он поинтересовался, не желает ли она присоединиться к нам, она поблагодарила, покачала головой и произнесла: «У меня же корова». Потом добавила: «Все наладится, когда придут дожди».
Это кладбище было самым одиноким местом на свете, которое только можно представить. Но, если бы я сказал, что оно вскоре могло слиться с природой, тебе показалось бы, как будто в нем чувствовалась какая-то жизнь. Однако вся земля растрескалась и была иссушена солнцем. Сложно было вообразить, что эта трава когда-то была зеленой. Куда бы ты ни ступил, в воздух поднимались десятки маленьких кузнечиков, стрекоча так, словно кто-то чиркал спичкой. Отец засунул руки в карманы, огляделся и покачал головой. Потом он начал косить траву серпом, который принес с собой, и мы заново установили упавшие опознавательные знаки. Большинство могил были отмечены одними камнями: ни имен, ни дат – абсолютно ничего. Отец сказал, чтобы я следил, куда наступаю. Повсюду располагались небольшие захоронения, которые я сначала не замечал или не понимал, что они там есть. Разумеется, я не хотел по ним ходить, но, пока отец не срезал сорняки, не различал, где они, и только потом понял, что наступил на одну, и мне стало тошно. Только в детстве я испытывал такое чувство вины и жалости. Мне до сих пор это снится. Отец всегда говорил: когда кто-то умер, тело – это лишь ворох со старой одеждой, который больше не нужен душе. И вот мы нашли то, что искали. Поиск этой могилы едва не стоил нам жизни, и мы оберегали покой усопших и тщательно следили за тем, куда ставили ноги.
Нам пришлось потрудиться, чтобы все исправить. Стояла жара, кузнечики стрекотали что есть мочи, а ветер трепал сухую траву. Потом мы разбросали повсюду семена бергамота, рудбекии, подсолнуха, фиалок и душистого горошка. Эти семена мы всегда собирали в собственном саду и сохраняли их. Когда мы закончили, отец сел на землю у могилы деда. Он просидел там довольно долго, выдергивая маленькие соломинки, которые все еще торчали из могилы, и обмахиваясь шляпой. Думаю, он сожалел, что уже переделал здесь все дела. Наконец, он поднялся, отряхнулся, и так мы стояли вместе в насквозь пропотевшей затрапезной одежде, с перепачканными руками. И застрекотали первые сверчки, взволнованно стали сновать туда-сюда мухи, пронзительно закричали птицы, как они делают перед тем, как устроиться на ночь. Мой отец склонил голову и начал молиться, поминая отца перед Богом и прося прощения у Бога и у своего отца. Я сильно скучал по деду и тоже испытывал потребность попросить прощения. Но его молитва была очень долгой.
В том возрасте каждая молитва казалась мне долгой, к тому же я страшно устал. Я пытался держать глаза закрытыми, но через какое-то время мне пришлось оглядеться. И это я помню очень хорошо. Сначала я подумал, что мне показалось, как будто солнце садится на востоке. Я знал, где находился восток, потому что солнце как раз стояло над горизонтом, когда мы пришли на кладбище утром. Потом я осознал, что увидел полную луну, которая начала всходить, по мере того как солнце садилось. Оба светила касались линии горизонта, и между ними разливалось необыкновенное сияние. Казалось, до него можно дотронуться, словно осязаемые световые потоки ходили туда-сюда и их разделяли гигантские упругие ветви света. Я хотел, чтобы отец взглянул на это, но знал: мне придется отвлечь его от молитвы, и я хотел сделать это правильно, поэтому просто взял его за руку и поцеловал ее. А потом сказал: «Посмотри на луну». И он посмотрел. И мы стояли там до тех пор, пока солнце не село, а луна не взошла. Казалось, они так долго дрейфовали на линии горизонта… Видимо, потому что оба светила сияли так ярко, что невозможно было смотреть на них без отрыва. И эта могила, мой отец и я находились между ними, и это казалось мне удивительным, поскольку я не особенно много размышлял о том, что есть горизонт.
Отец сказал: «Никогда бы не подумал, что это место может быть прекрасным. Приятно это сознавать».
Мы выглядели так ужасно, когда наконец добрались домой, что моя мать разрыдалась, увидев нас. Мы оба исхудали, а наша одежда превратилась в лохмотья. Все путешествие заняло чуть меньше месяца, но мы спали в амбарах и сараях, а порой и на голой земле в течение той недели, когда заблудились. По окончании поездки я понял, что это было невероятное приключение, и мы с отцом часто смеялись, вспоминая откровенно жуткие моменты. Один раз какой-то старик даже пустил в нас пулю. Отец, как он тогда говорил, намеревался подобрать пару переросших морковок в огороде, который попался нам по дороге. Обычно он оставлял десятицентовик на веранде в качестве платы за то, что бы мы ни украли, и обычно этого было достаточно. Вот это было зрелище: отец в рубашке с длинным рукавом пробирался через шаткий старый забор с букетом из морковной ботвы, а его уже взял на мушку человек сзади. Мы убежали в кусты, а когда решили, что он уже не преследует нас, сели на землю, и отец очистил морковку от грязи ножом, порезал ее на куски и разложил на тулье своей шляпы, которую поставил между нами, как стол. А потом он начал воздавать благодарности Господу, о чем никогда не забывал. Он сказал: «Благодарим за пищу, которую послал нам Господь», – а потом мы оба расхохотались, и смеялись до тех пор, пока из глаз не брызнули слезы. Теперь я понимаю, как отчаянно он переживал за то, чтобы добыть нам еду. Он едва не превратился в преступника. Эта морковь была такой большой, старой и твердой, что нам пришлось построгать ее в мелкую соломку. С таким же успехом можно было жевать ветку, да и помыть ее мы не могли.
Только потом я понял, в какую беду попал бы, если бы отца подстрелили, а то и убили. Я остался бы там совершенно один. Мне до сих пор это снится. Думаю, он испытывал нечто вроде стыда, какой возникает, когда понимаешь, какую глупость ты совершил, уже после того, как дело сделано. И все же он твердо вознамерился найти эту могилу.
Однажды, желая подчеркнуть, что мне нужно впитывать знания, пока я молод и учеба дается легко, дед рассказал мне о человеке, с которым познакомился, когда впервые приехал в Канзас. Это был проповедник, обосновавшийся там лишь недавно. Дед говорил: «Этот человек плохо знал древнееврейский. Он мог пятнадцать миль топтаться на лютом морозе, прежде чем добирался до истинного толкования. Нам приходилось хорошенько разогревать его, и только потом он мог объяснить, что у него на уме». Отец смеялся и говорил: «Самое странное – то, что это, возможно, правда». Но тогда я запомнил эту историю, потому что мне казалось, как будто в нашей семье происходит нечто похожее.
Отец отказался от сбора остатков после жатвы и вернулся к обходу верующих, стуча в каждую дверь. Он не очень любил это занятие, ведь, узнав, что он проповедник, люди пытались дать больше, чем могли. Во всяком случае, он так считал. А они не сомневались в том, что он проповедник: вид у него был весьма потрепанный после одиноких скитаний, как он выражался. Некоторым хозяевам мы предлагали помочь с домашними делами в благодарность за еду, но люди просили его всего лишь процитировать Библию или прочитать молитву. Ему было любопытно, как они понимали, что он проповедник, и он часто спрашивал, что его выдало. Он гордился, что руки его загрубели от тяжелой работы, да и лишнего веса у него не было. Меня тоже часто рассекречивали, и я задавался вопросом: по каким признакам? Что ж, мы провели много дней, балансируя на грани катастрофы, а потом много лет смеялись над этим. И потешались мы всегда над самыми страшными моментами. Маму все это раздражало, и она просто говорила: «Даже не рассказывайте мне об этом».
Во многих отношениях она была исключительно заботливой матерью, бедная женщина. В каком-то смысле я был для нее единственным ребенком. Еще до моего рождения она купила себе новую книгу о том, как заботиться о здоровье. Это была большая и дорогая книга, куда более обстоятельная, чем Левит. Руководствуясь опубликованными в книге рекомендациями, мать не разрешала нам думать в течение часа после ужина или читать, когда у нас были холодные ноги. Идея состояла в том, что нельзя не создавать конфликтных потребностей в системе кровообращения. Дед как-то сказал ей, что если не читать с холодными ногами, то в штате Мэн не останется ни одной грамотной души, но она очень серьезно относилась к таким вопросам и только раздражалась. Она говорила: «В штате Мэн ни у кого нет битком набитых закромов, так что, выходит, все мы здесь равны». Когда я приходил домой, она отмывала меня и укладывала в постель, и кормила шесть или семь раз в день, и запрещала думать после каждой еды. Скука была смертная.
Это путешествие я расцениваю как дар, который ниспослал мне Господь. Оглядываясь назад, я понимаю, как молод был мой отец. Ему тогда не могло быть больше сорока пяти или сорока шести лет. Он и в почтенном возрасте оставался здоровым энергичным человеком. Долгие годы мы играли в мяч по вечерам после ужина, до тех пор пока солнце не садилось за горизонтом и не становилось слишком темно, чтобы разглядеть мяч. Думаю, он просто ценил то, что у него дома растет ребенок, сын. Что ж, я тоже был здоровым, энергичным стариком до недавних пор.
Ты знаешь, полагаю, что я женился на одной девушке еще в молодости. Мы вместе выросли. Мы поженились, когда я учился на последнем курсе духовной семинарии, а потом приехали сюда, чтобы я подменил отца на то время, пока они с матерью уехали на юг поправлять ее здоровье. Что ж, моя жена умерла при родах, и ребенок ушел вслед за ней. Их звали Луиза и Анжелина. Я видел девочку еще живой и даже подержал ее на руках пару минут, и я благодарю за это Господа. Боутон крестил ее и назвал Анжелиной, потому что я на день уехал в Фавор, а ребенок должен был родиться лишь через шесть недель. И некому было сказать ему, как мы решили ее назвать. Она была бы Ребеккой, но Анжелина – тоже хорошее имя.
В прошлое воскресенье, когда мы ходили на ужин к Боутону, я заметил, как ты смотришь на его руки. Они обезображены артритом, особенно заметно это стало теперь, когда кожа обтянула кости. Ты думаешь, он ужасно стар, но он моложе меня. Он был свидетелем на моей первой свадьбе и венчал меня с твоей матерью. Сейчас он живет с дочерью Глори. Жена покинула его, и это печально, но для Боутона настоящая отрада – видеть дочь каждый день. Глори заходила на днях занести мне один журнал. Она сказала, быть может, Джек тоже приедет домой. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы вспомнить, кто это. Ты, наверное, не так хорошо помнишь старика Боутона. Время от времени он бывает суров, что вполне понятно, если вспомнить, как плохо он себя чувствует. Жаль, если ты запомнил его именно таким. В лучшие годы он проповедовал блестяще, лучше, чем кто бы то ни было.









































