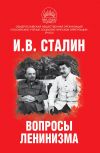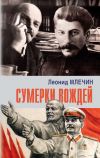Текст книги "Тетради для внуков"

Автор книги: Михаил Байтальский
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
35. Ничто не дается даром
Разве не поразительно, что Ленин – несравненный исследователь законов истории – в последнем своем письме (о котором он и сам знал, что оно может оказаться последним) говорил о личном характере двух людей, а точнее – о характере одного Сталина, как и факторе, который может решить судьбу огромного государства? Он писал о «необъятной власти» Сталина, тем самым констатируя, что в революции стала возможна такая власть: один человек над ста пятьюдесятью миллионами.
А мы распространяли завещание и не задумывались о содержащейся в нем косвенной характеристике государственной власти в СССР. Не задумывались над тем, как же получилось, что в первой стране победившего пролетариата уже через пять лет стала объективно возможной необъятная субъективная власть одной личности?
В стране с подавляющим большинством крестьянского населения, немалая часть которого еще помнила крепостное право, в стране самодержавия и помещичьего феодализма, в стране, где народ безмолвствовал не только при Борисе Годунове, но и спустя триста лет после него, исторически вырабатывались свои традиции, во многом отличные от, к примеру, традиций Англии с ее ранним капиталистическим развитием, с ее рабочим движением, с ее парламентаризмом и буржуазной свободой печати. Да, буржуазный парламентаризм лицемерен, но он все же воспитал в сознании трудящихся понимание того, что от них, избирателей, кое-что да зависит в государстве. Если бы у рабочих такого представления не было, зачем бы нам разоблачать лицемерие парламентаризма? Самодержавие же веками воспитывало в народе противоположную психологию: психологию послушания, робости по отношению к власть имущим, неуверенности в своем человеческом достоинстве.
Сходное положение в прессе. Да, буржуазная пресса продажна, она гонится за сенсациями, но именно в этой конкурентной погоне достигается (иногда и в ущерб интересам капитализма) хоть какая-то гласность. А что за гласность, когда судьи не дают подсудимым и слова произнести в свое оправдание? Если это – гласность, то и средневековое сожжение ведьм тоже можно назвать гласным: к костру сбегались все жители города. А казнимая не только не могла оправдаться: она уже призналась во всем, что ей приписали, не выдержав пыток. И зрители свято верили, что она поддерживала сношения с дьяволом.
Гласность суда помогает обществу разобраться в сути дела. Она принуждает обвинителя к точности и добросовестности, она карает позором неправедного судью. При том уровне общественного самосознания, который допускает охоту за ведьмами, достаточно показать толпе помело, и она поверит обвинению. Там же, где гласность вошла в обиход, обвинителю не поверят, пока он публично не докажет, что обвиняемый действительно совершил инкриминируемое ему деяние. Сравним дело Дрейфуса и дело Тухачевского. В чем разница между ними? В гласности. Да, дело Дрейфуса тоже разбиралось военным судом, в нем было множество подлогов и лжесвидетельств, по нему был вынесен неправедный приговор, но в печати и в обществе шли открытые споры об этом деле, вся Франция разделилась на "дрейфусаров" и "антидрейфусаров", и Эмиль Золя имел возможность открыто выступить против правительства.
Разница – в гласности, точнее – в привычке общества к гласности. Этой привычки у нас не было никогда. Ее отсутствие и дало Сталину возможность достичь такой необъятной власти – он достиг ее, конспирируя против партии. Но сам факт, что его власть стала столь необъятной, не поражал нас, активистов двадцатых годов. Его руководство казалось неприемлемым только из-за его личных недостатков, из-за некоторых его взглядов, его личного неумения пользоваться своей властью осторожно.
Значит, в его всевластии виноват не он один, но и все мы.
Всякие меры против превращения власти во всевластие в огромной степени зависят от культуры, традиций и психологии народа, выработанных в течение столетий. Старую государственную машину революция должна и может сломать. Новую же машину она обязана строить не на пустом месте, а на исторической, заданной всем прошлым развитием почве.
За небрежное издание брошюры "Третий Интернационал" Ленин предлагал засадить виновных в тюрьму и там заставить их вклеивать исправленные листы (см. том 51, стр. 70, 71). В какой цивилизованной стране есть необходимость прибегать к тюрьме, чтобы обучить работников культуры работать культурно? По-видимому, самый характер новостроящейся власти тесно связан и с исторической почвой под зданием, и с отечественным строительным материалом. Чем проще было в российских условиях разбить гнилое, трухлявое самодержавие, тем сложней оказалось построить на засоренной им почве самоуправляющееся общество. И нечего удивляться, что Сталин так быстро научил своих человеков началам феодального верноподданничества – у них были для этого все задатки.
Ничто не дается даром. Может, это и была наша тяжкая, но обязательная плата за обучение? Плата за победу пролетариата в стране, где свойственная крестьянству и мелкой буржуазии политическая неустойчивость своеобразно сочеталась с устойчивой, выработанной веками привычкой к ежовым рукавицам, к покорности и оглядке. Воспитанный ежовыми рукавицами не просто смиряется с ними, а и сам, дорвавшись до самой крохотной власти (хоть и в волостном масштабе), спешит надеть их на руки, убежденный, что иначе вообще управлять невозможно.
"Каждый ваш шаг, даже просто передвижение, регламентируется действием всемогущей бюрократии. Вы не можете ни жить, ни умереть, ни вступить в брак, ни написать письмо, ни думать, ни печатать, ни открывать торговое дело, ни учить, ни учиться, ни созывать собрание, ни построить фабрику, ни эмигрировать, ни делать что бы то ни было без разрешения властей." Так писал Маркс о прусской бюрократии более ста лет назад. Но то была Пруссия сто с лишним лет назад! А в послереволюционной России тридцатых годов – можно ли переехать из деревни в город без разрешения властей? Или выписать к себе на жительство стариков – родителей? Или – вот простейший пример: собраться нескольким подросткам в кружок политического самообразования, как летом 1917 года собирались мы, шесть или семь мальчиков и девочек глухого местечка, чтобы читать Лафарга, Плеханова и А.Н.Баха? Какие могут быть самовольные кружки, какое самообразование!
Тут следовало бы рассказать о нашем черновском кружке самообразования, предшествовавшем моему вступлению в комсомол, но мы и так слишком удалились от камеры № 358 в Бутырской тюрьме. Будем считать лирические и всякие прочие отступления как бы прогулкой – видите, песочные часы показывают, что пора возвращаться.
Володя Раменский считал себя политически подкованным на все четыре ноги и готов был дать по зубам своими подковами любому, кто усомнится в бесспорной для него истине. Отлично зная о лагерях, он верил, что такова свобода и что социализм иначе не строится. Цитату о том, что свобода есть осознанная необходимость, он помнил, но не задумывался над такой к примеру, логической задачей. Если личность А осознала, что для достижения высшей цели есть необходимость хорошенько и на всю жизнь напугать личности Б, В, Г, Д и т. д. возможностью попасть в исправительно-трудовые лагеря (за неправильное толкование этой цитаты), то не следует ли одновременно добиться, чтобы указанные Б, В, Г, Д ясно осознали необходимость своего исправления? И тогда лагерь (грозящий им или уже осуществленный – не имеет значения) будет для них свободой.
Сам Володя осознал необходимость своего исправления, но в лагерь ему явно не хотелось. По-видимому, для понимания цитат ему следовало знать и сочинения, из которых они взяты. Но Маркса, Энгельса, Ленина Володя только перелистывал, зато творения Сталина знал назубок. И верил каждой их строчке, как верили все школьники, а наравне с ними – и старики, которые до политкружка знали историю без вранья. Они быстро забыли ее, покоренные заслугами Сталина в беспощадной борьбе с уклонами.
Кроме истории партии и дюжины ходовых цитат из классиков марксизма, Володя был знаком и с историей наук. Тот, кто получал образование в первые послевоенные годы, помнит главную школьную истину того времени: русская наука имеет неоспоримый приоритет во всех областях. Володя понятия не имел о кибернетике и генах, но он и не хотел его иметь, ибо не стоит тратить время на буржуазную лженауку, через которую к нам может проникнуть гнилая идеология Запада. Через коктейль она, конечно, не проникнет: спирт дезинфицирует все.
Никто не сумел бы убедить Володю, что сталинская автаркия в науке есть реакционный бред. Повторяя заученные слова: "аполитичной науки нет", Володя не имел намерения создавать пролетарскую математику; его волновала более важная для государства проблема: ум народа неустойчив, его нельзя искушать – соблазнится!
Мой собутырник не был тупицей, он много читал. Особо был начитан в литературных новинках. "Бруски", "Кавалера Золотой Звезды", "Белую березу" и "Далеко от Москвы" он прочел раньше меня. Обмениваясь со мной мнением о "Брусках", он со слезами на глазах и с дрожью в голосе вспоминал эпизод, когда вчерашний собственник поворачивает коней, везущих телегу с полученным им на трудодни зерном, к общественному амбару… Он-то видел колхозы только в книгах сталинских лауреатов – и каждую такую книгу спешил прочесть. И легко запоминал – памятью он обладал отличной. Но, точь-в-точь, как "шибко партейная" невестка Кости Горошко, умел стереть из нее то, что писали вчерашние газеты, если сегодня они писали обратное.
* * *
Виды страха многообразны. Можно драться на фронте подобно льву, а в тюремной камере сделаться кроликом. Упираясь и дрожа всем телом, кролик сам идет в раскрытую пасть удава, послушный гипнотической власти его круглых, немигающих глаз.
Гипнотическая власть заученных Володей слов неожиданно вступила в диссонанс с его собственным арестом. Всех сажают правильно, как же это его самого посадили неправильно? То была первая замеченная им ошибка. Что ж, одна ошибка в революции возможна. Но и тут мой лейтенант сумел диалектически убедить себя, что его арест объективно оправдан, и его долг перед Родиной – самому идти в пасть удава, подчиняясь приказу его немигающих глаз и руководящему девизу "правда, вся правда". Он упирался, дрожал, но шел. Мы все упирались. Но шли.
Бесстрашный разведчик Володя Раменский терялся перед тюремным надзирателем. Он льстиво улыбался ему, и всякое его распоряжение стремился выполнить "на отлично", изображая это передо мной, как доблесть – привык, мол, к дисциплине, солдатская натура, наследственный солдат.
Убежденно выполняя тюремные правила, он не желал знать, кто сидит в соседней камере. Нам не раз стучали в стенку – он пугливо озирался на дверной глазок и немедленно принимал позу, ясно указывающую гражданину вертухаю, что не мы стучим, а нам стучат.
Один разок Володя все же заработал замечание: занялся утренней зарядкой. Вмиг открылась форточка, и надзиратель зашипел: "Отставить!"
Володя отставил и опасливо спросил меня:
– Как вы думаете, неужели за это лишат ларька?
Лишение ларька было для него ужаснейшим из лишений. Жена переводила на его счет максимально разрешенные суммы, и он заказывал в ларьке все, что там для нас продавали: колбасу, булки, масло, печенье. Заказы принимались раз в неделю. Раменскому приносили кучу снеди. Он ел и щедро угощал сокамерников. Но масло и колбаса быстро портились, и Володя с гримасой отвращения переходил на тюремную баланду, которую я, признаюсь честно, всегда выедал до дна. В ларёчный день Володя держался за живот и вымаливал у надзирателя разрешения на оправку в неположенное время. Он унижался напрасно. Если вертухай сделает исключение для одного, завтра захочется и другому. Никаких оправок!
По утрам, одновременно с подъемом, надзиратель просовывал нам в дверную форточку, кусок парафина, щетку и тряпку. Мы по очереди снимали пыль с решетки и до блеска натирали пол. Володя работал с превеликим усердием, добиваясь от своих собутырников такого же полового сияния, какое наводил сам. Похоже было, что он намерен вывести камеру № 358 в число передовых по гигиене решеток и зеркальности полов. А никто из надзирателей так и не похвалил нас ни разу. Видно, в других камерах сидели еще более настойчивые претенденты на красную доску.
36. Кредо в области зарплаты
Все убеждения лейтенанта Раменского были гранитные. Он был непреклонно убежден и в том, что ведомость на зарплату, в которой он расписывается при ее получении, составлена в соответствии с принципом «каждому по труду». Я спросил:
– Знаете ли вы соображения – заметьте, я о них не спорю, – по которым ваша ставка выше ставки машиниста, водящего тяжеловесные товарные поезда?
– Нет, соображений не знаю, но раз она выше, значит, так надо.
Я улыбнулся. Володя, задетый за живое, продолжал:
– Есть многое, чего я не могу марксистки объяснить, но чувствую нутром коммуниста: так надо. Нутром коммуниста, вы поняли?
– А вы не думаете, Володя, что нутро коммуниста обязывает подавать пример бескорыстного служения?
– Ага, – перебивает Володя, – значит, нам неправильно платят?
– Нет, – говорю я, – нам платят очень правильно, но я еще помню…
Я не успел договорить. Надзиратель открыл форточку и объявил: "Отбой!". После отбоя разговоры запрещены. Они и до отбоя не полезны.
Опасаясь, не подсажен ли Володя в наседки, я соблюдал осторожность, но видел, что некоторые вещи до него никогда не дойдут. Вопрос о средствах к существованию был из тех, при решении которых он никак не мог встать на точку зрения рабочего.
Володя говорил о своем жалованье с какой-то стыдливой ужимкой и наигранным равнодушием. Он как бы уверял: "О нет, я не шкурник, я не стал бы подымать шум из-за денег. Сколько платят, столько и платят. Я на все согласен".
А в рабочей среде, на заводе, мы слышим очень много разговоров именно о заработке. Ни один рабочий ничуть не стесняется во всеуслышание толковать о своих сдельных расценках на цеховом собрании и спорить о них с мастером. Эта тема считается обычной, законной и не зазорной. Но только в устной беседе и не дальше цеховых стен. Очеркист, а тем паче писатель из елейно живописующих рабочего, ею никогда не займется, разве только при живописании шкурника. Между тем, размер заработка волнует не только шкурников.
Споря с мастером и нормировщиком, рабочий всегда ссылается на формулу "по труду": ты ценишь мою работу не в соответствии с трудом, что я затратил, а дешевле. Оцени правильно! А нормировщик возражает: я нормирую не в соответствии с твоими личными трудовыми затратами, а согласно общественно-необходимому на сегодняшнем техническом этапе труду. В принципе нормировщик прав. Если нормировать, то только так.
Корень проблемы в другом – в том, что никогда не затрагивается споре: в денежной оценке одного часа работы. Она устанавливается свыше, ее не может изменить ни директор завода, ни министерство. Почему один час труда квалифицированного машиниста ценится дешевле, чем час труда лейтенанта Раменского? Вот в чем суть. Ссылка на ненормированный рабочий день лейтенанта затемняет, а не разъясняет положение. Чем доказано, что этот ненормированный день производительнее нормированного и, следовательно, достоин высшей оплаты?
Не приходилось ли вам задумываться над тем, почему среднерусские текстильные города постепенно стали городами женского труда? Ткачами в старину были мужчины – вспомните Петра Алексеева.[69]69
Петр Алексеев (1846–1891) – ткач, один из первых революционеров-рабочих. В 1877 году был приговорен к десяти годам каторжных работ.
[Закрыть] Но женский труд при капитализме оплачивается дешевле. И начался процесс превращения текстильной промышленности в женскую отрасль. Когда я работал на джутовой фабрике в Одессе, ткачей уже не стало – одни ткачихи. На базе «женского» уровня зарплаты выстроены и наши тарифы оплаты труда в текстильной промышленности.
О тарифе рабочий спорить не может – это материя темная и никогда не освещаемая. Но он не может не чувствовать свою правоту, когда сравнивает оплату труда рабочих и высших государственных служащих. Временами тарифные ставки низкооплачиваемым категориям рабочих повышаются – и это само по себе свидетельствует, что, устанавливая им тарифные ставки, исходили из произвольных построений. А затем эти построения обросли книгами, справочниками, инструкциями и т. п. За сорок с лишним лет вырос непроходимый справочно-теоретический лес, к которому и подойти страшно. Но растет он не на почве "по труду", а на почве, которую мой лейтенант, не умея, по собственному признанию, объяснить марксистки, определил словами "так надо". Вот это и есть адекватное действительности определение. Пусть диссертанты изыскивают цитаты; мы с Володей знаем, где корень: так надо.
Если Володя года три-четыре поработал на заводе после лагеря, он надеюсь, понял кое-что. Он мог увидеть, как сдельщина воспитала в рабочем узко личный интерес к заработку. Какой сдельщик хоть на миг задумается над понятием "фонд зарплаты"? О нем думают только начальник цеха и мастера, вынужденные заботиться о том, чтобы его не перерасходовать.
Психологический эффект сдельщины на том и основан, чтобы рабочие не были озабочены проблемой фонда зарплаты. Если я выгоню (заработаю) в этом месяце двести рублей вместо обычных полутораста, то добавочные пятьдесят рублей будут выплачены мне за счет других рабочих – и ни за чей другой. Но об этом я не должен думать. Я должен думать только о себе.
Правильное сочетание материальной заинтересованности и моральных побуждений достигается не сдельной оплатой, введенной в двадцатых годах как временная мера, а повременной, дифференцируемой по добросовестности и (в какой-то исторически ограниченный период) по квалификации.
Вот он, моральный-то критерий – добросовестность!
Добросовестность нельзя "ввести", в этом вся суть и вся трудность. Никакие кампании не помогут, никакие пропагандисты и агитаторы не помогут. Она воспитывается у трудящихся столетиями, хотя разрушить ее можно за два-три десятка лет. Она перекликается с наследственным уважением к труду и абсолютным неприятием принципа "авось, небось и как-нибудь". Она неотделима от самосознания личности. Она отрицает выслуживание, низкопоклонство и почтение к ежовым рукавицам. Словом, это целый общественно-психологический комплекс, где все связано между собой. И этот комплекс целиком противостоит тем привычкам и тем психологическим качествам, которые прививали нам через лагерный труд, через систему сдельщины, через привилегии слугам рабочего государства, через "план любой ценой" – и многое, многое другое…
37. Женский крик в коридоре
К нам с Раменским часто сажали третьего, а то и четвертого: в камеру втаскивали добавочные койки, хотя, судя по всему, в царские времена здесь больше одного заключенного не держали (так ведь и сажали тогда намного меньше).
За окном стояла темная ночь, когда загремел замок, и к нам ввели остриженного, дрожащего, с посеревшим лицом, но хорошо одетого в аккуратную служебную форму старого человека. В те годы завели форму для многих даже глубоко штатских ведомств – знак принадлежности к государственному аппарату.
На мундире нашего новобранца уже не осталось петлиц и пуговиц, значит, он успел пройти операцию обрезания. Обессиленный, он повалился на койку. Заговорить с ним мы не могли – до подъема, как известно, разговоры запрещены. Но и без слов состояние бедняги было ясно по исходившему от него запаху. Володя зажал себе нос – но и рот зажал, чтобы не хохотать. Мне самому было и смешно, и жаль старика. А он заплакал крупными детскими слезами, просясь у надзирателя пустить его на минуту, на одну только минуточку… Тот в ответ зашипел:
– Молчать! Спать надо! Ложитесь!
Надзиратели ко всему привычны и жалеть не имеют права. Старик разделся догола, свернул в угол свои пострадавшие кальсоны и лег под жесткое одеяло. Утром, обмыв на оправке слезы и все остальное, он рассказал нам свою повесть.
Он заведовал снабжением одного очень крупного учреждения. Первейшей и любимейшей его обязанностью была забота о столе, лечении, даче, нескольких машинах, и о других, беспрерывно растущих потребностях начальника учреждения. Новый знакомый описал, как преданно исполнял он свой долг. Само собой, он не голодал. Начальнику привозили издалека живую рыбу, для нее имелись специальные садки. По парочке рыбок разрешалось раздать тем и другим, в том числе и нашему бедняге. За что же, боже мой, за что посадили? Уж так старался, так старался!
Конечно, случалось рассказать анекдотик. А кто не грешен? В кабинете, без посторонних, бывает, сболтнешь приятелю. И тот чего-нибудь сболтнет. Ведь знаем друг друга годами. Все замешаны, все! А сажают одного. Почему?
И постепенно, день за днем, искусно подогреваемый следователем, наш анекдотист все сильнее ожесточался против тех, кто наравне с ним рассказывал анекдоты, но остался не арестованным, и получает живую рыбку, и курорты, и премиальные в незапечатанном конверте! И он, озлобленный, вопрошал нас:
– Разве не обязан я, как честный человек, разоблачить этих подлецов, этих бюрократов, этих зажиревших антисоветчиков?
Сам он уже потерял килограмм пять, а то и десять, и зажиревшим более не являлся. Он перечислял своих приятелей: один рассказывал, за что сидела Жемчужина, другой болтал об Аллилуевой, третий смеялся над лозунгом "догнать и перегнать", четвертый завел записную книжечку с шифрованными анекдотами – каждый отмечался шифром, например: "Я люблю сладкое" – это ужасный анекдот о товарище И.В. Сталине. Увлекшись разоблачениями, наш правдоискатель забыл, что арестанту запрещено называть не арестованных товарищами, и по правилам он обязан был сказать: "Ужасный анекдот о гражданине И.В. Сталине".
Вскоре нам стало ясно, что он назвал следователю чуть не всех своих сослуживцев. Не в одну камеру вводили, наверное, посеревших людей со споротыми петлицами и потом шёпотом вызывали их: "На фы! Одевайтесь, на допрос!".
Наш гость страдал тромбофлебитом, он стал энергично жаловаться фельдшеру, корпусному, врачу – и добился тюремной больницы.
Те дни, что он сидел с нами, были днями расцвета историй о бабах. Призыв кузнеца Слободского – вместо политики говорить о бабах – вовсе не был местным рецептом; он находил отклик от моря до моря. Наш постоялец, видимо, стремился перекрыть свое прежнее чрезмерное увлечение политическими анекдотами потоком эротических воспоминаний. Он смаковал подробности – чувствовалось, что он потчует ими слушателей не в первый раз. Володины истории все же были много благороднее, и в присутствии такого слушателя Володе не хотелось их рассказывать:
– Он свинья, неприятно… Станет выспрашивать детали…
Однако, следователю он рассказывал о своих женщинах – впрочем, может быть достаточно сдержанно… А тот разглядывал при этом негативчики.
И должно же было так случиться, что на вторую или третью ночь после ухода нашего постояльца с его беседами о бабах мы услышали рассказ женщины о себе самой – рассказ, состоявший всего из трех слов.
Среди ночи нас разбудил страшный женский крик; хлопали двери, слышались торопливые шаги обутых в сапоги ног (значит, начальство, надзиратели не топают). А женщина кричала:
– Светланочка! Светланочка! Отдайте мою Светланочку!
Она замолкла на минуту. Наверно, заткнули рот. И снова вырвался звенящий крик:
– Светланочка!
Мы поднялись с коек и стали гадать, что это было – ночью мы молчали, притворяясь спящими, хотя и не спали нисколько. Мы решили, что женщина помешалась и перестала понимать угрозы – и ее перевели из женского корпуса, где она могла взбудоражить всех, сюда, в наш коридор. Мужчины спокойнее. Волнуются, но не зовут Светланочку.
Скорее же всего, как мне думается сейчас, после многих выслушанных рассказов, у нее отняли грудное дитя. Арестовали с ребенком, привезли в тюрьму и тут вырвали из рук.
Женщине в тюрьме надо много сил. Ты сидишь перед следователем, сложив руки на коленях, и поток неслыханной грязной брани льется на твою голову. Каждую ночь повторяется этот ужас, а утром не дают спать. И, наконец, измученная этими безумными ночами на привинченном к полу стуле, ты подписываешь протокол. Кончайте, ради бога, отправляйте меня в лагерь! А Светланочку отдадут? Но Светланочку не отдадут. А ты еще молода и не сумела стать безобразной даже в ватных штанах.
Если ты не более, как жена того, кто объявлен врагом народа – тебе и дела создавать не станут, и даже видимости обвинения не пришьют, а просто дадут срок. Кровная месть, бытовавшая у некоторых народов, касалась только мужчин. Сталин мстил и женщинам, и младенцам. Тебе отмерено восемь лет исправительно-трудового лагеря. И повезут тебя в Караганду или в Яю, возле Новосибирска. В Яе засадят тебя за швейную машину, и будешь ты гнать из себя душу по двенадцать часов в сутки. Вспомнишь некогда читанные описания фордовского конвейера. Пригласить бы их сюда, авторов этих писаний!
Когда мимо тебя проходит, насупив брови, начальник фабрики Осипюк, ты втягиваешь голову в плечи и быстро-быстро строчишь на своей машине.
Зайдет Осипюк в браковочную и возьмет из кучи готового шитья солдатскую гимнастерку.
– Почему шов неровный? Почему, я вас спрашиваю?
И, не взглянув на онемевших от ужаса браковщиц, бросит:
– Всю бригаду в карцер!
Прежде, чем гимнастерка обольется кровью русского солдата, она насквозь пропитается слезами русских женщин.
Где он теперь, бывший начальник лагерной швейной фабрики Осипюк? Однажды выйдя на номенклатурную орбиту, он будет кружить по ней всю жизнь. Если не начальником лагерного производства, так управляющим промкомбинатом или директором кондитерской фабрики – в любом случае на руководящей работе. Осипюки и корневы не нуждаются в реабилитации – они не состояли под судом и следствием, как мы. Им нечего волноваться.
И ведь он честный член партии, Осипюк-то. Он не обязан интересоваться, кто ты. В его моральном кодексе нет такого пункта – интересоваться теми, кого он истязает. Ему дали тебя и сказали: вот жена врага народа, нечего с ней церемониться. И он не церемонится: сегодня отправил в карцер всю бригаду за вину Ивановой, завтра ту же бригаду – за вину Петровой. Пусть жены врагов знают Осипюка, если им удастся выйти живыми из карцера – он же знать их не обязан. Если палач станет вникать в слезы своих жертв, плана ему не выполнить.
Так работали жены расстрелянных, попавшие в руки осипюков.
Я не могу не рассказать в связи с этим историю Нины Ласовой.
Артемовскую комсомолку, милую, необыкновенную Нину, перед умом и честностью которой преклонялся Гриша Баглюк, я не видел тридцать с лишним лет, с двадцать девятого года, когда навестил в Москве Бориса, Марусю и ее. Нина, помнится, тогда еще не была замужем за Владимиром – назову его Кархановым, – одним из ветеранов одесского комсомола, работавшим затем в Донбассе. Там они и познакомились.
В тридцать седьмом Нина имела уже двух сыновей. Карханов работал секретарем одного из райкомов Москвы.
И пришел день, когда его арестовали.
Многих из его друзей и товарищей по работе тоже арестовали потом. Мало кто из той гвардии избег этой участи. Секретарем Московского комитета партии состоял тогда Н.С. Хрущев.
Но изо всех не арестованных партийных друзей Карханова, знавших, что он участник одесского подполья, беззаветно предан революции и безупречно честен, – из всех друзей только один заступился тогда за него: Нина. Правда, она его жена. Женам мстят не сразу, сперва помучат.
Самое крупное обвинение против Карханова заключалось в том, что в его районе медленно продвигается строительство бань. И еще несколько аналогичных преступлений приписывались ему. Нина не знала "состава преступлений" – зато она знала его самого.
Утром, после ночного обыска, она бросилась туда, куда в тот год обращались тысячи жен. Она пошла не просто справляться о нем, а заступаться. Не сомневаясь, что произошло недоразумение, она сказала:
– Я убеждена в его невиновности. Он такой же преступник, как и я. Арестуйте меня, раз так.
Но ей отказали. Товарищ Нина, вы честный член партии, нам не за что вас арестовывать, идите домой.
Они знали, что она придет снова. Они играли с ней в кошки-мышки, как играли с Гришей, отпустив его на два часа, и как играли с нами, давая довески. Конечно, она пришла еще и еще раз.
– Арестуйте меня, он такой же преступник, как и я.
Она думала, что если ее, бесспорно невинную, арестуют, то это ускорит разбор недоразумения с ее мужем. Она добивалась правды, не понимая случившегося. А игра продолжалась. И, когда мышь была уже полузадушена, кошка сказала, сощурив свои желтые глаза:
– Мы вас не арестуем, только задержим ненадолго.
И задержали на восемь лет. Одного ее сына родные увезли куда-то, а второй попал в детский дом, как и большинство детей врагов народа.
Ее муж был расстрелян, но она этого не знала. Она сидела в Карагандинских лагерях, огромных лагерях с таким несметным количеством заключенных, что и представить себе трудно. Кто бы мог найти одну песчинку в большой куче песку? А ее мальчик решил найти ее, свою маму.
Однажды детский дом потерял воспитанника Генку Карханова – мальчик убежал, его поймали, он убежал снова – он отправился на поиски мамы.
Не знаю, сколько времени голодный и оборванный мальчик ездил в товарных вагонах и стучался в незнакомые дома. Он отыскал свою маму в громадном лагере, где заключенные были нумерованы. На заводе, где работали также и вольные, нашлась смелая женщина. Она поняла, что ребенок ищет свою маму, доискалась Нины и дала ей знать: твой Генка у меня.
Ребята убегали из детдомов и до Генки и после него, но ни один не задавался такой целью и не добивался ее с таким мужеством. Вы, мальчики и девочки его возраста, можете придумать любые приключения – они окажутся бледнее действительности. Потому что действительностью был лагерь, а его могут придумать только взрослые…
Сколько бы я ни рассказывал, все рассказать не смогу. Геннадий о себе молчит, а Нина говорить не в силах, ее душат рыдания.
Мальчик жил в городе, а Нина – в лагере. Чтобы устроить их свидание, впервые в истории лагерей понадобилось не вывести втайне от начальства, а ввести в лагерь человека – маленького, но настоящего человека. И его ввели и спрятали. Вскоре окончился срок ее заключения, и Нина могла больше не прятать сына. Затем она нашла и младшего. Прошло еще лет десять жизни меченого человека, бывшего лагерника, которому позволяют жить только из великой милости. Когда ее реабилитировали (а мужа – посмертно), она узнала формулировку обвинения – медленное строительство бань! Обоих восстановили в партии. Он лежит неизвестно где, она живет в Москве. Я позвонил ей, она обрадовалась и велела немедленно прийти… Что говорить? От былой красоты не осталось почти ничего. Она хотела слышать о Грише Баглюке. Слезы лились из ее глаз, а она все твердила: "Говори, Миша, говори!".